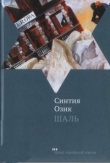Текст книги "Волчий след"
Автор книги: Леонид Сёмин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Леонид Павлович Семин
Волчий след



ВОЛЧИЙ СЛЕД
Посвящается немецкому коммунисту
Генриху Рау
Это произошло совсем недавно в небольшом западногерманском городе.
На кровати, натянув до подбородка едко-лиловое одеяло, лежал поджарый, со впалыми щеками человек. Его холодные, водянисто-зеленые глаза тупо смотрели в потолок. Там, на белой до синевы штукатурке, четко выступал ржавый подтек. Подтек чем-то напоминал голову с очень узким лицом и острым носом…
У окна, прижавшись лбом к стеклу, стояла женщина и пристально смотрела на улицу.– Ее фигуру скрывал свободный, с широкими рукавами, халат. На плечах лежали темные пышные непричесанные волосы. Женщина напряженно смотрела на большой серый дом, около которого стояли двое мужчин и полицейский. Мужчины, размахивая руками, что-то доказывали полицейскому. Тот невозмутимо слушал и молчал.
– Ну?.. – не разжимая губ, выдавил из-под одеяла человек.
– Собираются, – ответила, не оборачиваясь, женщина.
– Ага… – Он опять уставился в потолок.
Прошло несколько минут. От напряжения глаза у лежавшего на кровати подернулись влагой. Он нервно и резко позвал:
– Адель!
Женщина вздрогнула, сжалась и, медленно повернувшись, прошептала:
– Да, Макс…
Человек под одеялом неожиданно мягко улыбнулся и по-детски капризно приказал:
– Да вытри же мне глаза.
На миловидном, но уже немолодом лице Адели вспыхнул румянец. Она стыдливо прижала к груди чуть распахнувшийся халат, торопливо принесла полотенце и осторожно накрыла расслабленное, чем-то виноватое и как будто даже нежное лицо Макса… Но потом, когда сняла полотенце, лицо его было бледно, с брезгливо-злыми глазами. Прошла еще минута. Адель все еще стояла около Макса. Макс, не отрывая глаз от потолка, облизал сухие губы… Адель метнулась к столику, вынула из коробочки сигарету, сама прикурила и сунула в рот Максу. Глубоко затянувшись, Макс выдохнул вместе с клубком дыма:
– Ну что там?..
Адель вернулась к окну и радостно воскликнула:
– Толпа, Макс!.. Настоящая толпа.
– Ага!.. – И Макс громко рассмеялся.
На улице около большого серого дома шумела толпа. Здесь были и женщины с продуктовыми сумками, и рабочие в кепках, в легких не по сезону пальто, и обыватели в кожанках с меховыми воротниками, в калошах, и возбужденные, радостные ребятишки, и – один полицейский.
Человек в кожаной куртке соскребал ножом со стены дома свежую черную краску. Однако огромная свастика плотно впились в стену… Толпа возбужденно гудела:
– Долой фашизм!..
– Наци! Ваши волчьи следы видны снова… Мы не потерпим, слышите, наци!..
– Тихо. Тихо надо. Прошу разойтись, – твердил полицейский. – Разберемся.
Адель оторвалась от окна. Лицо теперь у нее было бледное, испуганное и усталое.
– Они идут сюда, Макс, – прошептала она.
– Ну и что?..
Адель зябко закуталась в халат и вяло опустилась на стул.
Полицейский и двое штатских вошли прямо в спальню.
– Прошу встать и одеться, – сказал полицейский.
Человек под одеялом усмехнулся. Адель рывком сбросила на пол одеяло. Полицейский вздрогнул и переступил с ноги на ногу. Штатские растерянно переглянулись. На кровати лежал безрукий инвалид. Что-то жуткое было в его фигуре, завернутой в безукоризненно чистое белье… Он очень напоминал статую. Бледное, с бескровными губами и холодными глазами лицо, тонкое, как ствол, туловище с обрезанными плечами и длинные жилистые ноги с плоскими ступнями. Человек вдруг закашлял. И туловище заходило, словно на шарнирах, а ступни ног застучали по спинке кровати, как деревянные. Полицейский солидно нагнулся, поднял одеяло и аккуратно Покрыл им безрукое туловище…
Допрос был коротким.
– Как вас зовут?
– Макс Оссе.
– А вас?
– Адель.
– Жена?
– Да.
– Свидетельство о браке?
– Потеряно.
– Когда поженились?
– О, это длинная и забавная история, – усмехнулся безрукий. – Были знакомы, потом любили. Потом война и прочее. Все перемешалось. В сутолоке внезапно потерялись…
– А потом?..
– А потом… – Он бросил на Адель жесткий взгляд. Та опустила голову.-Как видите, она снова со мной. И опять счастливы.
Полицейский подошел к шкафу и распахнул дверцы. Среди костюмов висел голубой мундир с серебристыми погонами.
– Осторожней, не запачкай мой мундир, – предупредил Макс.
Один из штатских прикусил губу. Другой – смотрел в окно, затем, обернувшись, резко спросил:
– Скажите, знаком ли вам Карл Шульц?.. – Помолчав, добавил: – И Антон Штрейтвизер?..
Безрукий передернул обрубками плеч:
– Может быть, и знакомы… Какое это имеет отношение ко мне?
– Они члены «немецкой имперской партии», замешаны в антиконституционных действиях.
– Чепуха, – нахмурился Макс. – Наша партия, в отличие от коммунистов, на легальном положении.
Полицейский, взглянул на штатских, потом, на Макса и, вздохнув, протянул ему бумагу:
– Распишитесь.
Макс высоко поднял ногу с плоской, как доска, ступней.
– Какой прикажете? Правой?– Он поднял ногу и протянул ее в сторону штатских: – А хотите, могу и левой!..
– Извините, – смешался полицейский и растерянно повертел в руках листок бумаги.
– Такие вещи не забывают. В другом случае я бы вас ударил… – стальным голосом отчеканил Макс. – Адель, распишись там, – равнодушно добавил он и отвернулся.
Они ушли…
Макс все еще лежал лицом к стене. Адель нервно вышагивал# по спальне.
– Макс, – наконец осмелилась спросить она. – Они могут арестовать нас?
– Черта с два, – пробурчал Макс. – Это будет полнейшим нарушением демократии Федеративной Республики Германии. Успокойся, детка. Дай мне сигарету.
Адель наклонилась, подавая ему дымящуюся сигарету. Макс сжал зубами сигарету и уткнул ее в шею женщины. Адель дернулась в сторону, на глазах ее блеснули слезы.
– Что, больно? – прищурясь, спросил Макс.– А мне разве не было больно, когда вы, как вонючие крысы, бежали из лагеря?.. Помнишь?
* * *
Я тоже помню! Я был не только очевидцем, но и участником тех событий, о которых хочу рассказать. В эти дни, когда в Западной Германии вновь подняли головы недобитые гитлеровцы, когда опять начали они бряцать оружием, мне особенно ярко вспоминаются картины прошлого, и все пережитое встает перед глазами во всех подробностях.
Концлагерь… Узкая, темная, как труба, комната мастерской бытового обслуживания, вся завалена рамами и колесами от старых велосипедов, патефонами, электроплитками, кусками жести, мотками проволоки, фанерой и прочим хламом. На стене – часы. Бесшумно и медленно качается маятник. На столе – радиоприемник. Около него – седенький, щуплый австриец Лемке и русский майор Новодаров. Они напряженно к чему-то прислушиваются. Одежда на них полосатая, с черными номерами и знаками. Головы от лба до затылка прострижены дорожкой.
Лемке смотрит на часы. Стрелки показывают ровно девять.
Мусс опять запаздывает. Это хорошо. Как пала Вена, он ходит, словно пришибленный…
– Да и все они, как волки… Думают об одном: как бы унести ноги, – говорит Новодаров.
С улицы в открытую форточку голос скрипки неожиданно доносит вальс Штрауса «Над прекрасным голубым Дунаем».
Лицо Лемке оживляется:
– Адам подает сигнал!..
Новодаров прикрывает форточку. Лемке осторожно включает радиоприемник, насмешливо качает головой:
– На двенадцатом году каторги я впервые «удостоен такой высокой чести» – ремонтировать приемник самому коменданту герру штурмбанфюреру Штофхену…
– Стоп! Москва… – Новодаров припадает к динамику. Он медленно поворачивает регулятор, и комнату наполняет уже другая музыка.
С боями взяли город Познань,
Город весь прошли.
На последней улице название прочли:
– На Берлин!
С шумом падает в углу лист фанеры. Новодаров и Лемке резко оборачиваются. С пистолетом стоит эсэсовец Мусс:
– Руки вверх!
Первым идет к двери щуплый Лемке. За ним – Новодаров. Он ни голову выше старика. Мусс рывком выключает приемник. На какое-то мгновение дуло парабеллума оказывается у виска Новодарова. Майор тяжело дышит, косит глазом на руку эсэсовца. Вдруг сильно бьет по этой руке. С тяжелым стуком ударяется о каменный пол мастерской массивный пистолет… Мусс и Новодаров, оба рослые, сильные, сцепившись, не выпускают друг друга. Лемке все еще стоит с поднятыми руками у двери. Мусс ловким приемом швыряет Новодарова в угол и тотчас кидается к пистолету. Новодаров с трудом успевает ухватить эсэсовца за начищенный до блеска сапог. Мусс плашмя растягивается на бутовом полу… Лемке, опустив руки, потянулся к парабеллуму. Мусс ногой бьет старика а живот и, откинув полу френча, выхватывает узкую, с чуть загнутым концом, как щучий нос, финку. Но – поздно. Новодаров успевает раньше: тяжелой рукояткой с маху оглушает эсэсовца…
На полу с проломленным виском – Мусс. В углу, оцепенев от ужаса, скорчился Лемке. Новодаров растерянно вертит в руках парабеллум. За окном поет скрипка: «Над прекрасным голубым Дунаем»…
Недалеко от лагеря – кучка молодых кудрявых лип. Сквозь листву проглядывают стены небольшого коттеджа. Широкие окна смотрят в сад. Одно из них распахнуто. Виден стол, трюмо, платяной шкаф. Макс Оссе – адъютант коменданта – стоит перед зеркалом. На нем новая форма. На груди, среди черных фашистских крестов, – советский орден Красной Звезды. Пустые рукава мундира заправлены под ремень… Рядом с Максом – Адель. Она – его руки. Адель на голову ниже Макса. На петлицах ее черного костюма белая брошь «мертвая голова», такой же знак и на берете.
Улыбаясь одними губами, Макс спрашивает:
– Ну как?.. К лицу мне этот пурпурный орден?..
– Да, Макс, – говорит Адель.
– А ты знаешь, как я его взял? – Макс остекленело смотрит в зеркало, и перед его глазами всплывает картина…
…Бугристое, голое поле, изрытое взрывами снарядов и перепаханное танками. Рослые эсэсовцы бежали в тонких зеленых рубашках с расстегнутыми воротами. Впереди всех – Макс. Он упирал затыльник шмайссера в живот и беспорядочно стрелял. Вдруг из окопчика поднялись те самые, которых надо убивать. На них мятые гимнастерки и пилотки с красными звездочками… Обгоняя всех, бежал светловолосый командир. Макс угадал в нем офицера по ремням на гимнастерке. И вот они уже один на один. На какое-то мгновение Макс отчетливо увидел белый пушок над верхней губой русского и широко открытые глаза: в них не было ни страха, ни злобы – ничего. Они были очень светлые, как осенний ледок. Может быть, в них отражалась синева неба. Макс не стрелял. Он с плеча ударил прикладом по лицу офицера. И, когда тот упал, обхватив голову руками, Макс выпустил очередь в узкую грудь юного лейтенанта. А потом, наклонясь, вырвал с"куском материи орден и опустил в свой карман. Но затем… затем случилось все остальное: он увидел спускавшийся ему навстречу с бугра танк… Он не помнил,, как упал, окутанный разрывом, не видел и не чувствовал, как оторвало ему руки. Поднялся – вместо рук болтались окровавленные клочья рукавов рубашки. Макс кинулся прочь. Долго ли он бежал, сейчас не вспомнить. Но бежал изо всех сил… Потом сознание покинуло его.
– Да… Этот пурпурный орден я взял под Ленинградом. Место то называлось Пулкоф…
За окном назойливо пилит скрипка.
– Черт его знает, заладил одно и то же… Ты бы сходила, Адель, стукнула болвана по затылку… Да напомни ему, я люблю солдатские песни!
Женщина в черной форме покорно поднимается с дивана. Но в это время звонит телефон. Адель снимает трубку, подносит ее к уху Макса. Макс слушает и чеканно отвечает:
– Яволь, герр штурмбанфюрер!.. Яволь!.. Яволь!..
На другом конце провода телефонную трубку держит комендант Штофхен. Он сидит в кабинете за массивным столом. На столе телефонные аппараты: белый и черный. Между ними разлегся ангорский кот. Канцелярские принадлежности из бронзы. Пресс-папье изображает сходни, волны и русалку. Пепельница в виде черепахи. Справа от стола на стене большой из черного бархата ковер. На ковре серебристыми нитками вышит череп с костями и буквы СС. На другой стене картина: Гитлер с цветами.
Комендант держит трубку белого телефона:
– Макс! Принесите мой приемник… Если он все еще не готов, сведите старого колдуна к виселице и примерьте петлю на его тощую шею…
– Яволь, герр штурмбанфюрер!.. Яволь!.. – чеканно отвечает адъютант.
Адель кладет трубку на рычаг.
– Адель, сними эту… – подбородком трогает он Красную Звезду.
Пройдясь по комнате, Макс останавливается у окна и, резко обернувшись на каблуках, приказывает:
– Коньяку!..
Адель ставит на стол бутылку, стопку. Наливает, подносит к губам Макса.
– Хочешь, выпей и ты, – милостиво разрешает Макс, высасывая лимон.
Адель с благодарностью смотрит на него, наливает себе.
Они выходят на улицу. На гранитной арке ворот лагеря высечено:
«Arbeit macht Frei!» (Работа дает свободу).
Над лагерной площадью переливается мелодия штраусовского вальса.
– Не сошел ли этот болван с ума? – говорит Макс. – Целый час пилит одно и то же!.. Сейчас я на него взгляну…
Адель смеется:
– Может быть, этот идиот наказан. Их блокфюрер любит такие шутки: пять часов подряд играть что-нибудь…
По площади маршируют заключенные. Они в коротких полосатых пиджачках и брюках, в деревянных колодках на босу ногу, в мятых чепцах.
«Хлык, хлык, хлык!..» – глухо стучат колодки.
– Линке, цвай, драй, фир… Линке унд линкс!.. Равнение, равнение! – командует идущий сбоку строя заключенный. У него сытый вид, на рукаве черная повязка с белой готическим шрифтом надписью «Блокэльтестер» (блоковый старшина).
Завидев Макса, блокэльтестер зычно командует:
– Линкс, цвай, драй, фир!.. Линкс унд линкс!..
«Хлык, хлык, хлык!» – стучат колодки.
Макс с Аделью направляются к каменному сараю. Над ним – высоченная мачта. На флагштоке, как флюгер, черный жестяной эсэсовский флаг.
Если смотреть с высоты этого жестяного флага, залитая асфальтом площадь лагеря напоминает квадрат с рядами бараков. Перед бараками – газоны и бледно-серые вазы с цветами. За бараками – густая сеть колючей проволоки и сторожевые вышки. С круглых вышек на лагерь направлены дула пулеметов. Неподалеку от каменного сарая мастерской бытового обслуживания – виселица. Легкий весенний ветер лениво покачивает петлю.
В прозрачной синеве неба беспечно, радостно смеется солнце. Грустно поет скрипка. Скрипач стоит у открытого окна. По изможденному лицу его катятся капли пота. Резко обозначены скулы и челюсти. Глаза беспокойно косятся на каменный сарай. Заметив на площади безрукого адъютанта, Адам резко обрывает игру… Он с минуту наблюдает за Максом, затем поднимает скрипку и, взмахнув смычком, начинает играть «любимую солдатскую песню».
Макс усмехается:
– Заметь, Адель. Этот польский пес не дурак. Увидел нас, сразу переменил пластинку!
В каменном сарае тоже замечают смену «пластинки». Взглянув в окно, Лемке отскакивает как ужаленный.
– Безрукий идет! К нам…
В руках Новодарова замирает лопата. Он стоит в яме, вырытой посреди мастерской, и не может оторвать взгляда от листа фанеры, из-под которого торчат ноги эсэсовца Мусса.
– К нам идут! К нам, – заплетающимся языком повторяет старик.
Лицо Новодарова становится белым. Он достает из кармана парабеллум, ставит ударник на предохранитель.
– Линке, цвай, драй, фир!.. Линке унд линкс!.. – доносятся слова команды.
Страшно звучит «любимая солдатская песня». Скрипач играет как невменяемый, то и дело сбивается с такта.
– Понимаем тебя, Адам… Понимаем, – бормочет Новодаров, сжимая рукоятку пистолета.
Макс и его «руки» в черной юбке приближаются к мастерской. Мимо проходит строй заключенных. Блок-эльтестер, размахивая резиновой дубинкой, протяжно командует:
– Заключенные, шапки долой!
Прижав к бедрам чепчики, повернув простриженные головы, в сторону безрукого, мы все громыхаем колодками.
– Куда идете? – спрашивает Макс.
– В баню, герр оберштурмфюрер!-докладывает на ходу блоковый старшина.
– Сигарету! – приказывает Макс.
Адель ловко прикуривает и вставляет в рот Максу дымящуюся сигарету.
Они сворачивают к низкому продолговатому зданию бани…
Скрипач выбегает из барака и торопливо идет за ними.
Концлагерная баня мало чем отличается от обычной. Но здесь иной порядок… Юркий арестант в комбинезоне с черной повязкой на рукаве и надписью: «Дезинфектор», завидев входящего безрукого и эсэсовку, ошалело подает команду: «Ахтунг!» и четко докладывает.
Макс разрешает мыться. У всех на шее висят на шнурочках железные номерки.
Из леек брызжет теплый дождь.
– Эй, Адам, музыку!..
В душевой появляется Адам в длинной до колен рубахе и без кальсон. В руках у него скрипка с голубым бантам на грифе. Видно, он не успел снять рубашку. Обычно его заставляют играть раздетым.
– Играй нашу любимую!
Жилистые пальцы Адама касаются струн. Дезинфектор, как дирижер, взмахивает руками, а обтянутые кожей скелеты дружно восклицают:
– Лили Мадлен!
Член подпольного комитета заключенных, Сергей Кленов, говорит своему соседу:
– Лучше петь, чем получать оплеухи или принимать холодный душ…
Стонет скрипка^ поют заключенные. Макс смотрит на Адель, улыбается.
– Сегодня, наконец, мы получим новости… Уже тридцатое апреля. Может, наши уже в Берлине?.. – шепчет Кленов.
– Кто такое, мытье придумал? – смеется Адель.
– Он, – кивает Макс на дезинфектора.
– Забавно придумал, – замечает Адель. – Я, пожалуй, дам ему сигарету…
В баню входит коротконогий, толстый эсэсовец с добродушной, словно застывшей, улыбкой. Это военврач. Он приказывает принести «инструмент». Дезинфектор стремглав кидается в боковую комнатку, приносит тетрадь, банку и кисточку.
Заключенные выстраиваются в очередь. Врач берет кисточку. Мельком взглянув на «пациента», он обмакивает кисточку в банку с красными чернилами и небрежно рисует на лбу цифру. Дезинфектор делает пометку в тетради. Самые истощенные получают единицу. Люди средней упитанности – двойку. Свежие – тройку. Кое-кому врач ставит дробь: один на два, два на три.
Подходит Сергей Кленов. Он получает тройку.
– Что означают цифры? – спрашивает Адель.
– Это новое распоряжение из политишеабтайлюнга. Шульц знает, что делает, – поясняет Макс. – С единицами пойдут носить камни и скоро передохнут сами. С тройками отправим в газкамеру. Потому что они еще здоровы, а ждать некогда.
Выйдя из бани, Макс направляется в сторону мастерской бытового обслуживания. С вышки раздается пулеметная очередь. Макс останавливается. С высоченной березы, стоящей за лагерем, срывается стая грачей. Птицы с тревожным криком кружат над лагерем.
– Ах какая прелесть, – восторгается Макс. – А ты знаешь, раньше я был страстным охотником…
Адель восхищенно смотрит на Макса.
– О да, – продолжает Макс. – Россия чертовски богата дичью. Однажды водил нас на охоту старый русский дед. Он знал, где лежит медведь. Это была великолепная охота. Мы подняли медведицу-маму с двумя ее сынками. Шкуру потом взял наш ротный, а малых медвежат сам командующий. Специальным самолетом отправил он их к себе домой вместе со старым русским дедом. То был его рождественский подарок семье. Великолепно!..
Летают потревоженные грачи… На проволоке повис расстрелянный человек.
– Это американский летчик, – поясняет спутнице Макс. – А второго так и не поймали. Как сквозь землю провалился… – Макс вспоминает ту ночь, когда над лагерем был сбит американский бомбардировщик и два летчика выбросились с парашютами. – Скорее всего он утонул в Дунае.^
Обойдя виселицу кругом, они останавливаются у мастерской.
– Есть подозрение, – небрежно сплевывает Макс,– что Лемке подслушивает радиопередачи. Потому весь лагерь и знает, что делается на фронтах. Так сказал вчера Штофхен.
– Я бы его повесила, – спокойно замечает Адель.
– А я бы выдернул ему язык.
В мастерской в это время Новодаров торопливо прилаживал на прежнее место бутовую плиту. Лемке разметал веником землю.
При входе Макса с Аделью Лемке вытягивается и, как старший арбайтс-команды, хрипло выкрикивает «Ахтунг» и докладывает. В руке его веник. Он забыл его бросить. Макс подозрительно смотрит на этот веник.
– Чем вы сейчас занимались?
– Коммандорфюрер приказал произвести генеральную уборку! – не моргнув глазом, докладывает Лемке.
– Где он сам?
– Только что куда-то вышел.
Макс пристально смотрит на старика. Руки Лемке мелко дрожат.
– Радиоприемник исправлен?
Макс подходит к столу, смотрит на приемник, коротко приказывает:
– Несите его за мной.
Новодаров осторожно поднимает приемник.
Грачи возвращаются к гнездам на березе. Далеко за лагерем видна широкая голубая лента реки. Обрывистые берега поросли лесом. Километрах в четырех от реки высятся горы.
За каменными глыбами прячется американский летчик Джонни Доул, капрал. Он среднего роста, худощавый, небритый. Доул смотрит вдаль, на виднеющийся лагерь:
– Я видел черный флаг. Черный негнущийся флаг. Чертово логово. Где ты, Майк? Что будет с твоей матерью, когда она узнает… Ах, Майк, Майк… Что я скажу ей, когда вернусь? Она ведь живет только ради тебя. Ты должен остаться живым, Майк. Черт побери, умирать в двадцать три года, в конечном счете, глупо. Поразмысли над этим, Майк… Я ведь видел, ты спускался следом за мной. Твой парашют раскрылся тотчас, как только раскрылся мой. Жаль, что тебя потом отнесло в сторону. Я слышал лай собак и выстрелы. Ах, Майк… Твоя старушка не выдержит, если тебя… Возвращайся, Майк. Мы все будем рады… Но что же мне теперь делать? Должно быть, ждать ночи…
Доул забирается в расщелину. Лес здесь редкий. Но и в этом редком лесу поют, радуясь весне, птицы.
– Да хранит тебя бог, Майк. Да хранит он и меня, – бормочет капрал Доул.
Вниз под уклон тянется от лагерных ворот дугообразная мощенная булыжником дорога. Она обрывается возле остроконечной скалы, переходя в лестницу. Узкая и крутая лестница с гранитными ступенями ведет к карьеру, на ровном дне которого, поднимая белую каменную пыль, работают каменотесы. Под скалой видны штольни. В подземных цехах, строятся ракетоснаряды Фау.
В пыли копошатся сгорбленные фигуры каменотесов. Уши разрывает грохот молотов и трескотня долбежных зубил. Рядом работают старик и юноша в синем берете. Время от времени они перебрасываются фразами. Сильно нажимая на затыльник зубила, старик горько усмехается:
– У тебя, Коля, мозги набекрень… Ты вот не подумал о том, что тут, в каменоломне, было десять тысяч немецких антифашистов. И все накрылись… Почему же они не устроили побег, ежели так все по-твоему просто: раз-два – и смотался?..
Серые глаза Коли укоризненно смотрят на старика:
– Значит, дядя Аверьян, они не сумели организоваться!
Дядя Аверьян искоса посматривает на бригадира каменотесов с черной повязкой на рукаве и надписью «капо». Тихо отвечает:
– Значит, была такая обстановка.
– Да нам же не революцию тут устраивать, возмущается Коля. – Тут только поднеси спичку, сразу вспыхнет. Люди, как порох!
Дядя Аверьян хмуро глядит на капо, который бродит между каменных глыб крадущейся походкой. Вот он останавливается позади одного из каменотесов и сильно бьет его кулаком по спине:
– Арбайт!.. Арбайт!.. Арбайт махт фрей!.. – кричит он.
– Видно, не активно действовали, потому и дали себя перебить, – продолжает возражать Коля.
– Не активно?.. – Дядя Аверьян щурит глаза. – Милый дружок, не все здесь думают так, как мы с тобой. Другой может и шкурником оказаться. Вот тебе и провал.
– Ну чего же тогда ждать?.. Думаешь, они выпустят нас?.. Говорят, есть приказ Гиммлера: лагерь уничтожить при подходе наших войск… Уж лучше броситься на проволоку, как сегодня сделал это американец, чем ждать, когда тебя задушат в газовой камере…
Терпеливо выслушав Колю, дядя Аверьян качает головой:
– Об американце я слышал и другое: его загнали на проволоку.
– Все-таки он умер смело. А о нас кто хорошее скажет? Попали к ним в лапы, подохли в концлагере. Безвестно и бесславно!
– Не совсем так, Коля. Попадают при сложных обстоятельствах даже герои.
– Нет, прежде всего – трусы!
Дядя Аверьян снимает очки, оборачивается всем корпусом к парню:
– Стало быть, дорогой дружок, мы с тобой – те же трусы?
– Ну… я, например, попал… – Коля растерянно смотрит на камень, – попал нелепо. У нас было просто аховое, положение…
Видя, что Коля собирается объяснять, дядя Аверьян останавливает его:
– Об этом ты уже рассказывал мне… Знаю… Нет, друг, ты не вешай всем подряд ярлык труса и не выгораживай себя.
Коля перестал работать, сердито смотрит на старика. Потом упавшим голосом говорит:
– Ну и пусть. Пусть я трус, как думают некоторые. Все равно я не сдамся им в последнюю минуту. Зубами хоть одному да перерву глотку…
– Арбайт, арбайт! – кричит издали капо. – Арбайт махт фрей!
Не работающего Колю увидел эсэсовец. Крадучись, он пробирается меж каменных глыб, расстегивает кобуру-
Дядя Аверьян заметил, начал усиленно долбить камень. Коля понял, что близко опасность, оглянулся. Эсэсовец поднял пистолет.
– А-а… гад… – кричит Коля.
Он хочет спрыгнуть с камня, но не успевает. Гремит выстрел.
Работают каменотесы. Среди них и я. Несется трескотня долбежных зубил. Поднимается белая пыль.
Труп юноши лежит на каменной квадратной глыбе, которую он обтесывал.
Дядя Аверьян долбит камень. Рядом стоит эсэсовец. По щекам старика текут и текут слезы…
А рядом, в подземном цехе, тускло светят электрические лампочки, гудят станки и всюду тоже ходят надсмотрщики. Но и здесь люди не перестают думать о том, о чем думал Коля. Вот два станка: фрезерный и строгальный. Человек, работающий на строгальном станке, скептически замечает фрезеровщику:
– Брось, братишка, все это болтовня… Успеют наши подойти к лагерю – будем живы. Не успеют – всем каюк.
– Ну, если так рассуждали бы все, можно быть уверенным: нас давно бы передавили, как блох!.. А мы все-таки не блохи.
– Значит, ты считаешь, что они нас боятся и потому не могут расправиться? Так, что ли?
– В какой-то мере и боятся. А. что?
– А я так думаю: Гитлер хватается, как утопающий, за соломинку. На что-то еще надеется. Потому мы и нужны ему. По слухам, от Германии остались только клочья, а война все ж таки продолжается. Не будь мы нужны, нас бы давно испекли.
– Ну-ну, строгай, строгай усерднее. Да скажи прямо: не хочу, боюсь. А то развел антимонию… – Фрезеровщик зло сплевывает. – Попомни, найдутся, которые не испугаются!
– Дело не в страхе, – возражает строгальщик.– Я не понимаю одного, почему ты скрываешь от меня подробности?..
– А ты слыхал, есть такое слово: конспирация?..
– Если бы все это серьезно, я бы первый загробил этот станок! А то сыграешь в подпольную организацию и за эту игру повесят!
– Позволь тебя спросить, – сдерживая раздражение, говорит фрезеровщик. – Откуда мы получаем новости о положении на фронтах? Может, ты думаешь, что об этом любезно рассказывает сам Штофхен или его помощнички? Или их приносят новички, которые уже по году, а то и больше просидели вот в таких же пещерах?..
– Я не знаю, – смущенно признается строгальщик.– Можно, конечно, догадываться, что кто-то нас информирует… Но, пойми, все-таки очень трудно представить организацию в наших условиях.
– Трудно представить? А вот кто-то не представляет. Кто-то во всю действует! И от нас требуется только одно: подбирать подходящих людей.
Задумавшись, строгальщик не сразу отвечает:
– Люди, конечно, найдутся… Вот тут есть паренек боевой, камни обтесывает. Хоть сейчас пойдет на что угодно.
– Вот и поразмысли хорошенько, может, еще кого вспомнишь. И держи их на уме, пока при себе…
Мимо разговаривающих проходит высокий, изможденный узник. В руках у него какие-то детали, которые он несет к своему станку. Глянув на фрезеровщика и строгальщика, он на ходу, скороговоркой сообщает:
– Осторожнее разговаривайте. Сейчас только что эсэсовцы убили каменотеса. Паренька в синем берете… Тоже разговаривал.
Строгальщик широко открытыми глазами смотрит вслед прошедшему, шепчет:
– В синем берете?.. Колю?!.
Солнце скатилось за горы. Медленно цепляясь за сучья кустов, оставляя белые клочья на проволоке, в лагерь заползает туман. Около одного из бараков прогуливается Кленов. Когда он проходит мимо дверей, над которыми, покачиваясь на ветру, мигает лампочка, свет падает на его лицо. И на лбу четко выступает красная цифра три. Смывать ее запрещено в течение двух суток.
Арестантская одежда на Кленове аккуратно подогнана. Этим он слегка выделяется среди заключенных. Кленов ходит, озабоченно посматривая на переулочек. Брови его сдвинуты, в глазах напряженное ожидание. В сумраке появляется высокий Новодаров. Кленов взволнованно шагает навстречу, тихо говорит:
– Товарищ майор, уже думал, вы не придете.
Новодаров жмет его руку:
– Знаешь, я теперь в новом бараке. Надо было осмотреться, люди незнакомые.
– Перевели?
– Да. Часа два назад.
– Почему?
– Откуда ж мы знаем, – пожимает плечами Новодаров. – Кроме того, я – заложник. Может быть, хотят куда-то отправить, вот и сортируют… – Он кладет широкую ладонь на плечо Кленова: – Ну а у тебя что?..
– Генрих ждет вестей.
– Вести разные. – Новодаров берет Кленова под руку. Они медленно идут по переулочку между бараками.
– Опусти руку в мой карман, да смотри, не обожгись,– говорит Новодаров.
Кленов опускает руку в его карман и, дотронувшись до пистолета, удивленно поднимает глаза.
– Пойдем на «проспект», – смеется Новодаров.– Там все-таки меньше подозрений… Удивляешься, откуда эта штука? Н-да… Здесь ее достать можно лишь… – Он медлит, потом спрашивает с усмешкой: – Не понимаешь, в каком случае?
Кленов с недоумением смотрит на Новодарова. Лицо майора становится суровым.
– Я говорю, надо отнять у того, кто имеет!
– А-а! – вскрикивает ошеломленный Кленов.
– Тихо! – Новодаров прикладывает к его губам пальцы. – В двух словах скажу, как было.
Уже совсем стемнело. Над лагерем маячат черные трубы крематория. Они выбрасывают багровые языки огня.
«Проспект» ярко освещен. На сто метров в длину тянется густая проволочная сеть. На проволоке цепочка красных вперемежку с белыми электрических лампочек. Свет от них падает на асфальтированную панель, по которой ходят заключенные. В гладком влажном асфальте шеренга ламп отражается, как в зеркале.
По «проспекту» разгуливают преимущественно аристократы лагеря: капо, блоковые старосты, кухонные работники. У них свои дела: разработка комбинаций по добыванию продуктов и табака. Здесь они мало обращают внимания на рядовых каторжан, редко придираются к ним.
Глядя на мокрый асфальт, Кленов вздыхает:
– Зажмурить бы глаза и вдруг оказаться на Невском… Что можно за это отдать? Все! Кроме жизни… А как хочется жить.
– В моей части служил один ленинградец, твой земляк. Кажется, жил он на бульваре… Профсоюзов.
– Профсоюзов?! – восклицает Кленов и взволнованно продолжает: – Тихий, зеленый бульвар. Там мой дом. – Он останавливается и, закрыв рукой глаза, старается представить себе бульвар, дом, жену и маленькую дочку.,. Вот они идут по бульвару… Июль. Ветерок колышет над головой зеленую листву. «Пап, а ты надолго уезжаешь?» – «Глупышка, наш папа уходит на войну». – «На войну? А это интересно? Как в кино?»