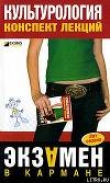Текст книги "Русские поэты XX века: учебное пособие"
Автор книги: Леонид Кременцов
Соавторы: В. Лосев
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В.Ф. Ходасевич
(1886–1939)
Владислав Фелицианович Ходасевич был современником таких мастеров русской поэзии, как Н. Клюев, М. Волошин, Н. Гумилёв, А. Ахматова, Б. Пастернак, О. Мандельштам и другие. Но в отличие от них, либо возглавлявших, либо входивших в состав многочисленных групп, школ, литературных течений и направлений, в изобилии функционировавших в литературе серебряного века, он не примыкал ни к кому и шел своим путем – «путем зерна», как он его называл.
Возможно, что одна из причин этого заключалась в том, что как личность Ходасевич сформировался в польской католической семье и постоянно доказывал самому себе право пребывать в русской культуре:
России – пасынок, а Польше —
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя.
Восемь томиков – это популярное в начале XX века издание сочинений А.С. Пушкина. Вся деятельность великого русского поэта, все его творческое наследие были для Ходасевича неиссякаемым источником вдохновения: он писал продолжения его неоконченных стихов, создал книгу «Поэтическое хозяйство Пушкина», его оригинальные стихотворения изобилуют пушкинскими ассоциациями – «Люблю людей, люблю природу», «Памятник» и многие другие. Художественный мир Ходасевича стоит на пушкинских ценностях. Они определяют тематику и звучание его стихов:
…для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
Вот счастье! вот права…
Хотя чаще, чем у Пушкина, звучат у него трагические и религиозные мотивы. Обратить на себя внимание в том половодье великолепных стихов, какое явила миру в те годы русская литература, было не просто. Ходасевичу это удалось уже в первых его поэтических сборниках «Молодость», «Счастливый домик» и других, созданных до 1917 года. Вершина же его поэтической деятельности пришлась на первые послереволюционные годы – сборники «Путем зерна» и «Тяжелая лира».
В 1922 году Ходасевич эмигрировал. В зарубежных стихах, собранных в сборнике «Европейская ночь» (1927), обращает на себя внимание решительное преобладание русской тематики. Программным же произведением поэта осталось стихотворение «Путем зерна», открывавшее поэтический сборник под этим названием.
Библейская притча о сеятеле из Евангелия от Матфея перекликается у Ходасевича с мотивами стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный». Его волнует главная для него проблема: судьба и долг поэта – проповедника, сеятеля, пророка – в новых исторических условиях:
Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец и дед его по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.
23 декабря 1917 года
Жизнь Ходасевича, как и жизнь большинства русских эмигрантов, закончилась печально. Он умер в парижской больнице для бедных. Его имя и его творчество вернулись в Россию только несколько десятилетий спустя.
СТАНСЫ
Уж волосы седые на висках
Я прядью черной прикрываю,
И замирает сердце, как в тисках,
От лишнего стакана чаю.
Уж тяжелы мне долгие труды,
И не таят очарованья
Ни знаний слишком пряные плоды,
Ни женщин душные лобзанья.
С холодностью взираю я теперь
На скуку славы предстоящей…
Зато слова: цветок, ребенок, зверь —
Приходят на уста все чаще.
Рассеянно я слушаю порой
Поэтов праздные бряцанья,
Но душу полнит сладкой полнотой
Зерна немое прорастанье.
24–25 октября 1918
АНЮТЕ
На спичечной коробке —
Смотри-ка – славный вид:
Кораблик трехмачтовый
Не двигаясь бежит.
Не разглядишь, а верно
Команда есть на нем,
И в тесном трюме, в бочках,
Изюм, корица, ром.
И есть на нем, конечно,
Отважный капитан,
Который видел много
Непостижимых стран.
И верно – есть матросик,
Что мастер песни петь
И любит ночью звездной
На небеса глядеть…
И я, в руке Господней,
Здесь на Его земле, —
Точь-в-точь как тот матросик
На этом корабле.
Вот и сейчас, быть может,
В каюте кормовой
В окошечко глядит Он
И видит – нас с тобой.
25 января 1918
* * *
Не матерью, но тульскою крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен.
Она Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.
Она не знала сказок и не пела.
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.
Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно все:
И материнство горькое свое,
И просто все, что дорого ей было.
Лишь раз, когда упал я из окна,
Но встал живой (как помню этот день я!),
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она.
И вот Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.
В том честном подвиге, в том счастье песнопений
Которому служу я каждый миг,
Учитель мой – твой чудотворный гений,
И поприще – волшебный твой язык.
И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу…
Года бегут. Грядущего не надо,
Минувшее в душе пережжено,
Но тайная жива еще отрада,
Что есть и мне прибежище одно:
Там, где на сердце, съеденном червями,
Любовь ко мне нетленно затая,
Спит рядом с царскими, ходынскими гостями
Елена Кузина, кормилица моя.
12 февраля 1917, 2 марта 1922
* * *
Люблю людей, люблю природу,
Но не люблю ходить гулять,
И твердо знаю, что народу
Моих творений не понять.
Довольный малым созерцаю
То, что дает нещедрый рок:
Вяз, прислонившийся к сараю,
Покрытый лесом бугорок…
Ни грубой славы, ни гонений
От современников ни жду,
Но сам стригу кусты сирени
Вокруг террасы и в саду.
15–16 июня 1921
Когда б я долго жил на свете,
Должно быть, на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей.
Какая может быть досада,
И счастья разве хочешь сам,
Когда нездешняя прохлада
Уже бежит по волосам?
Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша,
И небом невозбранно дышит
Почти свободная душа.
8-29 июня 1921
В ЗАСЕДАНИИ
Грубой жизнью оглушенный,
Нестерпимо уязвленный,
Опускаю веки я —
И дремлю, чтоб легче минул,
Чтобы как отлив отхлынул
Шум земного бытия.
Лучше спать, чем слушать речи
Злобной жизни человечьей,
Малых правд пустую прю.
Все я знаю, все я вижу —
Лучше сном к себе приближу
Неизвестную зарю.
А уж если сны приснятся,
То пускай в них повторятся
Детства давние года:
Снег на дворике московском
Иль – в Петровско-Разумовском
Пар над зеркалом пруда.
12 октября 1921, Москва
* * *
Было на улице полутемно.
Стукнуло где-то под крышей окно.
Свет промелькнул, занавеска взвилась
Быстрая тень со стены сорвалась —
Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг – а иной.
23 декабря 1922, Saarow
* * *
Жив Бог! Умен, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как непоблажливый игумен
Среди смиренных чернецов.
Пасу послушливое стадо
Я процветающим жезлом.
Ключи таинственного сада
Звенят на поясе моем.
Я – чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий, —
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я – не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон…
О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую оду!
4 февраля – 13 мая 1923, Saarow
* * *
Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.
России – пасынок, а Польше —
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя.
Вам – под ярмо ль подставить выю
Иль жить в изгнании, в тоске.
А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке.
Вам нужен прах отчизны грубый,
А я где б ни был – шепчут мне
Арапские святые губы
О небывалой стороне.
25 апреля 1923, Saarow
РОМАНС [4]4
Первые пять стихов – неоконченный пушкинский набросок 1822 года
[Закрыть]
«В голубом эфира поле
Ходит Веспер молодой.
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.
Догаресса молодая»
На супруга не глядит,
Белой грудью не вздыхая,
Ничего не говорит.
Тяжко долгое молчанье,
Но осмелясь наконец,
Про высокое преданье
Запевает им гребец.
И под Тассову октаву
Старец сызнова живет,
И супругу он по праву
Томно за руку берет.
Но супруга молодая
В море дальнее глядит,
Не ропща и не вздыхая,
Ничего не говорит.
Охлаждаясь поневоле,
Дож поникнул головой.
Ночь тиха. В небесном поле
Ходит Веспер золотой.
С Лидо теплый ветер дует,
И замолкшему певцу
Повелитель указует
Возвращаться ко дворцу
20 марта 1924, Венеция
ИЗ ДНЕВНИКА
Должно быть, жизнь и хороша,
Да что поймешь ты в ней, спеша
Между купелию и моргом,
Когда мытарится душа
То отвращеньем, то восторгом?
Непостижимостей свинец
Все толще над мечтой понурой, —
Вот и дуреешь наконец,
Как любознательный кузнец
Над просветительной брошюрой.
Пора не быть, а пребывать,
Пора не бодрствовать, а спать,
Как спит зародыш крутолобый,
И мягкой вечностью опять
Обволокнулся, как утробой.
1–3 сентября 1925
ПАМЯТНИК
Во мне конец, во мне начало.
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.
В России новой, но великой,
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок…
28 января 1928, Париж
* * *
Не ямбом ли четырехстопным,
Заветным ямбом, допотопным?
О чем, как не о нем самом —
О благодатном ямбе том?
С высот надзвездной Музыкии
К нам ангелами занесен,
Он крепче всех твердынь России,
Славнее всех ее знамен.
Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.
В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала.
С тех пор в разнообразье строгом,
Как оный славный «Водопад»,
По четырем ее порогам
Стихи российские кипят.
И чем сильней спадают с кручи,
Тем пенистей водоворот,
Тем сокровенней лад певучий
И выше светлых брызгов взлет —
Тех брызгов, где, как сон, повисла,
Сияя счастьем высоты,
Играя переливом смысла, —
Живая радуга мечты.
Таинственна его природа,
В нем спит спондей, поет пэон,
Ему один закон – свобода.
В его свободе есть закон…
<1938>
Литература
Ходасевич В.Некрополь. М., 1996.
Ходасевич В.Собрание стихов. М., 1992.
Зверев В.Грустный путь Вл. Ходасевича // Вл. Ходасевич. Стихотворения. М., 1991.
Зорин А.Начало // Вл. Ходасевич. Державин. М., 1988.
Баевский В.С.История Русской Поэзии: 1730–1980. М., 1996. С. 240–245.
О.Э. Мандельштам
(1891–1938)
Трагическая фигура Осипа Эмильевича Мандельштама, погибшего в ГУЛАГе и на несколько десятилетий вычеркнутого из истории литературы, с начала девяностых годов привлекает к себе повышенное внимание читателей и исследователей. В его возвращении большую роль сыграла жена, Н.Я. Мандельштам, спасшая от гибели многие стихи и написавшая воспоминания, которые позволяют восстановить обстоятельства и детали жизненного и творческого пути поэта.
Закончив в 1907 году Тенишевское училище в Петербурге, Мандельштам много лет провел за границей. Он учился в Сорбонне, в Гейдельбергском университете, затем на филологическом факультете университета Петербургского.
Первые публикации стихов – в 1911 году в журнале символистов «Аполлон». Этот факт говорит об эстетических предпочтениях начинающего поэта. Но уже в 1913 году он оказывается в акмеистическом «Цехе поэтов» вместе с Н. Гумилёвым, А. Ахматовой, С. Городецким. Вышедший тогда же первый сборник стихов Мандельштама «Камень» засвидетельствовал, впрочем, что с товарищами по «Цеху…» его больше связывали дружеские чувства, чем творческие принципы. Много позже он сам укажет на свое место в акмеизме как «тоске по мировой культуре».
В поэтической генеалогии Мандельштама – К. Батюшков, А. Пушкин, Ф. Тютчев, А. Фет. Однако с первых шагов в поэзии он заявил о себе как о личности глубоко оригинальной, сумевшей сказать свое слово в богатой на таланты литературе серебряного века. В стихотворении под хорошо известным ценителям поэзии тютчевским названием «Silentium» он писал:
Останься пеной, Афродита, И, слово, в музыку вернись, И, сердце, сердца устыдись, С первоосновой жизни слито!
Мандельштам по преимуществу – лирик. Архитектура, музыка, философия – кладезь его основных тем.
Стихи времени войн и революций составили «книгу скорбей» – «Tristia» (1922), не встретившую понимания в критике. С этого года Мандельштам обращается и к прозе – «Шум времени» (1925), «Египетская марка» (1928), «Путешествие в Армению» (1933), – в которой важное место принадлежит эссе – «О природе слова» (1921–1922), «Конец романа» (1922), «Заметки о поэзии» (1923, 1927), «Разговор о Данте» (1933) и другим.
Последний прижизненный сборник «Стихотворения» (1928) вызвал уже не критику, а травлю. И если бы не помощь Н. Бухарина, судьба Мандельштама оказалась бы под угрозой. Что самое удивительное – ничего в этом сборнике откровенно антисоветского не было. Но его содержание, обращенное к кардинальным философским, нравственным, эстетическим проблемам человеческого бытия, весь его музыкальный стилистический строй абсолютно не вписывались в идеологические постулаты крепнувшего тоталитаризма.
Возможно, под влиянием травли, в поэзии Мандельштама и зазвучали современные социальные мотивы – таково антисталинское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933). За него поэт жестоко поплатился. На этот раз не помог и Бухарин. В 1934 году Мандельштам был арестован и приговорен к трем годам ссылки, сначала в Чердынь, а затем в Воронеж. Сюда к нему приезжала А. Ахматова:
А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.
Ахматова уловила состояние творческого подъема, который, несмотря ни на что, после долгого перерыва переживал ссыльный поэт. Его результатом стали «Воронежские тетради», фактически последнее собрание стихов, увидевшее свет только через полвека.
По истечении срока ссылки Мандельштамы вернулись в Москву. Поэт стал очень осторожен, не допуская ни устных, ни письменных высказываний, которые властями могли быть истолкованы как враждебные. Более того, он написал «Оду Сталину». Но тот обид не забывал. Мандельштам был арестован снова. На этот раз все было кончено: эта ночь не дождалась рассвета.
Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, – и в чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!
1912
* * *
Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою, —
И ныне я не камень,
А дерево пою.
Оно легко и грубо:
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.
Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.
1915
* * *
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер – все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
1915
ЛЕНИНГРАД
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Декабрь 1930
* * *
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей…
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
17–18 марта 1931, конец 1935
ИМПРЕССИОНИМ
Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.
Он понял масла густоту —
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.
А тень-то, тень все лиловей,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет,
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.
Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.
23 мая 1932
* * *
Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь почему!
Веневитинову – розу.
Ну, а перстень – никому.
Боратынского подошвы
Изумили прах веков,
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.
А еще над нами волен
Лермонтов, мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.
Май 1932
БАТЮШКОВ
Словно гуляка с волшебной тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.
Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.
Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
– Ни у кого – этих звуков изгибы…
– Ни у кого – этот говор валов…
Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.
И отвечал мне оплакавший Тасса:
– Як величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык…
Что ж! Поднимай удивленные брови
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан…
18 июня 1932
АРИОСТ
В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.
Над розой мускусной жужжание пчелы,
В степи полуденной – кузнечик мускулистый.
Крылатой лошади подковы тяжелы,
Часы песочные желты и золотисты.
На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Как плющ назойливый, цепляющийся весь,
Он мужественно врет, с Орландом куролеся.
Часы песочные желты и золотисты,
В степи полуденной кузнечик мускулистый —
И прямо на луну влетает враль плечистый…
Любезный Ариост, посольская лиса,
Цветущий папоротник, парусник, столетник,
Ты слушал на луне овсянок голоса,
А при дворе у рыб – ученый был советник.
О, город ящериц, в котором нет души, —
От ведьмы и судьи таких сынов рожала
Феррара черства и на цепи держала,
И солнце рыжего ума взошло в глуши.
Мы удивляемся лавчонке мясника,
Под сеткой синих мух уснувшему дитяти,
Ягненку на дворе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока, —
И свежей, как заря, удивлены утрате…
Май 1933, июль 1935
* * *
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Один он лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.
Ноябрь 1933
* * *
Татары, узбеки и ненцы
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.
И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.
Ноябрь 1933
ВОРОНЕЖСКИЕ СТИХИ
* * *
Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо – твой Буонаротти…
* * *
Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь, —
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож…
Апрель 1935
* * *
День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло
на дрожжах.
Сон был больше чем слух, слух был старше, чем сон, —
слитен, чуток,
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.
День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,
Ехала конная, пешая шла черноверхая масса —
Расширеньем аорты могущества в белых ночах – нет, в ножах —
Глаз превращался в хвойное мясо.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо.
Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?
Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов —
Молодые любители белозубых стишков.
На вершок бы мне синего неба, на игольное только ушко!
Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой…
За бревенчатым тылом, на ленте простынной
Утонуть и вскочить на коня своего!
Апрель – май 1935
СТАНСЫ
Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу – и люди хороши.
Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.
Проклятый шов, нелепая затея
Нас разлучили, а теперь – пойми:
Я должен жить, дыша и большевея
И перед смертью хорошея —
Еще побыть и поиграть с людьми!
Подумаешь, как в Чердыни-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме!
Клевещущих козлов не досмотрел я драки:
Как петушок в прозрачной летней тьме —
Харчи да харк, да что-нибудь, да враки —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.
И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата —
Из дерева, стекла и молока…
Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла.
Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь – сам-друг, —
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню все: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.
И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен…
Как Слово о Полку, струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружье —
Сухая влажность черноземных га!
Май – июнь 1935
Литература
Мандельштам О.Собрание сочинений в четырех томах. М., 1993–1997.
Аверинцев С.Судьба и весть Осипа Мандельштама. В книге – С. Аверинцев. Поэты. М., 1996.
Гаспаров М.Поэт и культура. Три поэтики О. Мандельштама. М., 1995.
Рассадин Ст.Очень простой Мандельштам. М., 1994.
Сарнов Б.Заложник вечности. Случай Мандельштама. М., 1990.