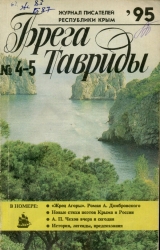
Текст книги "Пристрелите бешеного пса"
Автор книги: Леонид Панасенко
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
ПРИСТРЕЛИТЕ БЕШЕНОГО ПСА
В голове что‑то хрустнуло, будто песок на зубах.
Полкан оставил здоровенную замусоленную кость, которую грыз со вчерашнего дня, сел. Уши пса напряглись, стали торчком – озадаченный. Что случилось?
«П–е-с–о-к н–а з–у-б–а-х! П–р-о–т-и–в-н–о!»
Эти понятия рождались в голове медленно и тяжело, просачивались, как вода из‑под камня, шевелились, зудели, покусывали – точь–в-точь блохи.
Полкан испуганно взвизгнул, наклонив голову, ожесточенно поскреб ее задней лапой, чтобы избавиться от несуществующих насекомых.
«На зубах в самом деле хрустел песок. Кость старая и грязная. Противно!»
Это была мысль. Первая мысль. Полкан наконец понял это – и это была уже вторая мысль.
Солнце еще не выбралось из‑за дома, и возле будки было прохладно, но пес дышал так, будто несколько часов кряду то ли гнался за кем‑то, то ли удирал. Испуг, радость, смятение – десятки других чувств, которым он не знал даже названия, смешались вдруг в голове Полкана. Он попробовал встать, но лапы не держали его, и пес пополз к будке, повизгивая и дрожа всем своим крупным жилистым телом.
Панков подобрал гущу, затем захватил четырьмя пальцами кусок курицы и с наслаждением откусил нежное разваренное мясо. Покончив с мясом, с еще большим наслаждением обгрыз, обсосал все косточки, а хрустящие белые пластинки хрящиков перемолол зубами. Косточки показались такими вкусными, что когда перекладывал их со стола в собачью миску, в душе шевельнулась зависть: везет же Полкану.
Из открытого окна веяло вечерней прохладой. Александр Фомич хотел было закурить, но передумал. Баловство это, да и Минздрав предупреждает… Курил он редко – в застолье, после чарки, так как понимал вредность привычки, а жить намеревался долго.
На улице зафырчал мотор машины, за соседскими вишнями мелькнула синяя тень «жигуленка».
Панков напрягся, одеревенел.
«Сережка, гад! – заполошно подумал он. – Приехал, гад. За деньгами!»
Но машина свернула в переулок и Александр Фомич облегченно вздохнул. Уже шестой месяц, как Евдокия преставилась. Того и гляди – заявятся сыночки за наследством. Петр – тот далеко живет и работает серьезно, а Сережка рядом, всю жизнь у матери подкармливался, на машину отхватил у старой дуры. Этот заявится.
Панков подумал, что надо, не откладывая, сходить к адвокату и деликатненько выспросить, как надо себя вести, чтобы его кровные денежки не достались этим горлохватам. Медка надо принести адвокату – литровую банку. Чтобы кумекал лучше.
Оно, конечно, можно дуриком притвориться: не знаю, мол, ни о каких сбережениях вашей трижды разлюбезной матушки и «зелененьких» ее никогда и в глаза не видел. Но ведь не поверят. Сережка ушлый парень. Такой через суд да через прокурора все сыщет, все стребует.
За кружевом веток вишен за забором послышался девичий смех, ломкий молодой басок.
– Лазит здесь всякая шваль, заборы отирает, – громко и злобно сказал Александр Фомич, вглядываясь в темнеющую улицу. – А ну, Полкан, пугни их.
Пес не откликнулся на голос хозяина, даже цепью не звякнул.
Панков взял миску с костями, бросил туда хлебные корки и понес к будке. Полкан лежал, уронив на лапы голову. То ли спал, то ли отдыхал после жаркого дня.
– Разлегся, —проворчал Александр Фомич. – Размечтался. Пока ты тут дрыхнешь, ворюги все ульи перетаскают. Всем чужое добро мешает, всем оно в зависть.
Пес приоткрыл глаза, глянул на хозяина. Панкову его взгляд почему‑то не понравился. Преданности в глазах нет, а без преданности пес не пес, а нахлебник.
– Жри! – сказал Александр Фомич, тыкая миску под нос Полкану. – И служи! Исправно служи, а то шапку из тебя сделаю.
Сад засыпал. Засыпали и ульи, выстроившиеся в три ряда под яблонями. Над садом вставала полная луна. Сегодня она почему‑то тревожила, притягивала взгляд. Кажется, сто раз видел эту старую медную монету, побитую временем, знаешь, что цена ей грош – так, фонарь в небе, а глаза так и тянутся ввысь, вглубь. Холодно там, жутко! Так жутко, что хочется заскулить от тоски, завыть.
«Что значит – полгода без бабы. Уже и выть готов, – подумал Александр Фомич, присаживаясь на лавочку возле крыльца. – Одному, конечно, худо, но и тебе, Евдокия, нет прощенья».
Он оперся спиной о теплую стену дома, расстегнул на груди рубашку – пусть тело дышит, успокаивается. Луна, ее зыбкий свет, разлитый между деревьями, по–прежнему бередили душу, и Панков вдруг сообразил, что в ней тревожит и притягивает. Так по–глупому празднично и ярко светились пятаки на глазах у покойницы Евдокии, его второй и, даст бог, последней жены. Кто‑то из соседок положил, по обряду, хотя самих‑то пятаков давно в помине нет. Да не сообразила старуха или не разглядела, что монеты, как назло, новые, блестящие. Потом все недоумевали, чувствовали себя неловко, но никто так и не решился поменять или снять эти дурацкие пятаки. Он же вообще старался не подходить к покойнице близко. Вдруг она и тут хитрит, притворяется. Он подойдет, а она – цап рукой и в крик. Ловите, мол, убийцу, погубителя моего! В милицию его, в тюрьму!
Александр Фомич вздохнул, зябко поежился, хотя на улице было не холодно.
Сама Евдокия виновата. Первая про гроб вспомнила. А Судья, наверно, как раз в доме был, разговор их слушал. Слушал и решил по–своему, по справедливости. И никакая таблетка в этом случае Евдокии не помогла бы.
Панков вспомнил тот вечер. Такой же тихий и теплый, только весенний. Они как раз продали последний мед, который он откачал еще осенью, разделили барыш. И черт его дернул заглянуть в кубышку Евдокии. Он и раньше заглядывал – для порядка. Вместе живут – значит, одна семья, друг перед другом подотчетны. А что деньги делят, то у нас принцип такой – каждому по труду: Евдокия, считай, двенадцать лет свою долю получала. Заглянул, а там на три тысячи долларов меньше, чем было. А в марте старший сын Евдокии, шустряк этот – Сереженька, «Жигули» себе отхватил. Глянул он на эту арифметику – больно стало. Он все годы с пчелами пластается, вывозит их черт знает куда на медосбор, потому как в городе шиш возьмешь, живет в шалаше, жрет всухомятку, а эта старая стерва своим оболтусам за его денежки машины покупает. Он ей все тут же и выдал. Да еще кой–чего добавил. Евдокия тоже раскудахталась. Мол, мои это деньги, что захочу, то и сделаю с ними. Тебе, мол, не понять – своих детей нет, то и на моих сыновей волком смотришь. Куркуль, мол, ты, жлоб. Орет, раскраснелась, а затем дых ей перехватило – на диван возле стола присела. И говорит:
– Что ты за человек?! Все под себя гребешь. Все из кожи лезешь, надрываешься ради этих проклятых денег. Зачем они тебе? Ты что – в гроб их с собой возьмешь?!
Только сказала это, а тут ей дух и совсем перехватило. За сердце схватилась, другой рукой к упаковке с нитроглицерином тянется.
Он как раз напротив сидел, за столом. Осерчал на такие речи жены, да как‑то так, не думая, будто это Судья ему подсказал, и отодвинул лекарство.
Евдокия глаза выпучила, пальцами по скатерти скребет, комкает ее. Испугался он. Упаковку с нитроглицерином в карман и бегом к соседям – «скорую» вызывать. Вместе с доктором и зашел в дом, когда бригада приехала. А Евдокия сидит на диване, как живая, только глаза остекленели. Допрыгалась, красавица, доскакалась. Двадцать минут назад ему гроб примеряла, да вот – сама в нем оказалась.
Александр Фомич вздохнул второй раз, встал со скамеечки. Пора и в дом. Выпьет пару рюмок настойки – сам делал, с ромашкой, мятой, зверобоем, поужинает, чем бог послал, потом посмотрит футбол, а после и на покой можно.
Красный блин луны висел над головой, но уже и не пугал и не примагничивал к себе. Панков посмотрел на него с прищуром, почесался и решительно замкнул за собой дверь веранды.
«Я живой! Я все вижу и понимаю!»
Эта мысль буквально подбросила Полкана.
В саду дымилось утро. На траве и на листьях лежала сонная роса. Это позже, с птицами, когда выглянет солнце, она проснется – заиграет всеми цветами радуги, задрожит, зашевелится.
Радость переполняла пса. Он подпрыгнул, мотнул головой, рванулся вперед. И тут же упал на передние лапы. Зазвенела проволока, зазвенела цепь, ошейник больно врезался в шею.
«Ошейник! Как я его ненавижу!»
Это был враг номер один. Он и раньше его ненавидел, с первого дня, как ощутил его на шее, но неосознанно, не зная ни его названия, ни сути.
«Они посадили меня на цепь! За что?»
Обида и недоумение сначала относились ко всем людям, ко всему миру, но затем Полкан глянул на дом и вспомнил хозяев, свою недолгую жизнь. Его принесли сюда щенком. Тетка Евдокия сначала кормила молоком и манной кашей, затем стала давать понемногу вареное молотое мясо. Панков (так называли хозяев соседи, так он их и запомнил) ворчал, что дешевле поймать любого бездомного пса, чем вырастить породистого.
Полкан вспомнил – и все смешалось в голове.
Детство, когда он гонял по дому, во дворе и понятия не имел, что на свете есть ошейники и цепи. Ласковые руки тетки Евдокии. Первые натаски. Панков хотел, чтобы он был свирепым псом и верным сторожем. Со свирепостью не получилось – не тот характер оказался, а вот сторожил он всегда охотно и лаял громко. Особенно, когда пасеку вывозили куда‑нибудь в поле или в заросли акации. Случалось, хозяин бил его. А вот тетка Евдокия добрая. И пожалеет, и вкусненьким угостит.
Тут Полкан вдруг сообразил, что неспроста он так давно не видит тетки Евдокии. Что‑то случилось! Что‑то недоброе. Еще тогда, когда она спала в ящике. Пришло много людей. Тетка Евдокия так крепко спала, что ему хотелось завыть, разбудить ее. Но не решился – только жалобно повизгивал. Люди тихонько переговаривались, некоторые женщины плакали. Их слова – вот они, рядом: «Молодая еще…» – «Доконал он ее, сердешную. Куркуль проклятый». – «Еще вчера заходила к ней, а сегодня горе‑то какое, померла наша Дусенька».
Полкан будто о что‑то укололся:
«Померла… Тетка Евдокия померла. Уснула насовсем. Как тот песик, которого летом ударила машина и который лежал под нашим забором. Я лаял на него, пока хозяин куда‑то не унес черно–белое лохматое тельце. Как я раньше не сообразил: тетки Евдокии нет! Уснула. Навсегда».
Ему стало жаль хозяйку. На глаза навернулись слезы.
– Полкаша, Полкаша, иди сюда!
Пес услышал из‑за забора знакомые голоса и мгновенно забыл о своих скорбных мыслях. Это Женя и Димка, его самые лучшие друзья.
Близнецы сидели на досках, сложенных у забора, и Полкан, загремев цепью, вскочил, стал на задние лапы, обцеловал братьев.
– Ой, щекотно, —засмеялся Женя, которого пес лизнул дважды. – На тебе хлебушка. И котлетку на. Это Димка не съел – сегодня его очередь.
Полкан мгновенно проглотил угощение. Есть захотелось еще больше – хозяин вечером принес пару косточек, но таких обглоданных, что и собака побрезгует.
– Голодный, – вздохнул Дима. – Если бы он у нас жил.
– Я видел: Хмырь его бьет, —заявил Женя. —Раз даже ногой пинал.
– Нас и мама защитит, и папа, и милиционер. А Полкана никто, – сказал Дима.
Близнецы немного погрустили. В школу их не взяли, полгода не хватает, собаки у них своей нет, гулять одних дальше переулка, в котором живут, не отпускают.
Дима, такой же как брат белоголовый и голубоглазый, задумался.
– Слушай, сколько у нас в копилке денег? Ну, тех, что мы на велосипед собираем.
– Не знаю, – ответил Женя. – А что?
Дима улыбается своей придумке, заговорщицки шепчет, будто их кто‑нибудь здесь, возле летней кухни, может услышать:
– Давай купим Полкана. Я знаю: Хмырь жадный, он деньги любит.
Пес снова становится на задние лапы. Опершись передними о забор, тычет лохматую голову братьям, и четыре детские руки сразу вплетаются в его густую шерсть.
– Не–а, – вздыхает Женя. – Такая собака стоит дорого.
– Ну сколько? – пристает Дима.
– Откуда я знаю. Может, миллион. А может все десять.
Полкан повизгивает, облизывает горячим языком руки
близнецов – благодарит.
– Он умный, он все понимает, – говорит Дима. – Видишь, обрадовался, что мы хотим его купить.
В это время отворилась дверь веранды, и на крыльцо вышел хозяин Полкана. На свои шестьдесят два года Панков был подтянут и свеж лицом. Седые волосы коротко острижены, на плечах легкая клетчатая рубашка. Александр Фомич любил и неизменно носил только такие рубашки – в крупную клетку, красных или синих тонов.
Возле будки Полкана росла молодая груша «бере Александр». Когда‑то купил ее саженец из куража, из‑за названия, тезка, мол. Но сорт оказался исключительно хороший – груши крупные, сочные, с легкой кислинкой .Дерево родило исправно, но это весной заморозок побил цвет, и плодов завязалось немного. Панков даже пересчитал их. У соседей сад почище, чем у него, но эти сволочные близнецы так и смотрят, как бы обнести дерево. Пса специально подкармливают.
– Ко мне, Полкан! – сдержанно, но с угрозой в голосе позвал он. И добавил, обращаясь к насторожившимся Диме и Жене: – Брысь отсюда, шпана! Будете через забор заглядывать – уши оборву!
«Какой он злой, – подумал Полкан, разглядывая хозяина. – Бросается на людей, будто… пес».
Александр Фомич взглянул на часы: без пяти четырнадцать. Он приоткрыл дверь, заглянул в магазин. Катя, отпуская какого‑то мужичка, крикнула:
– Закрыто! Не видите, что перерыв?
Затем подняла голову, кивнула, узнав Панкова: подожди, мол.
Александр Фомич обошел «Продтовары», присел на ящик возле служебного входа.
Вскоре вышла Катя. Глянула на теплое сентябрьское солнце, потянулась – белый халат рельефно обозначил прелести продавщицы.
Панков крякнул, усмехнулся:
– Правду люди говорят: в сорок пять баба ягодка опять. Зашла бы как‑нибудь в гости, Катерина, а? Медком бы угостил.
– И ты туда же, старый, – отмахнулась продавщица. – Знаю я твой медок – из моего сахара.
– Я не о том, – обиделся Панков за «старого».
– И я не о том, —улыбнулась Катерина. —А коль вам, Александр Фомич, моего медка всерьез захотелось, то и приглашайте серьезно. На ужин с музыкой. И десять баксов за слова ласковые.
– Десять баксов? – опешил Панков.
– А ты как, старый, думал? – озлилась вдруг Катерина. – Со студента могу поцелуями взять. А ты, Фомич, человек особый. Мне, чтобы лишнюю десятку иметь, надо целую неделю крутиться. Как проклятой. А ты уже, небось, сидит!» на деньгах.
– Угу, – согласился Панков. – И унитаз у меня из золота.
– Ладно. Мне еще пообедать надо, – заявила Катерина. – Тебе мешок или два?
– Два не унесу, – Александр Фомич достал заранее приготовленный «сникерс», положил в карман халата продавщицы. – Ох, и баба ты, Катерина. Зверь–баба.
Продавщица вновь улыбнулась, будто и не сердилась только что, открыла дверь подсобки.
Панков расплатился, захватил со штабеля мешок с сахаром, легко забросил на спину.
– Думай, Катя, думай, – бросил на ходу.
– Взаимно, Фомич, взаимно.
Панков шел тротуаром, твердо печатая шаг и прислушиваясь к своему организму. Нормально. И сердце не бухает, и дыхание ровное. А на спине все‑таки полцентнера. Он мельком вспомнил, как года три назад к ним на несколько дней заехала племянница Евдокии с мужем. Молодой парень, бугай здоровый, а взяли они тогда у Катерины по мешку, так он еле допер. Идет – мокрый весь, качает его, водит из стороны в сторону. А он хоть и старый, как Катерина говорит, а ничего.
Полкан на появление хозяина прореагировал странно: приподнял лохматую голову, глянул и снова положил морду на лапы. Обычно он всегда радовался, бегал, гремел цепью, норовил взгромоздиться передними лапами на грудь, а то как подменили. Может, заболел? Или отравили? Панков как шел с мешком, так и остановился. Близнецы возле пса соседские крутятся – может, что подсыпали в еду? Да нет, малые вроде для такой пакости.
Сахар Александр Фомич занес в сарай, где хранилось все, что нужно серьезному пчеловоду. Катя ляпнула, что он мед из сахара гонит, а кто сейчас без прикормки обходится?! Гречки и клевера почти не сеют, липы в их краях немного. Подсолнечник выращивают, правда, но туда каждое лето не наездишься – далеко.
Панков отпер дом. Разогрел на сковородке вчерашнюю картошку, открыл банку с маринованными огурцами – покойница на три года впрок наготовила консервации. В кладовой среди прочих припасов стоял трехлитровый бутыль с лущеным горохом. Подумав, Панков достал и его.
Ел, а сам поглядывал на бутыль. Потом вымыл посуду, тщательно вытер руки. Открыв полиэтиленовую крышку, Александр Фомич запустил руку в горох и достал из банки пакет. Аккуратно развернул бумагу.
Он знал все свои старые вклады, которые с началом всеобщей разрухи частично перевел в доллары, а больше – распихал по коммерческим банкам и всевозможным страховым обществам. Как и раньше, так и сейчас проценты приятно путались в голове, умножались и, как и раньше, кормили. Получалось раз в двадцать больше пенсии, которую положило ему государство за не очень длительный и не очень старательный труд. Давно, лет десять назад, в передаче «Международная панорама» Александр Фомич услышал очень понравившееся ему слово «рантье». Оказывается, так красиво называют людей, которые живут на проценты со своего капитала или на доходы от ценных бумаг. Затем комментатор добавил, что это «наиболее паразитический слой капиталистического общества», и Панков сначала расстроился, а затем рассердился.
«Ты посмотри на мои руки! – он тыкал огрубевшие от домашней работы, от многолетней возни с ульями и таскания тяжестей мозолистые ладони под нос Евдокии и вопрошал ее, себя, весь мир: – Разве я воровал? Разве я не упирался рогом всю жизнь? Разве я кого… – он поискал нужное слово, – эксплуатировал?» – «Меня эксплуатировал», – сказала Евдокия. – «Очумела баба, – рассердился он. – Ты же жена. Ты это – компаньон». Она вздохнула, потом улыбнулась – скупо, вымучено: «Иди уже спать, компаньон».
Панков не любил, когда Евдокия так или иначе приходила в голову. Он давно, еще когда «скорую» вызывал, успокоил себя, уверил: ни в чем он не виноват, никто еще таблеткой от смерти не откупился. И все равно, когда припоминались ему глаза жены, ее скребущая скатерть слабая рука, на душе становилось муторно, неуютно. Евдокия померла – царство ей небесное. А сыночки ее живы–здоровы. Вот–вот за материным добром заявятся. Сережка, гад, наверное, спит и видит, какой ему жирный кусок отломится.
Панков отложил доллары и денежные бумаги жены в сторону, свои снова завернул в полиэтиленовый кулек, запихнул в бутыль с горохом. Укромное местечко, потайное. Ну какой ворюга станет искать деньги или документы в банке с горохом?
Затем Александр Фомич задвинул шторы, прилег на кровать. С четырех до шести – святое время. Дневной сон в его возрасте лучше любых лекарств.
Засыпая, Панков подумал: завтра надо обязательно съездить в юридическую консультацию. Наследство можно получить по истечении шести месяцев. Полгода будет через две недели, но лучше заранее побеспокоиться – разузнать что к чему. Потом он вдруг ни с того ни с сего увидел подсобку и обтянутый белым халатом зад продавщицы и тут же прикинул – не посвататься ли ему к Катерине. Баба стоящая, да и капиталец у нее, видать, имеется. Правда, молодая шибко. Еще облапошит – и поминай как звали. А еще дальше мысли его успокоились, как море под луной, а сама луна – белотелая, пышная – взошла и поплыла, поплыла над его сном. На душе сделалось жутко и сладко, душа стремилась в серебристую высь, а за ней, родясь где‑то внутри, в самой глубине утробы, вознесся к небу и голос – стон не стон, скорее вой, но не скорбный, а сильный и грозный, голос хозяина и зверя.
С вечера пошел дождь. Сначала тихий, шепотком, а ближе к полночи заявился ветер, стал стегать мокрые листья сада, греметь оторванным краем железной крыши сарая. В будку забивало крупные холодные капли, в неубранную ботву огорода падали груши.
Пес прислушался к возне ветра. Живых звуков, кроме шума дождя, не было, но он все равно выбрался из будки, огляделся. За забором, на улице, раскачивался фонарь, и в мокром саду шевелились кружева теней.
Полкан отряхнулся, подошел к жестянке с водой. Странно. Не днем, не в жару, а именно сейчас захотелось пить. Он не знал, не мог еще осознать, что его сушит не жажда, а душа, которая проснулась несколько дней назад в его большом и сильном теле и теперь, как и положено каждой нормальной душе, томится и страдает.
В разбитом дождем зеркальце воды отразилась черная лохматая морда. Зыбкая, перекошенная во все стороны, страшная. Душа Полкана от этого зрелища вдруг заболела так пронзительно и явственно, что он наконец понял – это вовсе не жажда, это внутри горит.
« Яне зверь. Ябольше не зверь! Яне хочу быть зверем!»
Он ткнулся носом в жестянку, чтобы не видеть себя, стал жадно лакать пресную безвкусную воду.
Только теперь ему открылось несоответствие его формы и нового содержания. Как ему жить дальше? Он не может больше жрать помои и глодать кости, которые почему‑то всегда вываляны в песке. Он не может больше слепо служить хозяину – лаять на людей, кому‑либо угрожать, терпеть унижения и пинки. А ошейник? А эта будка? Вся его жизнь, которую не зря люди называют «собачьей». Ведь он изменился, он уже не зверь, но ему не открылось таинство речи, и он не может сказать об этом ни хозяину, ни кому‑либо другому. Люди не знают, что он все понимает и чувствует, как и они, что он научился думать.
«А может, я могу и говорить?!»
Эта мысль–вспышка ошеломила Полкана. Он оторвал морду от воды в жестянке, попробовал сгруппировать звуки в слова. Но из пасти вырвалось прерывистое клокочущее рычание. Полкан взвизгнул от горя, побрел к будке.
«Что делать? Как изменить свою судьбу? Как хотя бы избавиться от этого проклятого ошейника? Что может быть унизительнее для мыслящего и чувствующего существа, чем быть на привязи?»
Полкан знал: его бездомные родичи часто голодают. Их может сбить любая машина, пристрелить собачники. Наконец, зимой или в дождь теплая будка – это тоже кое‑что. Но они свободны! Лучше погибнуть от голода, замерзнуть, чем мучиться в неволе. Значит, надо любым способом или избавиться от ошейника, или разорвать цепь. Свобода превыше всего!
Полкан вернулся в будку, лег. Ветер все так же околачивался в саду, срывал переспевшие груши. Они бухались редко и глухо, а сердце пса колотилось горячо и сильно. Он старался не ворочаться, чтобы не звякала цепь, лишний раз не напоминала о неволе. Задремал лишь к утру. И приснилось Полкану, что он стоит на своей будке, сверху, и что‑то говорит, говорит, говорит. А на улице за забором стоят люди, много–много людей и внимательно слушают его. Слов тоже много. Они льются из него привольно, легко, будто дождевая вода из водосточной трубы. Они красивые, как птицы, что прилетают в этот сад. Они порхают в воздухе, будто белые бабочки–капустницы, и у него, как никогда, радостно на душе. Он научился говорить! У него получается. Он утке как люди. Он почти человек!
С утра Панков не без удовольствия облаял соседку: приспособилась, стерва, трусить половики у его забора, всю свою пыль ему во двор прет.
Затем надел новую клетчатую рубашку, поставил в сумку литровую банку липового меда, положил в–карман пиджака страховые полисы Евдокии и бодренько зашагал на троллейбусную остановку. На полпути вспомнил, что забыл покормить Полкана, но возвращаться не стал: не сдохнет, да и возвращаться – плохая примета.
В юридической консультации было пустынно. Александр Фомич толкнул первую попавшуюся дверь, поздоровался. Полный седой мужчина, который читал какие‑то бумаги, ответил, а второй даже головы не повернул: сидел за столом у окна и пил чай с бубликами и маслом.
«Пойду к толстяку», – решил Панков.
– Хочу с вами посоветоваться, – сказал Александр Фомич, недовольно поглядывая на напарника толстяка – что за люди пошли, не может дома позавтракать.
– Присаживайтесь. Слушаю вас. – Юрист отложил бумаги.
– У меня дело тонкое, секретное, —без обиняков заявил Панков. – Пока ваш товарищ чаи гоняет, может, выйдем на улицу?
– Коля, – укоризненно сказал толстяк, – опять ты мне клиентов отпугиваешь?!
Тот хмыкнул, захватил с собой снедь, стакан с чаем и вышел из комнаты.
– Спасибо. Люблю деловых людей. – Панков достал банку с медом, поставил на стол и со значением добавил. – Липовый. Наши «фантики» – не деньги, а это продукт.
Александр Фомич не знал, сколько стоит консультация юриста, но в силу и значимость своего продукта верил свято.
Толстяк покрутил банку в руках, улыбнулся и поставил ее под стол.
– Слушаю вас.
Александр Фомич рассказал о смерти Евдокии, о ее сыновьях от первого мужа, которые теперь хотят обобрать его, пенсионера, как липку.
– Брак зарегистрирован? – уточнил юрист.
– Конечно. Двенадцать лет вместе протрубили… Мне знакомые сказали, что в первых числах октября можно будет получить. Должно полгода исполниться.
– Да, – сказал толстяк. – Если вами заявлены права на наследство.
Панков похолодел.
– Как это – «заявлены»?! Ядолжен получить свое.
Юрист наклонил голову, как бы ожидая, пока клиент успокоится, станет вменяемым.
– «Получить» и «заявить права» – разные вещи, – терпеливо объяснил он. – Сначала надо заявить. Чтобы определился круг наследников. Чтобы выяснить: не было ли особых распоряжений вашей бывшей супруги. – Он хмыкнул, что‑то вспомнив. – Эти старушки, знаете ли, иногда по десять раз меняют завещания. Поругались, например, с вами – бац, переписала все сыновьям. Сыновья чем‑то обидели – бац, и все в доход государства.
Александру Фомичу перехватило дыхание.
– Как? Мое… кровное… горбом заработанное – сыновьям… в доход?
Толстяк улыбнулся.
– Ну, это крайности. Не волнуйтесь. Вы получите, во–первых, свою половину сбережений. Во–вторых, раз сыновей двое, еще одну треть из оставшейся половины. Если, повторяю, не было завещания.
– Чего? – тупо переспросил Панков.
– В бумагах покойной не указаны наследники?
– Нет, ничего там нет.
– Значит, вам следует срочно обратиться в нотариальную контору. Если покойная не оставила завещания, раздел наследства, как я уже говорил, будет произведен в установленном законом порядке.
– Но… вы… Вы можете заявить мои права? – спросил Панков, вспомнив о банке с медом.
– Если возникнут трудности. Пока у вас нет никаких проблем. Идите к нотариусу, оформляйте бумаги. А в случае чего – ко мне.
Александр Фомич, забыв попрощаться, вышел на улицу. Во рту было сухо и горько, болела голова.
– Я вам покажу – в доход государства, – пробормотал он, с ненавистью глядя на встречных прохожих. Панкова буквально ошарашили слова юриста о возможном завещании. Неужели старая стерва додумалась до такой пакости? Нет, даром он свое все равно не отдаст. Есть еще суд, есть на свете правда. Если на то пошло, то это вообще его деньги. Все! До копейки!
Александра Фомича переполнял праведный гнев.
Он сел в троллейбус, который шел почти к самому дому, отвернулся к окну. Злость окаменела в нем, засахарилась, как старый мед. Даже мысль о том, что он по сути даром отдал банку липового, не возмутила, а только немножко добавила жжения в груди. Если ты, сволочь, ничего не решаешь, ничем не можешь помочь, если надо тащиться к какому‑то дурацкому нотариусу, то зачем берешь ценный и дорогой продукт?! Всем твоим советам – грош цена да и то в базарный день.
Панков сидел на сиденье прямо, будто кость проглотил. Троллейбус бежал мимо знакомых домов, магазинов – он смотрел на них и не видел их. Он обдумывал будущее сражение, предчувствуя, что оно будет нелегким, нутром чуя – ничего хорошего встреча с нотариусом не принесет. Этот гаденыш улыбчивый, Сережа, уже, наверно, там не раз побывал. Может, и деньги сунул. Нет, сегодня он в нотариальную контору не поедет, сил нет. Отдохнет, отоспится, а уж завтра…
Состояние у Александр Фомича в данный момент было такое, что если бы в троллейбус зашел контролер и потребовал от него закомпостированный талон, он вцепился бы ему зубами в горло. Душил и рвал бы тело, пока не хлынула бы в рот солоноватая горячая кровь.
– Полкаша, Полкаша, иди сюда!
Близнецы позвали пса, он поднял голову, но не вскочил, как в прошлый раз. Голоса маленьких друзей не сразу пробились сквозь лихорадочные метания множества мыслей, одолевавших его. Мыслей уже вполне человеческих, а потому горьких, безнадежных.
– Может, он заболел? – предположил Дима.
– Мы тебе колбаски принесли, Полкаша. Иди сюда, – позвал Женя.
Пес завилял хвостом. Только теперь он вспомнил, что голоден, – хозяин куда‑то утром ушел, а его, как часто бывает, покормить забыл. Впрочем, какая это чепуха в сравнении с тем колючим клубком проблем, который засел в голове, не дает даже спать по ночам.
Полкан взял из руки Жени кусок вареной колбасы, дважды тернул его мощными челюстями и проглотил. Второй кусок, который припас ему Дима ,жевал медленнее, с благодарностью поглядывая на близнецов умными карими глазами. Вот кто понимает его без всяких слов! Как бы он хотел жить по ту сторону забора – играть с этими славными ребятишками, гоняться наперегонки, слушать их голоса, похожие на щебетание птиц.
Захотелось пить – теперь уже по–настоящему. Полкан подошел к жестянке, наклонился. Из тихой воды на него глянула косматая морда – противная ненавистная собачья морда! Он рыкнул – безнадежно и отчаянно, ударом лапы опрокинул жестянку. Нет, нет выхода! Так и сидеть его новой душе в теле зверя: грызть кости, скулить и лаять, греметь проклятой цепью.
Полкан в порыве гнева припал к земле, завертел головой, пытаясь задними лапами содрать с себя ошейник.
– Что с ним? – удивился Дима.
– Откуда я знаю, – ответил брат. – Может, колючка какая. Видишь – достает что‑то.
– Я спущусь туда, помогу, – Димка уже лез через заборчик.
Женя испугался:
– А вдруг тебя Хмырь увидит. Помнишь, как он орал? Не лезь!
– Его дома нет. – Брат уже был возле пса, прижал его голову к себе, – ощупывая шею. – Я утром из окна видел – он на остановку шел.
Полкан вдруг напрягся, вырвался из ласковых рук мальчика.
– Что с тобой, Полкаша? – приговаривал Димка. – Ты заболел? Тебе давит ошейник?
Полкан, глядя куда‑то в сторону, зарычал. Тревожно и недоуменно, очевидно, не зная, как ему поступить.
– Атас, Димка! – заорал вдруг Женя. – Тикай! Тикай скорей!
Панков запер за собой калитку и машинально глянул на свою любимицу–грушу. Деревце стояло свежее после ночного дождя. Но вот плоды… Александр Фомич не поверил своим глазам: трети груш на ветках не было. В следующий миг он увидел возле дерева одного из близнецов. Рядом с ним – Полкан. Ах ты тварь продажная! Эти паразиты весь сад обнесли, а ты с ними лижешься!
Не зная, что он сделает дальше, Панков ухватил арматурный прут, целый пук которых валялся уже несколько лет возле ворот, – с тех пор как бетонировал во дворе дорожки, и крадущимися шагами заспешил к груше.







