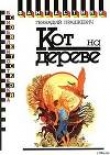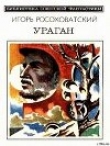Текст книги "Мастерская для Сикейроса (сборник)"
Автор книги: Леонид Панасенко
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Он достал из шифоньера бумаги Лахтиных, которые предлагал Сергею и которые тот непонятно почему не взял: какая ни есть, а все-таки память о матери. Среди бумаг он видел фото Жени – единственное, где она такая, какой была в молодости – худенькая, голова чуть запрокинута, будто ее косы, уложенные венком, перевешивают, улыбка робкая, а глаза ясные, смелые… Захар перекладывал пожелтевшие страховые полисы, старые квитанции об уплате налогов, облигации, открытки и письма Сергея – он узнал их по почерку…
«Как им Женя гордилась. Всякий раз заговорит – и все о нем. Об успехах его рассказывала, письмами хвалилась… – Захар стал вспоминать то немногое, о чем успел перемолвиться, с Сергеем в ночь после похорон да наутро, когда подошла машина, и молодой Лахтин, бросив завтрак, стал неловко прощаться. Прощался и отводил глаза, будто украл что-нибудь или собрался украсть. Да… Все как будто в порядке: Сергей у себя на заводе большой начальник, почти что профессор. Но… По всему видать, какая-то беда его гложет. Он, конечно, сам не признавался, а я не спрашивал – при таком горе о себе не говорят, но напрасно Женя так радовалась. Неладно с Сергеем. Душа у него болит. Или сам ее измучил, или люди… Надо бы написать соседу. Заодно и облигации отошлю».
Захар нашел тетрадку, шариковую ручку, которую весной купил в райцентре.
«Здравствуй, Сергей Тимофеевич, – начал он письмо. – Сообщаю тебе, что на хату твоей матери уже нашлось два покупателя. Один дает 2500 рублей, а Савка Кошовый дает 2700 и даст больше, потому что сына с невесткой хочет отделить. Я попусту торговаться не умею и не люблю. А цену назначил твердую – 3000 рублей. Хата того стоит. Сам помогал, если ты помнишь, ее строить. Как только продам, сколько надо возьму на памятник, как ты перед отъездом наказывал, а остальные вышлю по почте. Памятник закажу самый лучший, а так как их у нас делает тот самый Савка Кошовый, то ему часть денег и вернется. Вкладываю в это письмо семнадцать облигаций, какие были у матери, а выигрышные они или нет, ты уж сам узнай…»
Захар отложил ручку, подумал и начал писать уже совсем о другом:
«…Может, и не мое это дело, сынок, но показался ты мне в мае совсем больным. Как то яблоко: сверху румяное, красивое, а внутри червяк сидит… Ты все-таки побереги себя, Сергей Тимофеевич. Может, возьми отпуск, да и приезжай к нам как на дачу? А если понравится, то хоть на целый год. Про воздух там или пляж агитировать не буду – они у вас, наверное, лучше. А вот душой только на родине и отдохнешь. Короче, приезжай в любое время».
Захар отложил готовое письмо в сторону, стал просматривать остальные бумаги: может, еще где облигации завалялись.
Его внимание привлек знакомый конверт, которых насмотрелся, когда вернулся с фронта. «Похоронка на Тимофея, – догадался Захар. – Тоже надо сыну переслать». В конверте было письмо, по-видимому, от командира. Захар прочитал первые строки «…экипаж Вашего мужа в бою около села Скирманова подбил три фашистских танка. Однако в результате прямого попадания машина Тимофея Степановича загорелась. Он был тяжело ранен и через полчаса умер на моих глазах от потерн крови. Когда был еще в сознании, просил, чтобы Вы, Евгения Яковлевна, не убивались и были счастливы, что, конечно, невозможно в такое тяжелое для Родины время. Случилось это страшное для Вас и нас, друзей Тимофея Степановича, событие на Истринском направлении, под Москвой».
Не веря своим глазам, Захар достал из конверта само извещение. Как так «под Москвой»?! Не может быть! Тимофей ведь под Берлином погиб… Да и знали бы в селе о похоронке. Может, Женя ее в райцентре получила?.. Ветхая бумажка наконец развернулась…
«Уважаемая… Ваш муж лейтенант Лахтин Тимофей Степанович… погиб смертью храбрых в боях… 21 ноября 1941 года…»
Захар еще раз прочитал похоронку. Бумажка вдруг выпала из рук, комната качнулась перед глазами. «21 ноября! В первый год войны! Выходит дело – Сергей сын! Сергей Захарович, его… Зачем же ты так, Женя?! За что казнишь всю жизнь?»
Так говорила обида. Но жила в нем уже и мудрость, которая стала утешать да урезонивать: «А чего же ты хотел: чтобы Женя стала отнимать мужа у другой солдатки? Чтобы, гордая, краденую любовь стала узаконивать? Перед людьми и совестью своей стыд принимать? Не такая она… Сам знаешь. А после, когда Настя умерла?.. Поздно было. Парень-то вырос. Зачем у него легенду отнимать да давний обман раскрывать?»
Захар закурил, открыл окно. Над кустом сирени висела полная луна. Как тогда, той ночью… Теперь ему ясно, почему она просила: «Говори. Все, что хочешь, говори. На всю жизнь хочу тебя наслушаться…» И ласкала – на всю жизнь. К утру он забылся на полчаса, задремал. А проснулся от странного ощущения: плечо мокрое и горячее. Женя плакала, уткнувшись ему в плечо. В молочном утреннем свете, худенькая и белая, будто ветка вишни, она показалась ему облачком. Зоревое-перьевое, дрожит рядом, дунешь – улетит… Он подумал тогда, что Женя сплетен испугалась – как бы в селе не узнали, Тимофею после войны не доложили. Стал, глупый, утешать. А теперь открылось: нечего ей было бояться. Судьбу она свою оплакивала, которую сама же и выбрала.
Захар докурил «Приму» до того, что окурок прижег пальцы. Он распечатал конверт, который уже успел заклеить, достал письмо к Сергею. И тут вся решительность и радость вдруг куда-то девались. Что написать и как написать? Нужно ли вообще об этом писать?
Захар долго думал, потом сделал в конце письма короткую приписку:
«Сынок! Несколько минут назад в бумагах твоей покойной матери я нашел такое, что перевернуло мне всю жизнь. Дело прошлое, но очень важное и касается оно нас с тобой. В письме о таком не напишешь… Поэтому приезжай теперь непременно!»
Несмотря на поздний час, Захар отнес письмо на почту, бросил в ящик. Помолодевший и счастливый, он возвращался домой и прикидывал: через сколько дней сын получит его весточку? Догадается ли он, что произошло? Наверное, догадается. Должен догадаться.
Лахтин открыл глаза и вздрогнул от неожиданности: на другой стороне кровати возле спящей Ляли нахально развалился… его двойник.
– А девочка хороша, – гнусным шепотом заключил Йегрес и плотоядно ухмыльнулся. – Жаль, черт возьми, что я не материальный. Роль святого духа, как ты понимаешь, меня мало устраивает.
Он протянул свою черную лапу, театрально положил ее Ляле на грудь.
– Ты чего сюда заявился?! – прошипел Лахтин. – Убирайся!
– И не подумаю, – засмеялся Йегрес, – собственник проклятый… Конечно, если ты будешь выступать, то я могу и уйти. Слетаю, например, к Светлане. Она еще тоже не вставала…
– Пошли на кухню, – взмолился Лахтин. – Разбудишь Ляльку – что я ей скажу?
Он осторожно выбрался из постели, прикрыл за собой дверь спальни. Двойник объявился на кухне прямо из стены. Однако полностью выходить не стал: высунул возле холодильника торс, оперся плечом о шкафчик.
«Если Лялька проснется и увидит этот живой горельеф, точно с ума сойдет, – подумал Лахтин. – Надо поскорее его отправить… Впрочем, кроме меня, его, кажется, никто не видит…»
– Небось в мечтах уже премию получаешь? – полюбопытствовал Злодей и покачал головой. – Шанс, конечно, есть. Но ты себя, Сергей, на худшее настрой. В случае чего – не так обидно будет.
Он впервые назвал Лахтина по имени. Тот удивился: «С каких это пор? Обычно двойник говорит пренебрежительно и грубовато. Насмешничает, подкалывает, язвит…»
– Ты, кстати, тут особо не сибаритствуй и Ляльку не обижай, – назидательно сказал Йегрес. – Прогонит.
– Кого? Меня? Мышка меня прогонит? – Лахтин пожал плечами. – Я вижу, Злодей, ты переутомился. Заговариваться стал.
– Мое дело предупредить… Еще тебе два совета впрок. Вишневского в серьезное дело не пускай – увлечется, потом не оторвешь. Бери пока его идеи и внедряй их… осваивай. А его заканчивать диссертацию посади – он тебе за это в ножки поклонится. Это первое. Второе: не тяни с переводом Светланы. Ты же знаешь, в отделе главного механика освободилось хорошее место. Девушка толковая, перешла на третий курс – уговори Павла Александровича, чтобы взял. Чем раньше уберешь ее из приемной, тем скорее твоей станет.
– Все-то ты рассчитал. Стратег…
– Это ты рассчитал. И сам себе советы даешь, – ухмыльнулся двойник.
– Опять темнишь? – Лахтин включил конфорку, поставил на плиту чайник.
– Так я весь из темени, – сказал Йегрес и прислушался. – Все, конец аудиенции. Проснулась твоя милашка. Помни, что я сказал, и будь здоров.
Он нырнул в водопроводный стояк, и трубы на всех этажах загремели, будто по ним пронесся град камней.
«Полдома, негодяй, разбудил», – подумал Лахтин, возвращаясь в спальню. Он завалился на кровать, будто большой кот, и стал целовать Лялю. И маленькая женщина в самом деле проснулась.
– Ты тупик моих желаний, – прошептал он довольно пошловатую фразу, которую услышал в КБ от Генина, обхаживавшего в коридорах всех встречных сотрудниц.
Ляля высвободилась:
– Чайник дребезжит, слышишь?
Потом она готовила завтрак, а Лахтин ошивался на кухне и, сам того не замечая, мешал: снова фальшиво и громко напевал о «неудачнике», целовал Лялю, когда она отцеживала картошку, курил.
«Бог мой, – с раздражением подумала Ляля. – Ведь он всерьез полагает, что весь мир создан специально для него, Сереженьки Лахтина, для его пользования. А уж я и подавно… – Она попробовала успокоить себя. – Сережа, конечно, эгоист, но и ты не лучше. Тебе мало владеть им по случаю. Тебе подавай его целиком и навсегда – обычная женская логика. А он – обычная мужская логика – этого не хочет. Да, больше не хочет, чем не может, потому что с Тамарой его уже долгие годы ничто не связывает. И ни с кем не связывает. Разве что со своим отражением в зеркале…»
И тут Ляля вдруг нечто поняла и даже испугалась своего открытия: она повторяет привычные соображения, а на самом деле не хочет им владеть – ни теперь, ни тем более всегда. Мысль была отчетливая и определенная, но Ляля поспешно прогнала ее прочь. Съездит в Мацесту, отдохнет. А там и сентябрь. Пойдет на работу, привезет к себе Димку… А Сергей… Не хочется сейчас копаться в их отношениях. Само собой все решится.
Они вернулись в комнату.
– Мышка, я принимаю волевое решение. – Лахтин допил кофе, встал. – Подскажи, где твой билет на поезд?
– На телевизоре, – машинально ответила она.
– Ага, вот он, купейненький. Раз ты меня любишь, а это факт, значит, остаешься. А соблазн купейненький…
Он разорвал билет, выбросил обрывки.
– Ты согласна, Мышка? – спросил он, протягивая к ней руки. – Великолепный принцип: все, что мешает нам быть счастливыми, – в мусорное ведро!
– Гениально! – подтвердила Ляля, и губы ее задрожали. – По крайней мере, эффектно, как в кино. Ты не подумал, что я могла бы сдать билет?
– Мышка, я не узнаю тебя! – вскричал Лахтин, привлекая ее к себе. – Тратить наше драгоценное время на прозу жизни! На какие-то рубли?! Опомнись!
– Опомнилась, – чужим голосом сказала Ляля и решительно высвободилась из его объятий. – Может, и путевку заодно порвешь? Она, кстати, ровесница наших отношений – я ее четыре года дожидалась!
Пораженный ее тоном, Лахтин даже отступил на шаг, чтобы получше разглядеть маленькую женщину.
– Не может быть, – сказал он. – Ты сердишься? Из-за этой чепухи? Да я тебе десяток путевок достану. Выбирай любой курорт, вплоть до международного.
– Это не проза жизни, – зло ответила Ляля. – Это моя жизнь. Ты приходишь ко мне отдохнуть, на полный пансион. Я уже не говорю о том, что трачу на тебя душу. Но знаешь ли ты, мой романтичный и ультрасовременный любовник, что один твой визит съедает половину моей зарплаты?! Что я потом с философским видом жую в школьном буфете пирожки и запиваю их почти бесплатным молоком? Что я молода и мне хочется носить красивые платья и хоть изредка надевать свои дешевые украшения…
– Я… я не знал, – забормотал Лахтин, лихорадочно шаря по карманам. – Никогда не думал о быте, не придавал значения… Я заплачу, Ляля, я за все заплачу… Ты извини, пожалуйста. Я куплю новый билет…
– Да разве в деньгах дело? – звенящим голосом ответила она, не замечая, что по щекам побежали слезы. – Ты чудовище, Сергей! Бесчувственное чудовище, которое живет только для себя! Такие, как ты, не просто потребители. Вы активные потребители. Вы потихоньку приспосабливаете мир, переиначиваете его, чтобы вам в нем было удобно. Это особенно страшно. Ведь раньше вы приспосабливались сами, а сейчас все наоборот.
– Лихо, – криво улыбнулся Лахтин. – Ты прям-таки государственный обвинитель, Мышка.
– Перестань меня так называть! – Ляля топнула ногой. – Я не знаю, Сережа, почему ты такой. – Она всхлипнула, на ощупь, как слепая, нашарила стул. – Ты ко мне таким уже пришел… Я не знаю, например, почему гниют яблоки, но всегда отличу гнилое от нормального… Почему вы появились, откуда – не знаю. Но рядом с вами страшно. Как-то, когда ты ушел, вылакав бутылку коньяка и переспав со мной, я нафантазировала: может, вы пришельцы? Ведь вы появились так недавно – лет десять-пятнадцать назад. Вы не стали пробиваться к высшей власти. Там все на виду, сразу скажут «а король-то голый». Вы присвоили себе мелочь – распределение. Стали за прилавки, взяли ключи от подсобок, списки абитуриентов и ордера жилищных кооперативов… Вы поселились в обществе, будто вирус в организме…
– И все это я, Лахтин? – Он почти не воспринимал ее обвинения, потому что его ошеломило и напугало одно слово, которое она бросила ему в лицо еще в начале этой нелепой сцены: чудовище. Что это – совпадение, случайность? Или Ляля что-то узнала о двойнике, о его постыдной игре или душевной болезни?
– Между прочим, – сказал он, вяло подыскивая контраргументы, – мы все потребители. И нечего этого стыдиться.
Ляля удивленно взглянула на Лахтина.
– Хитрый мой доктор наук. – Она засмеялась. – Тебе просто нечем крыть. Душа для тебя давно пустой звук, абстрактная величина. А вот желание все иметь и всем попользоваться ты будешь защищать до последнего дыхания. Я тоже живу в мире вещей и потребностей. Это нормально, по-людски. Но ваши вещи и потребности – чужие. Чуждые. По существу. За них нужно продавать душу, милый. И предавать.
– Мне же больно, Ляля, – хрипло сказал Лахтин. – Опомнись. Что же ты бьешь без разбора, что ты хлещешь?! Неужто и впрямь я такое чудовище?
Она подошла к журнальному столику, возле которого сидел Лахтин, взяла из его пачки сигарету.
– Я четыре года терпела, – сказала Ляля. – Потерпи и ты, залетный мой. Скажи лучше: что тебе сегодня приснилось?
– Ну и переходики у тебя! С ума можно сойти, – Лахтин пожал плечами. – Из детства что-то, не помню…
– Значит, было царство?
– Какое еще царство?! – вскочил Лахтин. Он наконец, достал портмоне, приоткрыл его, закрыл, снова открыл.
«Не знает, как поступить, – брезгливо подумала Ляля. – Боится, что швырну его сребреники ему в лицо. Если все доставать, то и отдавать все надо. Отсчитывать неудобно. А все отдавать не хочется».
– Ты не жмись, – грубо сказала она. – Я за четыре года много заработала. Так и быть – облегчу тебе душу. Ты же половину грехов сразу спишешь. Откупился, мол… А про царство упоминала, так это опять-таки о душе. Было же у тебя хоть что-нибудь там раньше.
– Не твое дело! – окрысился Лахтин. Он отсчитал несколько купюр и демонстративно швырнул их на диван. – Было и есть.
– Было, конечно, – согласилась Ляля. – Маленькое, захудалое. Но ты и его отдал. За коня! За то, чтобы быть на коне. Все царство души – за паршивую клячу удачи… Говоришь – есть? Ой ли.
– Плевал я на твое царство! – фальцетом выкрикнул он и, натыкаясь на вещи, пошел в коридор. Хлопнула дверь.
Маленькая женщина опустила руки и посмотрела на пол так, будто несла-несла гору посуды и вдруг все разом уронила.
Заплакать или рассмеяться?
Она все-таки заплакала. Разбитого не жаль. А вот украденного жаль всегда.
Сушь, которая две недели подряд стояла над Гончаровкой, в этот вечер как-то притомилась. Дождя ничто не предвещало, но давление стремительно падало, и люди, устав раньше обычного, раньше и ко сну собрались.
К полуночи чистые звезды подернулись дымкой, но в селе все еще стояла настороженная, болезненная тишина. Не шелохнется пыльная листва, не прогремит ведро о сруб колодца, не коснется ласково слуха девичий смех.
Часом позже с юго-запада, где уже несколько раз сверкали сухие зарницы, на Гончаровку стремительно надвинулся широкий грозовой фронт. Звезды погасли, будто их задул промчавшийся над селом ветер. Обрадованно прошумела листва. В ответ небо грозно заворчало и воткнуло в каменный лоб ближайшего холма молнию. Хлынул дождь.
Захар лег рано, но уснуть долго не мог. Ломило в висках, перед глазами мельтешили белые мухи. Он ворочался, представляя, как его письмо едет где-то в почтовом вагоне, пытался мысленно заглянуть в квартиру Сергея, но почему-то, кроме зеркал и ковров, ничего не мог представить. В богатых домах, говорят, всегда много ковров. Наверное, есть еще книги. Ведь Сережа – его Сережа! – как-никак ученый. Почти что профессор. Вспоминал Захар также жену сына, а особенно внучку, но и из этого ничего не получилось. Видел-то он их всего раз, лет шесть назад, да и то мельком. Не пойдешь же сдуру в хату, когда там гости… Если бы он знал, что не чужие они ему. Если бы знал!
Грома Захар, как ни странно, не слышал, а вот лопотание дождя уловил сразу.
«Слава богу, – подумал он, улыбаясь про себя. – Напоит наконец землицу. Пыль прибьет, окна промоет».
С этой мыслью Захар заснул.
И приснился ему сон…
Будто по всей Гончаровке вишня цветет. Много ее – как до войны. Садок возле садка. И везде праздничное белое сияние, музыка и люди. Нарядные, веселые. Друг другу улыбаются, друг с другом заговаривают.
«Свадьба, что ли?» – удивился Захар.
Пошел и он себе. Да так легко, что и не поймет: идет он или летит.
Тут музыка громче заиграла. Быстро. Горячо.
Люди перед Захаром расступились. И деревья в сторону тоже отошли.
Глядит Захар, а перед ним посреди сада его сын, Сергей. Молодой, красивый. И сорочка на нем белая, вышитая. Лица, правда, толком не разглядеть: солнце землю пригрело, парует она и вся как бы в мареве. Пляшет сын. Голову запрокинул, руки в сторону развел, будто всех обнять хочет, улыбается. И все по кругу, по кругу. Быстро, легко, красиво.
«Молодец, сынок!» – хотел крикнуть Захар, да так и занемел.
Вдруг увидел он, что никакой это не пар, а дым горький. И не комья молодой земли под босыми ногами сына, а головешки. Да не остывшие, а бело-сизо-алые. Смотреть на них – и то больно!
«Беги, Сережа! Ко мне, сынок!» – кричит Захар и с ужасом понимает, что не слышно его голоса. Нет его!
И люди не слышат, ни о чем не догадываются. Ходят рядом, переговариваются, на Сергея уважительно поглядывают. Танцует мол, красиво.
Рванулся Захар к сыну, а ноги – ни с места.
Тут Сергей лицом к нему повернулся.
Оказывается, на лице его вовсе не улыбка, а мука лютая. Плачет он, а слезы жар сразу сушит. Зовет отца – губы только в гримасу боли складываются.
«Где ты, дождь?! – обратился к небу Захар. И опять без слов: – Спаси сына моего! Погаси угли!»
Нет дождя.
А Сергей уже последние силы теряет. Шаги его по огню все неувереннее становятся, все медленнее. Вот-вот упадет.
Напрягся Захар так, что жилы на шее вздулись, прорвал-таки немоту.
«Подожди, сынок, я сейчас…» – крикнул он и проснулся.
Ничего не понимая, Захар несколько минут всматривался во тьму. Перед глазами все еще стояло обезображенное болью лицо сына, грозно светились раскаленные угли.
«Что за наваждение? – испуганно подумал старик, вспоминая подробности сна. – Не к добру такие танцы».
Захар встал с кровати, поспешно закурил. Он так разволновался, что в груди опять закололо, будто сердце при каждом ударе натыкалось там на осколок стекла.
«Письмо – ерунда, – подумал Захар. – Непонятное оно, одни намеки. Да и идти будет дня три-четыре. Дурень я, дурень. Такая радость – сын отыскался, а я письма шлю. Ехать надо! Самому. Лететь! Самым скорым самолетом. И не когда-нибудь, а прямо сейчас. Утречком».
Он включил свет и стал собираться в дорогу, прикидывая, какие гостинцы можно взять в Киев и какие слова он скажет своему Сереже.
Придерживаясь за перила лестницы, Лахтин вышел на улицу.
Некоторое время бездумно стоял возле дома Ляли, не зная куда идти и что делать. Непостижимо! Его Мышка – и этот… брезгливый, уничижительный тон. Продуманные фразы и суждения, будто она зачитывала обвинительное заключение. Но главное – их суть! Все преувеличенно, тенденциозно подобрано, заострено. Чтобы больнее ранить! Царство, душа, деньги… Получается, что он чуть ли не губитель человечества. Какая муха укусила Ляльку? Откуда у женщины такая рассудочность и рационализм? Возможно, он в чем-то и был не прав. Невнимательный там, эгоистичный. Но ведь такова современная жизнь. Так-живут если не все, то многие. Никто никому не нужен, Ляля. И я тебе, значит, не нужен… Боже, как давит в груди! Я стал истериком… Ничего страшного не произошло. Ну озлилась Лялька, наговорила гадостей. С кем не бывает. Не прогнала ведь, не оттолкнула. Значит, все образуется.
Лахтин спустился мимо «Детского мира» на Крещатик, выпил в автомате газированной воды. Немилосердное солнце плавило асфальт, загоняло прохожих в тень.
«Надо вызвать машину, – подумал Лахтин. – А Мышку придется подержать на расстоянии. Или вообще… С глаз долой – из сердца вон».
Он нашел в кошельке двухкопеечную монету, зашел в телефонную будку.
– Света, я на Крещатике, – сказал Лахтин секретарше. – Найди, пожалуйста, Виктора. Пусть подъедет ж «Детскому миру».
Он повесил трубку, и тут сердце его подозрительно замерло, будто поднималось, поднималось по лестнице, а затем споткнулось и с ходу перепрыгнуло полпролета.
Лахтин вернулся к автоматам и на всякий случай проглотил таблетку новокаинамида, запив ее теплой водой. Затем прошел к троллейбусной остановке, присел в тени.
– Ну где же ты, Злодей?! – привычно позвал он.
Йегрес появился не сразу, а как бы просочился, будто дым, из кроны дерева. В нем что-то клубилось и посверкивало, пока из тьмы не сформировался человеческий облик.
– Привет, Чудовище, – сказал двойник и присел рядом с Лахтиным. – Достукался? Я тебя утром предупреждал.
– Не надо, – поморщился тот. – Мне и без тебя тошно.
Он подумал, как бы удивились люди, если бы увидели рядом с ним его негатив, да еще бестелесный.
– Сейчас тебе вдвойне тошно будет, – заявил Йегрес. – Я ухожу от тебя, родственничек. Навсегда.
– Как?! – мысленно вскричал Лахтин. – И ты уходишь? Вы что – сговорились с Лялькой? Впрочем, чепуха. Ты не можешь уйти. Ведь наши миры сопредельные, зеркальные.
– Еще как могу, – Йегрес вздохнул. – Наши миры, оказывается, расходятся. Кроме того, мне запретили с тобой встречаться. Наши умники считают, что мы плохо влияем друг на друга. И даже больше того…
– Я – на тебя? – удивился Лахтин.
– Получается, что так, Чудовище. – Йегрес пожал плечами, черные губы сложились в улыбку. – Ты и впрямь оперился. Стал быстрее соображать, появилась решительность. Можно уже за ручку не вести… Умники говорят, что наши отношения мешают сосуществованию двух миров. Мы расталкиваем их, как два одноименных заряда.
– Не слушай их, Злодей! – то ли про себя, то ли вслух взмолился Лахтин. – Нам хорошо вдвоем. Мы ругаемся, но мы и дополняем друг друга. Кроме того, ты не прав. Мне трудно… решать все самому. Я привык… с тобой. Ты всегда был рядом. Как же теперь – без тебя? Жить так сложно.
– Жить просто, – насмешливо прищурился Йегрес. – И не скули, пожалуйста. Кое в чем ты уже превзошел учителя. Далеко пойдешь, если… не остановят. – И двойник хихикнул. – Главное – не жди милостей, как завещал ваш Мичурин. Дерзай, родственничек! Учти: если ты не приспособишь этот мир для своих нужд, он тотчас приспособит тебя. Причем использует и выбросит. А Ляльку ты не слушай. Каждый сражается за то, что он имеет. А у нее, кроме души, ничего нет.
Йегрес поднялся, брезгливо сплюнул. Черный сгусток слюны полетел в сторону пассажиров, столпившихся на остановке. Лахтин замер – от страха у него даже засосало под ложечкой. «Я пропал! Скандала не избежать. Йегреса люди не видят, получается, что плюнул я… Сейчас вызовут милицию… Протокол, фамилия…»
– Очнись, Чудовище! – повелительно сказал двойник. – Все я тебе дал, а вот от страха не вылечил. Ну, да ладно. Проживешь…
«Не поняли! Не увидели!» – обмирая от радости, подумал Лахтин.
– Я пошел, – напомнил Йегрес. – Будь позубастее, родственничек. И не поминай лихом.
Он неторопливо пошел-поплыл наискосок через Крещатик.
Лахтин, хоть и понимал, что ничего не случится, весь сжался, когда синий «Жигуленок» – первый из вереницы автомобилей, мчавшихся по улице, – врезался в расплывчатую фигуру двойника, прошил ее, а за ним замелькали другие машины, зловонно дыша бензином и перегретым металлом.
Йегрес шел сквозь железный поток, не замечая его, и сердце Сергея Тимофеевича вдруг наполнилось гордостью за двойника и одновременно за себя: плевали они и на людей, и на весь этот мир. Раз их с Йегресом не видят, не замечают – тем лучше. Значит, они вольны жить, как хотят.
– Прощай, Злодей! – прошептал Лахтин. – Не бойся, нас уже никто не остановит.
Он почувствовал в себе такую силу, такую дерзкую уверенность, что даже прикрыл глаза, чтобы прохожие не увидели в них торжества. Его буквально распирали эти два чувства, тянули ввысь. И сладко, как в детстве, и замирает сердце от страха и восхищения. Еще немного, и он тоже взлетит, заскользит невесомо над Крещатиком – сквозь ревущий поток машин, усталые дома, полумертвые от жары деревья…
Он вдруг услышал настойчивые голоса, которые бесцеремонно ворвались в его грезы, но открывать глаза не стал.
– Расстегните ему рубашку, – сказала какая-то женщина.
Лахтин без труда определил по голосу, что ей за пятьдесят и что у нее небольшая зарплата.
– Товарищи, может, у кого есть нитроглицерин? – вмешался мужской голос.
«Кому-то поплохело, – машинально отметил Лахтин и представил, как собираются рядом зеваки, как суетятся люди, не зная, чем помочь тому, кто упал на асфальт. – Мое дело сторона, я не врач. И вообще… Могу я хоть раз отключиться от суеты и никого не видеть, ни о чем не думать, ни о ком не переживать».
Голоса-реплики прибывали:
– «Скорую помощь» вызвали?
– Да, вон тот гражданин звонил…
– Позвоните еще… – Голос был старческий, дребезжащий: – Юноша, потрудитесь, пожалуйста, набрать ноль три. Пока они соберутся, человек помереть может.
– Есть вода, – обрадовался женский голос. – Воду несут…
«Сердце, наверное, хватануло, – подумал Лахтин о несчастном. – Интересно кого – молодого или старого? Может, все-таки открыть глаза, полюбопытствовать?»
Как бы в унисон его мыслям в говор толпы ворвался возбужденный напористый голос профессиональной сплетницы, боящейся пропустить зрелище и пробивающейся, по-видимому, сейчас вперед:
– Кому, людоньки, плохо? Дайте поглядеть, говорю. Кому плохо?