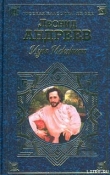Текст книги "У окна"
Автор книги: Леонид Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Леонид Андреев
У окна
* * *
Андрей Николаевич снял с подоконника горшок с засохшей геранью и стал смотреть на улицу. Всю ночь и утро сеял частый осенний дождь, и деревянные домики, насквозь промокшие, стояли серыми и печальными. Одинокие деревья гнулись от ветра, и их почерневшие листья то льнули друг к другу, шепча и жалуясь, то, разметавшись в разные стороны, тоскливо трепетали и бились на тонких ветвях. Наискосок, в потемневшем кривом домике, отвязалась ставня и с тупым упорством захлопывала половинку окна, таща за собой мокрую веревку, и снова со стуком ударялась о гнилые бревна. И остававшаяся открытой другая половинка, со стоявшей на ней бутылкой желтого масла и сапожной колодкой, смотрела на улицу хмуро и недовольно, как человек с больным и подвязанным глазом.
За дощатой перегородкой, отделявшей комнатку Андрея Николаевича от хозяйского помещения, послышался голос, глухо и неторопливо бурчавший:
– Дело вот в чем – две копейки потерял.
– Да брось ты их, Федор Иванович, – умолял женский голос.
– Не могу.
Под тяжелыми шагами заскрипели половицы, и стукнула упавшая табуретка. Хозяин Андрея Николаевича, пекарь, когда бывал пьян, постоянно терял что-нибудь и не успокаивался, пока не находил. Чаще всего он терял какие-то две копейки, и Андрей Николаевич сомневался, были ли они когда-нибудь в действительности. Жена давала ему свои две копейки, говоря, что это потерянные, но Федор Иванович не верил, и приходилось перерывать всю комнату.
Вздохнув при мысли о глупости человеческой, Андрей Николаевич снова обратился к улице. Прямо против окна, на противоположной стороне, высился красивый барский дом. Деревянная вычурная резьба покрывала будто кружевом весь фасад, начинаясь от высокого темно-красного фундамента и доходя до конька железной крыши со стоящим на ней таким же вычурным шпилем. Даже в эту погоду, когда кругом все стояло безжизненным и грустным, зеркальные стекла дома сияли, и тропические растения, отчетливо видные, казались молодыми, свежими и радостными, точно для них никогда не умирала весна и сами они обладали тайной вечнозеленой жизни. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и воображал, как живут там. Смеющиеся красивые люди неслышно скользят по паркетным полам, тонут ногой в пушистых коврах и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тела. За зелеными цветами не видно улицы с ее грязью, и все там красиво, уютно и чисто.
В пять или шесть часов приезжает обыкновенно со службы сам владелец богатого дома, красивый высокий брюнет с энергичным выражением лица и белыми зубами, делающими его улыбку яркой и самоуверенно – веселой. С ним часто приезжает какой-нибудь гость. Быстрыми и твердыми шагами всходят они на каменные ступени крыльца и, смеясь, скрываются за дубовой дверью, а толстый и сердитый кучер делает крутой поворот и въезжает на мощеный двор, в отдаленном конце которого видны капитальные службы и за ними высокие деревья старого сада. И Андрей Николаевич представляет себе, как теперь встречает их молодая хозяйка, как они садятся за стол, украшенный зеленеющим хрусталем и всем, чего Андрей Николаевич никогда не видал, едят и смеются. Однажды он встретил обладателя белых зубов, когда тот ехал по улице, разбрызгивая резиновыми шинами мелкий щебень. Андрей Николаевич поклонился, и он весело и любезно ответил, но лицо его не выразило ни малейшего удивления по поводу того, что ему кланяется какой-то желтоватый и худой господин в фуражке с бархатным околышем и кокардой, и он не задумался о причине этого. Но причины не знал и сам Андрей Николаевич.
– Вот в чем дело, – говорил за перегородкой хозяин, раздумчиво и вразумительно, – это не те две копейки. Те две копейки щербатые.
– Господи, да когда же ты приберешь меня?
Андрей Николаевич сидел у окна, смотрел и слушал. Он хотел бы, чтобы вечно был праздник и он мог смотреть, как живут другие, и не испытывать того страха, который идет вместе с жизнью. Время застывало для него в эти минуты, и его зияющая, прозрачная бездна оставалась недвижимой. Так могли пронестись года, и ни одного чувства, ни одной мысли не прибавилось бы в омертвевшей душе.
Вот распахнулись ворота богатого дома, выехал кучер и остановился у крыльца, расправляя на руках вожжи. «Это барыня сейчас поедет», – подумал Андрей Николаевич. В дверях показалась молодая, нарядно одетая женщина и с нею сын, семилетний пузырь, с лицом таким же смуглым, как у отца, и с выражением сурового спокойствия и достоинства. Заложив руки в карманы длинного драпового пальто, маленький человечек благосклонно смотрел на вороного жеребца, горячо и нетерпеливо перебиравшего тонкими ногами, и с тем же видом величавого покоя и всеобъемлющей снисходительности, не вынимая рук из карманов, позволил горничной поднять себя и посадить в пролетку. Этого мальчика Андрей Николаевич называл про себя «вашим превосходительством» и искренно недоумевал, неужели такие дети, как он, с врожденными погонами на плечах, родятся тем же простым способом, как и другие дети? И, когда обе женщины рассмеялись на маленького генерала, с задумчивым удивлением посмотревшего на их непонятную веселость, худенький чиновник, притаившийся у своего окна, невольно и с почтением улыбнулся. Лошадь рванула с места и ровной, крупной рысью понесла подпрыгивающий экипаж. Спрятав под передник красные руки, горничная повертелась на крыльце, сделала гримасу и скрылась за дверью. Снова опустела и затихла мокрая улица, и только отвязавшаяся ставня хлопала с таким безнадежным видом, точно просила, чтобы кто-нибудь вышел и привязал ее. Но покривившийся домик точно вымер. Раз только за его окном мелькнуло бледное женское лицо, но и оно не было похоже на лицо живого человека.
Андрей Николаевич никогда не завидовал этим людям и не хотел бы иметь столько денег, как они. Давно уже, целых шесть лет, он следил за красивым домом и так сжился с ним, что, сгори дом – он не знал бы, что ему делать. Он изучил все привычки его обитателей, и, когда в прошлом году, весной, пришли плотники и маляры и стали работать, Андрей Николаевич все свое свободное время проводил у окна и сильно тревожился. Ему казалось, что неуклюжие маляры, тонкими голосками поющие какие-то глупые песенки, обязательно испортят дом. И хотя он вовсе не был испорчен и еще ярче засиял, обмытый и помолодевший, Андрею Николаевичу было жаль старого дома, в котором он знал всякую трещину. Там, где откос крыши сходился со стенами, в треугольничке находилось место, которое он особенно любил за его уютность, и ему сделалось особенно тяжело, когда плотники оторвали старую резьбу, и уютный уголок, обнаженный, сверкающий белым тесом от свежих ран, выступил на свет, и вся улица могла смотреть на него. И только раз или два Андрею Николаевичу приходила мысль о том, что и он мог бы быть человеком, который умеет зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и красивая жена. И от этого предположения ему становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнате, и стены и потолок, до которого легко достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему, и не заговорит с ним, и не будет требовать от него ответа. Никто не знает и не думает о нем, и он так спокоен, как будто лежит на илистом дне глубокого моря и тяжелая, темно-зеленая масса воды отделяет его от поверхности с ее бурями. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине, на виду у всех. Все смотрят на него, говорят о нем и трогают его. Он должен говорить с людьми, которые непрестанно приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий, белый свет. И, ничем не защищенный, стоит он посередине, словно на площади, по которой он так не любит ходить. Он обязан думать о деньгах, о том, чтобы они не пропали бы и их было больше, о жене, о фабрике и о множестве странных вещей. У него есть подчиненные, и необходимо давать приказания, а если они не послушаются и станут спорить, то кричать и топать ногами. Надо быть страшным для других и сильным, очень сильным, – и при этой мысли Андрей Николаевич чувствует, что все тело его, руки, ноги становятся мягкими, точно из них вынуты все мускулы и кости. Это чувство является у него всякий раз, когда ему приходится делать что-нибудь свое, непривычное и неприказанное.
В своей канцелярии он чувствует себя хорошо. Стол его, все один и тот же за пятнадцать лет, – крытый клеенкой стол притиснут в самый угол, и, когда проходит советник, он не видит Андрея Николаевича за другими чиновниками. Все же в эти минуты ему жутко, и лишь после того, как советник пройдет и согнутые спины распрямятся, словно колосья ржи после промчавшегося ветра, Андрей Николаевич сознает себя в полной безопасности. И только помощник секретаря, который берет у него переписанные бумаги и дает новые, знает, что существует на свете очень исполнительный и скромный чиновник, пишущий «д» с большим росчерком и «р», похожее на скрипичный знак, и что зовут его Андреем Николаевичем, товарищи дразнят его «Сусли-Мысли», а фамилия известна одному казначею. В свою очередь, чиновник этот знает, что он будет делать завтра и всю жизнь, и ничто новое и страшное не встретится на пути. Пять лет тому назад его назначили старшим чиновником – и что это за страшные были дни!
Надвинулась туча, и в комнатке Андрея Николаевича потемнело. Он смотрел в окно, как ветер пригибает к крыше ракиту, бессильную в своем трепетном сопротивлении, и старался думать о том, переломится ли дерево или нет и чувствуются ли ветер этот и туча в богатом доме. Но размышления шли вяло, и картина жизни в богатом доме оставалась тусклой. В созданной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживался от жизни, есть слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделать с мыслями. И они приходят, раздвигают стены, снимают потолок и бросают Андрея Николаевича под хмурое небо, на середину той бесконечной, открытой отовсюду площади, где он является как бы центром мироздания и где ему так нехорошо и жутко. Вот сейчас, когда он только что обрадовался неслышному движению времени, незаметно подкрались враги, и он уже не в силах бороться с ними. Стен уже нет, и нет его комнаты. Он опять стоит перед советником, чувствует, как обмякли его ноги и руки, и, словно привороженный, смотрит на сияющий блик его лысины. Так медленно проползает секунда, две. Подошвы совсем прилипли к полу, и сдвинуть Андрея Николаевича не могла бы дюжина лошадей.
– Ну, что еще? – замечает его советник, уже отдавший все необходимые приказания.
Голос его гремит, как труба на страшном суде, и ноги Андрея Николаевича сейчас же сдвигаются, но не идут к двери, где спасение, а танцуют на одном месте. Язык, однако, еще не отклеился, и оторвать его можно только щипцами.
– Н-ну? – протянула труба.
– А… если Агапов к двум часам не перепишет?
– Да… – задумался начальник. – Ну, дайте тогда на дом. Что еще? Ясно?
– Ясно, – отвечает Андрей Николаевич в тон вопросу, резко и отрывисто. Он плохо понимает, что ему говорят, потому что новый и страшный вопрос возникает в его мозгу.
– Так… чего же вам еще? – рычит труба.
– А… если у него есть другая спешная работа?
Это была правда. У Агапова могла быть другая спешная работа, и советник об этом не подумал. Снова, с неудовольствием оторвавшись от бумаги, он обратил на Андрея Николаевича нетерпеливый взгляд и ничего не мог придумать.
– Ну, дайте кому-нибудь еще.
– А если…
– Что-с? – рванул советник. Глаза его стали огромные и круглые, как кегельные шары.
Андрей Николаевич обомлел от страха.
– Нет, нет, не то, – скороговоркой проговорил он и из невольного подражания закричал на начальника так же громко, как и тот на него, – похоже было на разговор людей, разделенных широким оврагом. – Я вам говорю, если мы на сегодняшнюю почту опоздаем, тогда что?
Остальное представляется Андрею Николаевичу в виде одного звука: ф-фа! Через неделю советник говорил секретарю:
– Откуда вы достали этого господина, который по горло заряжен всякими «если»? Все, что он предполагает, может случиться, хотя мне это и в голову не приходило. Но ведь и дом этот может провалиться! – вдруг рассердился он. – Ведь может?
– Казенной постройки, – пошутил секретарь и серьезно добавил: – Никак не полагал: он такой исполнительный…
– Дерзкий еще такой, кричит. Уберите его на старое место.
И Андрея Николаевича убрали, а у него целую еще неделю руки и ноги были мягкими, как у дешевой куклы, набитой отрубями.
На улице послышались гнусавые и резкие звуки гармоники. По противоположной стороне шли четверо пьяных, одетых в длиннополые сюртуки, высокие узкие сапоги и картузы, у которых поля были острые, как ножи. Все четверо были молоды и шли с совершенно серьезными и даже печальными лицами. Один, высоко держа гармонику, наигрывал однообразный трескучий мотив, от которого в глазах желтело. Когда уличные ребятишки, подражая взрослым, играли в пьяных и вместо гармоник держали в руках чурки, они изображали этот мотив так:
– Ган-на-нидар, ган-на-нидар – ган-на-нидар, най-на.
Против красивого дома на мостовой было единственное сравнительно сухое место на всей улице, и один из пьяных выделился вперед и стал плясать, пристукивая каблуками и изгибаясь всем телом. Лицо его, молодое, дерзкое, с небольшими светлыми усиками, осталось таким же серьезным и даже печальным, как будто давным-давно ему наскучило быть пьяным и плясать на грязной мостовой под этот трескучий, невеселый мотив. Остальные смотрели на него так же равнодушно и вяло, не выражая ни одобрения, ни порицания, и чем-то беспросветно тоскливым веяло от этого странного веселья под хмурым осенним небом среди покосившихся домишек.
«Ванька Гусаренок! – подумал Андрей Николаевич. – Пляшет – значит, будет сегодня жену бить».
Когда пьяные прошли, уныло-задорные звуки гармоники стихли, из покосившегося домика с хлопающей ставней вышла женщина, жена Гусаренка, и остановилась на крылечке, глядя вслед за прошедшими. На ней была красная ситцевая блуза, запачканная сажей и лоснившаяся на том месте, где округло выступала молодая, почти девическая грудь. Ветер трепал грязное платье и обвивал его вокруг ног, обрисовывая их контуры, и вся она, с босых маленьких ножек до гордо повернутой головки, походила на античную статую, жестокой волей судьбы брошенную в грязь провинциального захолустья. Правильное, красивое лицо с крутым подбородком было бледно, и синие круги увеличивали и без того большие черные глаза. В них странно сочетались гнев и боязнь, тоска и презрение. Долго еще стояла на крылечке Наташа и так пристально смотрела вслед мужу, идущему из одного кабака в другой, точно всей своей силой воли хотела вернуть его обратно. Рука, которой она держалась за косяк двери, замерла; волосы от ветра шевелились на голове, а давно отвязавшаяся ставня упорно продолжала хлопать, с каждым разом повторяя: нет, нет, нет.
«Вот баба-то! – ужаснулся Андрей Николаевич, когда Наташа ушла, не бросив взгляда на окно, за которым он прятался. – И слава богу, что я на ней не женился».
Андрей Николаевич даже рассмеялся от удовольствия, но оно было непродолжительно. Еще не разгладились морщинки, образовавшиеся от смеха, как в потаенную калиточку ворвались враги. Образ Наташи, еще не сошедший с сетчатки его глаза, вырос перед ним яркий и живой, а рядом выступила другая картинка, без всякого предупреждения, внезапно. Стены раздвинулись и исчезли, на него пахнуло полем и запахом скошенного сена. Над черным краем земли неподвижно висел багрово-красный диск луны, и все кругом было так загадочно, тихо и странно.
«Господи, – сказал Андрей Николаевич с мольбой, – разве мало того, что это было когда-то, нужно еще, чтобы оно постоянно являлось. Мне совсем этого не нужно, я не хочу этого».
Желтыми от табаку пальцами он оторвал кусок толстой папиросной бумаги, похожей на оберточную, достал из жестянки щепотку мелкого табаку и свернул папироску, склеивая концы бумаги языком. За перегородкой, задыхаясь и сопя, храпел Федор Иванович. Обессиленный водкой и поисками двух копеек, он заснул и проснется только вечером, когда стемнеет. Воздух изнутри с силой поднимался к горлу спящего, ища себе выхода, и с легким шипением выходил наружу, отравляя комнату запахом перегорелой водки. Проснувшись, Федор Иванович будет долго и мучительно кашлять выворачивающим все внутренности кашлем, выпьет квасу и потом водки, и снова начнутся мучения его жены. Так бывало каждый праздник. Андрею Николаевичу стало досадно на этого толстого, рыхлого человека, который всю неделю томится от жара у раскаленной печи, а в праздник задыхается от водки.
Он обратился к улице. Из-за разорванных туч выглянуло на миг солнце и скупым, желтым светом озарило мокрую и печальную улицу. Только противоположный дом стоял все таким же гордым и веселым, и окна его сияли. Но Андрей Николаевич не видел его. Он видел то, что было когда-то и что так упорно продолжало являться назло всем стенам и запорам.
Наташа никогда не была веселой, даже и в то время, когда она была еще девушкой, красивой и свободной, и любви ее добивались многие. При первой встрече с ней Андрей Николаевич испытал неприятное чувство стеснения и робости. Он с тревогой следил за ее резкими и неожиданными движениями, и ему казалось, что сейчас Наташа скажет или сделает что-нибудь такое, от чего всем присутствующим на вечеринке станет совестно. Вместе с другими девушками она пела песни, но не старалась кричать вместе с ними как можно выше и громче, а шла в одиночку со своим низким и несколько грубоватым контральто и как будто пела для одной себя. Когда Гусаренок, также бывший на этой вечеринке и по обыкновению несколько пьяный, игриво обнял ее за талию, она грубо оттолкнула его и, покраснев, сказала что-то, от чего его светлые усики запрыгали и глаза стали жесткими и вызывающими. С дерзким смехом, не оборачиваясь, он показал пальцем на Андрея Николаевича – Наташа молча повернула голову, и ее черные глаза устремились на него, не то спрашивая, не то приказывая сделать что-то сейчас, немедленно. И он хотел отвести от них свои глаза и не мог, и испытывал то же состояние безволия, порабощения, как и в ту минуту, когда он глядел не отрываясь на блестящую лысину начальника. Лица Наташи видно не было, и только ее глаза, страшно большие и страшно черные, сверкали перед ним, как черные алмазы. И, все продолжая смотреть на него, Наташа поднялась с места, быстрой, уверенной походкой прошла комнату и села с ним рядом так просто и свободно, точно он звал ее, и заговорила, как старая знакомая.
– Мы вам попомним это, Наталья Антоновна, – сказал, проходя, Гусаренок.
На Андрея Николаевича он не взглянул, но в его вздрагивающих усиках чувствовалась угроза.
– Счастливо оставаться, век не расставаться, – проговорил Гусаренок, не получая от Наташи ответа, и вышел, залихватски заломив картуз.
Через секунду под окнами послышалась гармоника и высокий приятный тенор:
Она, моя милая,
Сердце мое вынула,
Сердце мое вынула,
В окно с сором кинула…
– Он вас побьет, вы берегитесь, – сказала Наташа.
– Не смеет, я чиновник, – возразил Андрей Николаевич и действительно нисколько не боялся. На него точно просветление какое нашло. Он не только отвечал на вопросы Наташи, но говорил и сам, и даже спрашивал ее, и не удивлялся, что говорит так складно и хорошо, как будто всю жизнь только этим делом и занимался. И, думая и говоря, он в то же время с особенной отчетливостью видел все окружающее, и грязный пол, усыпанный шелухой от подсолнухов, и хихикающих девушек, и небольшую прихотливую морщинку на низком лбу Наташи.
Но как только Наташа отошла от него, им овладело чувство величайшего страха, что она снова подойдет и снова заговорит. И Гусаренка он стал бояться и долго находился в нерешимости, что ему делать: идти ли домой, чтобы спастись от Наташи, или остаться здесь, пока Гусаренка не заберут в участок, о чем известно будет по свисткам.
Весь следующий день Андрей Николаевич томился страхом, что придет Наташа, и ноги его несколько раз обмякали при воспоминании о том, как он, Андрей Николаевич, был отчаянно смел вчера. Но, когда за перегородкой, у хозяйки, он услыхал низкий голос Наташи, он, подхваченный неведомой силой, сорвался с места и развязно вошел в комнату. Так во время сражения впереди батальона бежит молоденький солдатик, размахивает руками и кричит «ура!»… Подумаешь, что это самый храбрый из всех, а у него холодный пот льет по бледному лицу и сердце разрывается от ужаса. Но, едва Андрею Николаевичу метнулись в глаза два черных алмаза, страх тотчас пропал, и стало легко и спокойно.
Промчалось невидных два месяца, и вышло так, что Наташа и Андрей Николаевич любят друг друга. Это видно было из того, что он целовал Наташу в щеки и в эти черные страшные глаза, щекотавшие губы своими ресницами. При этом Наташа подтверждала существование любви, говоря:
– Не нужно целовать в глаза – примета нехорошая.
– Какая же такая примета? – смеялся Андрей Николаевич и чувствовал, насколько он, человек образованный, прошедший два класса реального училища, выше этой темной девушки, верящей во всякие приметы.
– Такая. Разлюбите меня, вот что.
Раз есть возможность разлюбить – значит, любовь существует. Но откуда же она взялась? И куда она девалась на то время, когда Андрей Николаевич не видел Наташи? Тогда девушка эта казалась ему совершенно чуждой и далекой от него, и в поцелуи ее так же трудно верилось, как если бы он стал думать о поцелуях той богатой барыни, что живет напротив. В самом слове «Наташа» звучало для него что-то странное, чужое, точно он до сих пор не слыхал этого имени и не встречал подобного сочетания звуков. Наташа… Он ничего не знал о Наташе и о ее прошлой жизни, о которой она не любила говорить.
– Жила, как и люди живут, – говорила она. – Вы лучше о себе расскажите.
Эта просьба всегда затрудняла Андрея Николаевича, потому что рассказывать было не о чем. Ему тридцать четыре года, а в памяти от этих лет нет ничего, так, серенький туман какой-то да та особенная жуть, которая охватывает человека в тумане, когда перед самыми глазами стоит серая, непроницаемая стена. Был у него отец, маленький рыженький чиновник в больших калошах и с огромным свертком бумаг под мышкой; была мать, худая, длинная и рано умершая вместе со вторым ребенком. Потом, с шестнадцати лет, Андрей Николаевич стал также чиновником и ходил вместе с отцом на службу, и под мышкой у него был также большой сверток бумаг, а на ногах старые отцовские калоши. Отец умер от холеры, и он стал ходить на службу один. В молодости он очень любил играть на бильярде, играл на гитаре и ухаживал за барышнями. Пытался он тогда переменить свою участь, бросить казенную службу, но как-то все не удавалось. Раз уже ему обещали хорошее место, да пришел кто-то другой и сел на это место, так он ни при чем и остался. Да, может быть, это и к лучшему было, потому что тот, похититель, и года не просидел на своем месте, а он вот до сих пор – ничего, служит.
– И только? – спрашивала с недоверием Наташа.
– И только. Чего же еще?
– А я не так думала. Я думала, у вас другая жизнь, не так, как у нас. Книжки читаете и все говорите так тихо, благородно, и все о хорошем, чувствительном.
– Читал я и книжки, да что в них толку? Все выдумка одна.
– А божественное?
– Кто же теперь читает божественное? Купцы одни, как нахапают побольше, так божественное читают. А у нас и без того грехов мало.
– И не скучно вам так-то, все одному да одному?
– Чего же скучать? Сыт, одет, обут, у начальства на хорошем счету. Секретарь прямо говорит: примерный вы, говорит, чиновник, Андрей Николаевич. Кто губернатору доклады переписывает – я небось!
– Да вам же скучно без людей?
– Да что в них, в людях? Свара одна да неприятности. Не так скажешь, не так сядешь. Один-то я сам себе господин, а с ними надо… А то пьянство, картеж, да еще начальству донесут, а я люблю, чтобы все было тихо, скромно. Тоже ведь не кто-нибудь я, а коллежский регистратор – вон какая птица, тебе и не выговорить. Другие вон и благодарность принимают, а я не могу. Еще попадешься грешным делом.
Но Наташа не удовлетворялась. Она хотела знать, как живут у них, у чиновников, жены, дочери и дети. Пьют ли мужья водку, а если пьют, то что делают пьяные и не бьют ли жен, и что делают последние, когда мужья бывают на службе. И по мере того, как Андрей Николаевич рассказывал, лицо Наташи застывало, и только прихотливая морщинка на низком лбу двигалась с выражением упорной мысли и тяжелого недоумения.
– Прощайте, – тихо говорила Наташа и уходила. А он целовал ее холодную, неподвижную щеку, думал: «Чего ей надо? Только тоску на людей нагоняет».
Раз летом они долго сидели в хозяйском саду и потом вышли на берег. Солнце зашло в облака, и только узкая багрово-красная полоска горела на горизонте, обещая назавтра ветер. Вода была неподвижна, и им сверху казалось, что они смотрят не в реку, а в небо. На том берегу на много верст тянулись бакши, и соломенный шалаш сторожа чуть белел на земле, казавшейся черной от контраста со светлым небом. Недалеко от шалаша горел костер, и пламя его поднималось вверх прямым и тонким лезвием, как от восковой свечи. Со стороны садов пахло лежалыми яблоками и свежескошенным сеном. На улице ударил в колотушку сторож, вышедший на ночное дежурство, и галки, облепившие высокие ракиты, зашумели листьями и подняли долгий, несмолкающий крик. И снова настала тишина.
– В каком ухе звенит? – спросила Наташа и наклонила голову, боясь потерять этот тоненький, звенящий голосок.
– В левом, – невнимательно ответил Андрей Николаевич и не угадал. Но он и не старался об этом – тихий вечер расположил его к такой же тихой грусти и размышлениям о жизни. Следя прищуренными глазами за костром, он ощупью достал портсигар и закурил, и дым легкими колечками поднимался и таял в воздухе, полном прозрачной мглы. Не торопясь, прерывая себя долгими минутами молчания, Андрей Николаевич стал говорить о том, какая это и странная и ужасная вещь жизнь, в которой так много всего неожиданного и непонятного. Живут люди, и умирают, и не знают нынче о том, что завтра умрут. Шел чиновник в погребок за пивом, а на него сзади карета наехала и задавила, и вместо пива к ожидавшим приятелям принесли еще не остывший труп. Получил чиновник награду, пошла его жена бога благодарить, а в церкви деньги у нее и вытащили. И куда ни сунься, всё люди грубые, шумные, смелые, так и прут вперед и все побольше захватить хотят. Жестокосердые, неумолимые, они идут напролом со свистом и гоготом и топчут других, слабых людей. Писк один несется от растоптанных, да никто и слышать его не желает. Туда им и дорога!
В голосе Андрея Николаевича звучал ужас, и весь он казался таким маленьким и придавленным. Спина согнулась, выставив острые лопатки, тонкие, худые пальцы, не знающие грубого труда, бессильно лежали на коленях. Точно все груды бумаг, переписанных на своем веку и им, и его отцом, легли на него и давили своей многопудовой тяжестью.
– Так вот всю жизнь и проживешь, – сказал он после долгой паузы, продолжая какую-то свою мысль.
– Вы бы… ушли куда-нибудь.
– Куда идти-то?
Наташа помолчала и вдруг обхватила рукой шею Андрея Николаевича и прижала его голову к своей груди.
– Голубчик ты мой!
Первый раз говорила она Андрею Николаевичу «ты». При порывистом движении Наташи фуражка с бархатным околышем свалилась с головы и теперь катилась вниз, подскакивая на неровностях обрыва. Твердая рука Наташи крепко прижимала голову Андрея Николаевича к упругой груди, и ему было тепло и ничего не страшно, только до боли жаль себя. Он хотел сказать что-нибудь сильное, хорошее и такое жалостливое, чтобы Наташа заплакала, но таких слов не находилось на его языке, и он молчал. Согнутой шее становилось больно от неудобного положения, и Андрей Николаевич попытался высвободить свою голову, но твердая рука только сильнее прижала ее к горячей груди. Вдыхая запах молодого здорового тела, он скосил глаза и из-под руки Наташи увидел очистившееся и потемневшее небо со слабо мерцавшими звездами. Немного ниже, там, где черный край земли сливался со смутно-черным небом, неподвижно висел красный диск луны, казавшийся близким и страшным. Безмолвный, угрюмый, он не издавал лучей и висел над землей как исполинская угроза каким-то близким, но неведомым бедствием. В немом ужасе застыли река, и болтливый тростник, и черная даль. Костер на том берегу давно уже потух, и ни один звук не нарушал грозной тишины.
Наташа вздрогнула и выпустила голову Андрея Николаевича.
– Ну, пойдемте.
Охваченный свежим воздухом, он поднялся и, сделав шаг к Наташе, приготовился сказать ей то важное и значительное, для чего у него не находилось слов.
– Наташа… – начал он нерешительно, приподняв брови и выпятив губы.
Гладко прилизанная голова его была на этот раз всклокочена, и редкие волосики стояли, как у дикобраза.
– Ну?
– Наташа… – повторил он, забыв, что хотел сказать. – Наташа, дело вот в чем…
– Две копейки потеряли? Какой вы смешной! – И Наташа рассмеялась. Смеялась она неприятно, каким-то чужим и неестественным голосом.
Андрей Николаевич обиделся и молча достал фуражку, а дорогой домой выговаривал Наташе за ее смех и упрекал за неумение держаться в приличном обществе.
Андрей Николаевич сидел у окна и настойчиво смотрел на улицу, но она была все так же безлюдна и хмура, и в покосившемся домике продолжала ударять о стену отвязавшаяся ставня, точно загоняя гвозди в чей-то свежий гроб. «Привязать не может!» – подумал Андрей Николаевич с гневом на Наташу и, взглянув на часы, убедился, что ему время обедать и даже прошло уже лишних пять минут. После обеда он лег отдохнуть, но сон долго не приходил, и вообще праздник был испорчен. А за перегородкой, точно назло, храпел Федор Иванович, и воздух бурлил в его горле и с шипением выходил наружу.
После вечера на берегу, на другой же день, начался разлад, и был так же малопонятен, как и начало любви. У Андрея Николаевича давно уже явилась неприятная догадка и к этому времени перешла в уверенность: Наташа хочет выйти замуж и именно за чиновника. Она женщина неграмотная, говорит: «теперича», «поемши»; она по ремеслу папиросница, и часто, когда она делает папиросы на дому, ей приходится терпеть наглые любезности и заигрывания. И вот она ищет мужа с положением, образованного, который мог бы быть ей покровителем и защитником, а таких на всей улице только один и есть он, Андрей Николаевич Николаев. Как женщина умная и хитрая, она скрывает свои планы и делает вид, что любит бескорыстно. А так как до сих пор эта тактика ни к чему не привела и Андрей Николаевич оставался тверд как гранит, Наташа начала прибегать к другому средству, которым опытного человека, в молодости ухаживавшего за барышнями, никак не проведешь: делает вид, что ни на грош не любит Андрея Николаевича, и нарочно расхваливает Гусаренка за его силу и молодчество. А этого Гусаренка на днях вели в участок; рубашка его была разорвана сверху донизу, и по белому как мел лицу текла красная струйка крови. Сзади бежали и улюлюкали мальчишки, а один из городовых, такой же бледный, как и Гусаренок, методически ударял его кулаком, и белая голова откачивалась. И такого-то она может полюбить!