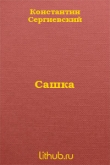Текст книги "Шесть рассказов"
Автор книги: Леонид Андреев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
Стена
I
Я и другой прокажённый, мы осторожно подползли к самой стене и посмотрели вверх. Отсюда гребня стены не было видно; она поднималась, прямая и гладкая, и точно разрезала небо на две половины. И наша половина неба была буро-чёрная, а к горизонту темно-синяя, так что нельзя было понять, где кончается чёрная земля и начинается небо. И сдавленная землёй и небом задыхалась чёрная ночь, и глухо и тяжко стонала, и с каждым вздохом выплёвывала из недр своих острый и жгучий песок, от которого мучительно горели наши язвы.
– Попробуем перелезть, – сказал мне прокажённый, и голос его был гнусавый и зловонный, такой же, как у меня.
И он подставил спину, а я стал на неё, но стена была все так же высока. Как и небо, рассекала она землю, лежала на ней, как толстая сытая змея, спадала в пропасть, поднималась на горы, а голову и хвост прятала за горизонтом.
– Ну, тогда сломаем её! – предложил прокажённый.
– Сломаем! – согласился я.
Мы ударились грудями о стену, и она окрасилась кровью наших ран, но осталась глухой и неподвижной. И мы впали в отчаяние.
– Убейте нас! Убейте нас! – стонали мы и ползли, но все лица с гадливостью отворачивались от нас, и мы видели одни спины, содрогавшиеся от глубокого отвращения.
Так мы доползли до голодного. Он сидел, прислонившись к камню, и, казалось, самому граниту было больно от его острых, колючих лопаток. У него совсем не было мяса, и кости стучали при движении, и сухая кожа шуршала. Нижняя челюсть его отвисла, и из тёмного отверстия рта шёл сухой шершавый голос:
– Я го-ло-ден.
И мы засмеялись и поползли быстрее, пока не наткнулись на четырех, которые танцевали. Они сходились и расходились, обнимали друг друга и кружились, и лица у них были бледные, измученные, без улыбки. Один заплакал, потому что устал от бесконечного танца, и просил перестать, но другой молча обнял его и закружил, и снова стал он сходиться и расходиться, и при каждом его шаге капала большая мутная слеза.
– Я хочу танцевать, – прогнусавил мой товарищ, но я увлёк его дальше.
Опять перед нами была стена, а около неё двое сидели на корточках. Один через известные промежутки времени ударял об стену лбом и падал, потеряв сознание, а другой серьёзно смотрел на него, щупал рукой его голову, а потом стену и, когда тот приходил в сознание, говорил:
– Нужно ещё; теперь немного осталось.
И прокажённый засмеялся.
– Это дураки, – сказал он, весело надувая щеки. – Это дураки. Они думают, что там светло. А там тоже темно, и тоже ползают прокажённые и просят: убейте нас.
– А старик? – спросил я.
– Ну, что старик? – возразил прокажённый. – Старик глупый, слепой и ничего не слышит. Кто видел дырочку, которую он проковыривал в стене? Ты видел? Я видел?
И я рассердился и больно ударил товарища по пузырям, вздувавшимся на его черепе, и закричал:
– А зачем ты сам лазил?
Он заплакал, и мы оба заплакали и поползли дальше, прося:
– Убейте нас! Убейте нас!
Но с содроганием отворачивались лица, и никто не хотел убивать нас. Красивых и сильных они убивали, а нас боялись тронуть. Такие подлые! «
II
У нас не было времени, и не было ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Ночь никогда не уходила от нас и не отдыхала за горами, чтобы прийти оттуда крепкой, ясно-чёрной и спокойной. Оттого она была всегда такая усталая, задыхающаяся и угрюмая. Злая она была. Случилось так, что невыносимо ей делалось слушать наши вопли и стоны, видеть наши язвы, горе и злобу, и тогда бурной яростью вскипала её чёрная,. глухо работающая грудь. Она рычала на нас, как пленённый зверь, разум которого помутился, и гневно мигала огненными страшными глазами, озарявшими чёрные, бездонные пропасти, мрачную, гордо-спокойную стену и жалкую кучку дрожащих людей. Как к другу, прижимались они к стене и просили у неё защиты, а она всегда была наш враг, всегда. И ночь возмущалась нашим малодушием и трусостью и начинала грозно хохотать, покачивая своим серым пятнистым брюхом, и старые лысые горы подхватывали этот сатанинский хохот. Гулко вторила ему мрачно развеселившаяся стена, шаловливо роняла на нас камни, а они дробили наши головы и расплющивали тела. Так веселились они, эти великаны, и перекликались, и ветер насвистывал им дикую мелодию, а мы лежали ниц и с ужасом прислушивались, как в недрах земли ворочается что-то громадное и глухо ворчит, стуча и просясь на свободу. Тогда все мы молили:
– Убей нас!
Но, умирая каждую секунду, мы были бессмертны, как боги.
Проходил порыв безумного гнева и веселья, и ночь плакала слезами раскаяния и тяжело вздыхала, харкая на нас мокрым песком, как больная. Мы с радостью прощали её, смеялись над ней, истощённой и слабой, и становились веселы, как дети. Сладким пением казался нам вопль голодного, и с весёлой завистью смотрели мы на тех четырех, которые сходились, расходились и плавно кружились в бесконечном танце.
И пара за парой начинали кружиться и мы, и я, прокажённый, находил себе временную подругу. И это было так весело, так приятно! Я обнимал её, а она смеялась, и зубки у неё были беленькие, и щёчки розовенькие-розовенькие. Это было так приятно.
И нельзя понять, как это случилось, но радостно оскаленные зубы начинали щёлкать, поцелуи становились уксусом, и с визгом, в котором ещё не исчезла радость, мы начинали грызть друг друга и убивать. И она, беленькие зубки, тоже била меня по моей больной слабой голове и острыми коготками впивалась в мою грудь, добираясь до самого сердца – била меня, прокажённого, бедного, такого бедного. И это– было страшнее, чем гнев самой ночи и бездушный хохот стены. И я, прокажённый, плакал и дрожал от страха, и потихоньку, тайно от всех целовал гнусные ноги стены и просил её меня, только меня одного пропустить в тот мир, где нет безумных, убивающих друг друга. Но, такая подлая, стена не пропускала меня, и тогда я плевал на неё, бил её кулаками и кричал:
– Смотрите на эту убийцу! Она смеётся над вами.
Но голос мой был гнусав и дыхание смрадно, и никто не хотел слушать меня, прокажённого.
III
И опять ползли мы, я и другой прокажённый, и опять кругом стало шумно, и опять безмолвно кружились те четверо, отряхая пыль со своих платьев и зализывая кровавые раны. Но мы устали, нам было больно, и жизнь тяготила нас. Мой спутник сел и, равномерно ударяя по земле опухшей рукой, гнусавил быстрой скороговоркой:
– Убейте нас. Убейте нас.
Резким движением мы вскочили на ноги и бросились в толпу, но она расступилась, и мы увидели одни спины. И мы кланялись спинам и просили:
– Убейте нас.
Но неподвижны и глухи были спины, как вторая стена. Это было так страшно, когда не видишь лица людей, а одни их спины, неподвижные и глухие.
Но вот мой спутник покинул меня. Он увидел лицо, первое лицо, и оно было такое же, как у него, изъязвлённое и ужасное. Но то было лицо женщины. И он стал улыбаться и ходил вокруг неё, выгибая шею и распространяя смрад, а она также улыбалась ему провалившимся ртом и потупляла глаза, лишённые ресниц.
И они женились. И на миг все лица обернулись к ним, и широкий, раскатистый хохот потряс здоровые тела: так они были смешны, любезничая друг с другом. Смеялся и я, прокажённый; ведь глупо жениться, когда ты так некрасив и болен.
– Дурак, – сказал я насмешливо. – Что ты будешь с ней делать?
Прокажённый напыщенно улыбнулся и ответил:
– Мы будем торговать камнями, которые падают со стены.
– А дети?
– А детей мы будем убивать.
– Как глупо: родить детей, чтобы убивать. А потом она скоро изменит ему
– у неё такие лукавые глаза.
IV
Они кончили свою работу – тот, что ударялся лбом, и другой, помогавший ему, и, когда я подполз, один висел на крюке, вбитом в стену, и был ещё тёплый, а другой тихонько пел весёлую песенку.
– Ступай, скажи голодному, – приказал я ему, и он послушно пошёл, напевая.
И я видел, как голодный откачнулся от своего камня. Шатаясь, падая, задевая всех колючими локтями, то на четвереньках, то ползком он пробирался к стене, где качался повешенный, и щёлкал зубами и смеялся, радостно, как ребёнок. Только кусочек ноги! Но он опоздал, и другие, сильные, опередили его. Напирая один на другого, царапаясь и кусаясь, они облепили труп повешенного в грызли его ноги, и аппетитно чавкали и трещали разгрызаемыми костями. И его не пустили. Он сел на корточки, смотрел, как едят другие, и облизывался шершавым языком, и продолжительный вой нёсся из его большого, пустого рта:
– Я го-ло-ден.
Вот было смешно; тот умер за голодного, а голодному даже куска от ноги не досталось. И я смеялся, и другой прокажённый смеялся, и жена его тут же смешливо открывала и закрывала свои лукавые глаза: щурить их она не могла, так как у неё не было ресниц.
А он выл все яростнее и громче:
– Я го-ло-ден.
И хрип исчез из его голоса, и чистым металлическим звуком, пронзительным и ясным, поднимался он вверх, ударялся о стену и, отскочив от неё, летел над тёмными пропастями и седыми вершинами гор.
И скоро завыли все, находившиеся у стены, а их было так много, как саранчи, и жадны и голодны они были, как саранча, и казалось, что в нестерпимых муках взвыла сама сожжённая земля, широко раскрыв свой каменный зев. Словно лес сухих деревьев, склонённых в одну сторону —бушующим ветром, поднимались и протягивались к стене судорожно выпрямленные руки, тощие, жалкие, молящие, и было столько в них отчаяния, что содрогались камни и трусливо убегали седые и синие тучи. Но неподвижна и высока была стена и равнодушно отражала она вой, пластами резавший и пронзавший густой зловонный воздух.
И все глаза обратились к стене, и огнистые лучи струили они из себя. Они верили и ждали, что сейчас падёт она и откроет новый мир, и в ослеплении веры уже видели, как колеблются камни, как с основания до вершины дрожит каменная змея, упитанная кровью и человеческими мозгами. Быть может, то слезы дрожали в наших глазах, а мы думали, что сама стена, и ещё пронзительнее стал наш вой.
Гнев и ликование близкой победы зазвучали в нем.
V
И вот что случилось тогда. Высоко на камень встала худая, старая женщина с провалившимися сухими щеками и длинными нечёсаными волосами, похожими на седую гриву старого голодного волка. Одежда её была разорвана, обнажая жёлтые костлявые плечи и тощие, отвислые груди, давшие жизнь многим и истощённые материнством. Она протянула руки к стене – и все взоры последовали за ними; она заговорила, и в голосе её было столько муки, что стыдливо замер отчаянный вой голодного.
– Отдай мне моё дитя! – сказала женщина.
И все мы молчали и яростно улыбались, и ждали, что ответит стена. Кроваво-серым пятном выступали на стене мозги того, кого эта женщина называла «моё дитя», и мы ждали нетерпеливо, грозно, что ответит подлая убийца. И так тихо было, что мы слышали шорох туч, двигавшихся над нашими головами, и сама чёрная ночь замкнула стоны в своей груди и лишь с лёгким свистом выплёвывала жгучий мелкий песок, разъедавший наши раны. И снова зазвенело суровое и горькое требование:
– Жестокая, отдай мне моё дитя!
Все грознее и яростнее становилась наша улыбка, но подлая стена молчала. И тогда из безмолвной толпы вышел красивый и суровый старик и стал рядом с женщиной.
– Отдай мне моего сына! – сказал он.
Так страшно было и весело! Спина моя ёжилась от холода, и мышцы сокращались от прилива неведомой и грозной силы, а мой спутник толкал меня в бок, ляскал зубами, и смрадное дыхание шипящей, широкой волной выходило из гниющего рта.
И вот вышел из толпы ещё человек и сказал:
– Отдай мне моего брата!
И ещё вышел человек и сказал:
– Отдай мне мою дочь!
И вот стали выходить мужчины и женщины, старые и молодые, и простирали руки, и неумолимо звучало их горькое требование:
– Отдай мне моё дитя!
Тогда и я, прокажённый, ощутил в себе силу и смелость, и вышел вперёд, и крикнул громко и грозно:
– Убийца! Отдай мне самого меня!
А она, – она молчала. Такая лживая и подлая, она притворялась, что не слышит, и злобный смех сотряс мои изъязвлённые щеки, и безумная ярость наполнила наши изболевшиеся сердца. А она все молчала, равнодушно и тупо, и тогда женщина гневно потрясла тощими, жёлтыми руками и бросила неумолимо:
– Так будь же проклята ты, убившая моё дитя!
Красивый, суровый старик повторил:
– Будь проклята!
И звенящим тысячеголосым стоном повторила вся земля:
– Будь проклята! Проклята! Проклята!
VI
И глубоко вздохнула чёрная ночь, и, словно море, подхваченное ураганом и всей своей тяжкой ревущей громадой брошенное на скалы, всколыхнулся весь видимый мир и тысячью напряжённых и яростных грудей ударил о стену. Высоко, до самых тяжело ворочавшихся туч брызнула кровавая пена и окрасила их, и стали они огненные и страшные и красный свет бросили вниз, туда, где гремело, рокотало и выло что-то мелкое, но чудовищно-многочисленное, чёрное и свирепое. С замирающим стоном, полным несказанной боли, отхлынуло оно – и непоколебимо стояла стена и молчала. Но не робко и не стыдливо молчала она,
– сумрачен и грозно-покоен был взгляд её бесформенных очей, и гордо, как царица, спускала она с плеч своих пурпуровую мантию быстро обегающей крови, и концы её терялись среди изуродованных трупов.
Но, умирая каждую секунду, мы были бессмертны, как боги. И снова взревел мощный поток человеческих тел и всей своей силой ударил о стену. И снова отхлынул, и так много, много раз, пока не наступила усталость, и мёртвый сон, и тишина. А я, прокажённый, был у самой стены н видел, что начинает шататься она, гордая царица, и ужас падения судорогой пробегает по её камням.
– Она падает! – закричал я. – Братья, она падает!
– Ты ошибаешься, прокажённый, – ответили мне братья.
И тогда я стал просить их:
– Пусть стоит она, но разве каждый труп не есть ступень к вершине? Нас много, и жизнь наша тягостна. Устелем трупами землю; на трупы набросим новые трупы и так дойдём до вершины. И если останется только один, – он увидит новый мир.
И с весёлой надеждой оглянулся я – и одни спины увидел, равнодушные, жирные, усталые. В бесконечном танце кружились те четверо, сходились и расходились, н чёрная ночь выплёвывала мокрый песок, как больная, и несокрушимой громадой стояла стена.
– Братья! – просил я. – Братья!
Но голос мой был гнусав и дыхание смрадно, и никто не хотел слушать меня, прокажённого.
Горе!.. Горе!.. Горе!..
Предстояла кража
Предстояла крупная кража, а быть может, убийство. Нынче ночью предстояла она – и скоро нужно было идти к товарищу, а не ждать в бездействии дома и не оставаться одному. Когда человек один и бездействует, то все пугает его и злорадно смеётся над ним тёмным и глухим смехом.
Его пугает мышь. Она таинственно скребётся под полом и не хочет молчать, хотя над головой её стучат палкой так сильно, что страшно становится самому. И на секунду она замирает, но когда успокоенный человек ложится, она внезапно появляется под кроватью и пилит доски так громко-громко, что могут услышать на улице и прийти и спросить. Его пугает собака, которая резко звякает на дворе своей цепью и встречает каких-то людей; и потом они, собака и какие-то люди, долго молчат и что-то делают; их шагов не слышно, но они приближаются к двери, и чья-то рука берётся за скобку. Берётся и держит, не отворяя.
Его страшит весь старый и прогнивший дом, как будто вместе с долголетней жизнью среди стонущих, плачущих, от гнева скрежещущих зубами людей к нему пришла способность говорить и делать неопределённые и страшные угрозы. Из мрака его кривых углов что-то упорно смотрит, а когда поднести лампу, он бесшумно прыгает назад и становится высокой чёрной тенью, которая качается и смеётся, такая страшная на круглых брёвнах стены. По низким потолкам его кто-то ходит тяжёлыми стопами; шагов его почти не слышно, но доски гнутся, а в пазы сыплется мелкая пыль. Она не может сыпаться, если нет никого на тёмном чердаке и никто не ходит и не ищет чего-то. А она сыплется, и паутина, чёрная от копоти, дрожит и извивается. К маленьким окнам его жадно присасывается молчаливая и обманчивая тьма, и кто знает? – быть может, оттуда с зловещим спокойствием невидимок глядят тусклые лица и друг другу показывают на него:
– Смотрите! Смотрите! Смотрите на него!
Когда человек один, его пугают даже люди, которых он давно знает. Вот они пришли, и человек был рад им; он весело смеялся и спокойно глядел на углы, в которых кто-то прятался, на потолок, по которому кто-то ходил теперь никого уже нет, и доски не гнутся, и не сыплется больше тонкая пыль. Но люди говорят слишком много и слишком, громко. Они кричат, как будто он глухой, и в крике теряются слова и их смысл; они кричат так обильно и громко, что крик их становится тишиной, и слова их делаются молчанием. И слишком много смотрят они. У них знакомые лица, но глаза их чужие и странные и живут отдельно от лица и его улыбки. Как будто в глазные щели старых, приглядевшихся лиц смотрит кто-то новый, чужой, все понимающий и страшно хитрый.
И человек, которому предстояла крупная кража, а быть может, убийство, вышел из старого покосившегося дома. Вышел и облегчённо вздохнул.
Но и улица – безмолвная и молчаливая улица окраин, где строгий и чистый снег полей борется с шумным городом и властно вторгается в него немыми и белыми потоками – пугает человека, когда он один. Уже ночь, но тьмы нет, чтобы скрыть человека. Она собирается где-то далеко, впереди и сзади и в тёмных домах с закрытыми ставнями, и прячет всех других людей, – а перед ним она отступает, и все время он идёт в светлом кругу, такой обособленный и всем видимый, как будто поднят он высоко на широкой и белой ладони. И в каждом доме, мимо которого движется его сгорбленная фигура, есть двери, и все они смотрят так сторожко и напряжённо, как будто за каждой из них стоит готовый выскочить человек. А за заборами, за длинными заборами, расстилается невидимое пространство: там сады и огороды, и там никто не может быть в эту холодную зимнюю ночь, – но если бы кто-нибудь притаился с той стороны и в тёмную щель глядел бы на него чужими и хитрыми глазами, он не мог бы догадаться о его присутствии. И от этого он перебрался на средину улицы и шёл по ней, обособленный и всем видимый, а отовсюду провожали его глазами сады, заборы и дома.
Так вышел человек на замёрзшую реку. Дома, полные людей, остались за пределами светлого круга, и только поле и только небо холодными светлыми очами глядели друг на друга. Но было неподвижно поле, а все небо быстро бежало куда-то, и мутный, побелевший месяц стремительно падал в пустоту бездонного пространства. И ни дыхания, ни шороха, ни тревожной тени на снегу
– хорошо и просторно стало кругом. Человек расправил плечи, широко и злобно взглянул на оставленную улицу и остановился.
– Покурим! – сказал он громко, и хрипло, и спичка слегка осветила широкую чёрную бороду.
И тут же выпала из вздрогнувшей руки, так как на слова его пришёл ответ
– странный и неожиданный ответ среди этого мёртвого простора и ночи. Нельзя было понять: голос это или стон, далеко он или близко, угрожает он или зовёт на помощь. Что-то прозвучало и замерло.
Долго ждал напуганный человек, но звук не повторялся. И, ещё подождав, он ещё спросил:
– Кто тут?
И так неожидан и изумительно прост был ответ, что человек рассмеялся и бессмысленно выругался: то щенок визжал – самый обыкновенный и, должно быть, очень ещё маленький щенок. Это видно было по его голосу – слабенькому, жалобному и полному той странной уверенности, что его должны услышать и пожалеть, какая звучит всегда в плаче очень маленьких и ничего не понимающих детей. Маленький щенок среди снежного простора ночи. Маленький, простой щенок, когда все было так необыкновенно и жутко, и весь мир тысячью открытых очей следил за человеком. И человек вернулся на тихий зов.
На утоптанном снегу дальней тропинки, беспомощно откинув задние лапки и опираясь на передние, сидел черненький щенок и весь дрожал. Дрожали лапки, на которые он опирался, дрожал маленький чёрный носик, и закруглённый кончик хвоста отбивал по снегу ласково-жалобную дробь. Он давно замерзал, заблудившись в беспредельной пустыне, многих уверенно звал на помощь, но они оглядывались и проходили мимо. А теперь над ним остановился человек.
«А ведь это, кажется, наш щенок!» – подумал человек, приглядываясь.
Он смутно помнил что-то крошечное, чёрное, вертлявое; оно громко стучало лапками, путалось под ногами и тоже визжало. И люди занимались им, делали с ним что-то смешное и ласковое, и кто-то однажды сказал ему:
– Погляди, какой Тютька потешный.
Он не помнит, поглядел он или нет; быть может, никто и не говорил ему этих слов; быть может, и щенка никакого у них в доме не было, а это воспоминание пришло откуда-то издалека, из той неопределённой глубины прошлого, где много солнца, красивых и странных звуков и где все путается.
– Эй! Тютька! – позвал он. – Ты зачем попал сюда, собачий сын?
Щенок не повернул головки и не завизжал: он глядел куда-то в сторону и весь безнадёжно и терпеливо дрожал. Самый обыкновенный и дрянной был этот щенок, а человек так постыдно испугался его и сам чуть-чуть не задрожал. А ему ещё предстоит крупная кража и, может быть, убийство.
– Пошёл! – крикнул человек грозно. – Пошёл домой, дрянь!
Щенок как будто не слыхал; он глядел в сторону и дрожал все той же настойчивой и мучительной дрожью, на которую холодно было смотреть. И человек серьёзно рассердился.
– Пошёл! Тебе говорят! – закричал он. – Пошёл домой, дрянь, поганыш, собачий сын, а то я тебе голову размозжу. По-о-шёл!
Щенок глядел в сторону и как будто не слыхал этих страшных слов, которых испугался бы всякий, или не придавал им никакого значения. И то, что он так равнодушно и невнимательно принимал сердитые и страшные слова, наполнило человека чувством злобы и злобу его сделало бессильной.
– Ну, и подыхай тут, собака! – сказал он и решительно пошёл вперёд.
И тогда щенок завизжал – жалобно, как погибающий, и уверенно, что его должны услышать, как ребёнок.
– Ага, завизжал! – с злобной радостью сказал человек и так же быстро пошёл назад, и когда подошёл – щенок сидел молча и дрожал.
– Ты пойдёшь или нет? – спросил человек и не получил ответа.
И вторично спросил то же и вторично не получил ответа.
И тогда началась странная и нелепая борьба большого и сильного человека с замирающим животным. Человек прогонял его домой, сердился, кричал, топал огромными ногами, а щенок глядел в сторону, покорно дрожал от холода и страха и не двигался с места. Человек притворно пошёл назад к дому и ласково чмокал губами, чтобы щенок побежал за ним, но тот сидел и дрожал, а когда человек отошёл далеко, стал настойчиво и жалобно визжать. Вернувшись, человек ударил его ногой: щенок перевернулся, испуганно взвизгнул и опять сел, опираясь на лапки, и задрожал. Что-то непонятное, раздражающее и безвыходное вставало перед человеком. Он забыл о товарище, который ждал его, и обо всем том далёком, что будет сегодня ночью, – и всей раздражённой мыслью отдавался глупому щенку. Не мог он помириться с тем, как щенок не понимает слов, не понимает необходимости скорей бежать к дому.
С яростью человек поднял его за кожу на затылке и так отнёс на десять шагов ближе к дому. Там он осторожно положил его на снег и приказал:
– Пошёл! Пошёл домой!
И, не оглядываясь, зашагал к городу. Через сотню шагов он в раздумье остановился и поглядел назад. Ничего не было ни видно, ни слышно – широко и просторно было на замёрзшей речной глади. И осторожно, подкрадываясь, человек вернулся к тому месту, где оставил щенка, – и с отчаянием выругался длинным и печальным ругательством: на том же месте, где его поставили, ни на пядь ближе или дальше, сидел щенок и покорно дрожал. Человек наклонился к нему ближе и увидел маленькие круглые глазки, подёрнутые слезами, и мокрый жалкий носик. И все это покорно и безнадёжно дрожало..,
– Да пойдёшь ты? Убью на месте! – закричал он и замахнулся кулаком.
Собрав в глаза всю силу своей злобы и раздражения, свирепо округлив их, он секунду пристально глядел на щенка и рычал, чтобы напугать. И щенок глядел в сторону своими заплаканными глазками и дрожал.
– Ну, что мне с тобой делать? Что? – с горечью спросил человек.
И, сидя на корточках, он бранил его и жаловался, что не знает, как быть; говорил о товарище, о деле, которое предстоит им ночью, и грозил щенку скорой и страшной смертью.
И щенок глядел в сторону и молча дрожал.
– А, дурак, пробковая голова! – с отчаянием крикнул человек; как что-то противное, убийственно ненавидимое, подхватил маленькое тельце, дал ему два сильных шлёпка и понёс к дому.
И диким хохотом разразились, встречая его, дома, заборы и сады. Глухо и темно гоготали застывшие сады, и огороды, сметливо и коварно хихикали освещённые окна и всем холодом своих промёрзших брёвен, всем таинственным и грозным нутром своим сурово смеялись молчаливые и тёмные дома:
– Смотрите! Смотрите! Вот идёт человек, которому предстоит убийство, и несёт щенка. Смотрите! Смотрите на него!
И совестно и страшно стало человеку. Дымным облаком окутывали его злоба и страх, и что-то новое, странное, чего никогда ещё не испытывал он в своей отверженной и мучительной жизни вора: какое-то удивительное бессилие, какая-то внутренняя слабость, когда крепки мышцы и злобой сводится сильная рука, а сердце мягко и бессильно. Он ненавидел щенка – и осторожно нёс его злобными руками, так бережно и осторожно, как будто была это великая драгоценность, дарованная ему прихотливой судьбой. И сурово оправдывался он:
– Что же я с ним поделаю, если он не идёт. Ведь нельзя же, на самом деле!
А безмолвный хохот все рос и сонмом озлобленных лиц окружал человека, которому нынче предстояло убийство и который нёс паршивого черненького щенка. Теперь не одни дома и сады смеялись над ним, смеялись и все люди, каких он знал в жизни, смеялись все кражи и насилия, какие он совершал, все тюрьмы, побои и издевательства, какие претерпело его старое, жилистое тело.
– Смотрите! Смотрите! Ему красть, а он несёт щенка! Ему нынче красть, а он опоздает с паршивым маленьким щенком. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Старый дурак! Смотрите! Смотрите на него!
И все быстрее он шёл. Подавшись вперёд всем туловищем, наклонив голову, как бык, готовый бодаться, он точно пробивался сквозь невидимые ряды невидимых врагов и, как знамя, нёс перед собой таинственные и могущественные слова:
– Да ведь нельзя же, на самом деле! Нельзя!
И все тише, все глуше становился потаённый смех невидимых врагов, и реже стали их тесные ряды. Быть может, оттого случилось это, что пушистым снегом рассыпались тучи и белым колеблющимся мостом соединили небо с землёй. И медленнее пошёл успокоенный человек, а в злобных руках его оживал полузамёрзший черненький щенок. Куда-то далеко, в самую глубину маленького тела загнал мороз нежную теплоту жизни – и теперь она выходила оттуда пробуждающаяся, яркая, странно-прекрасная в своей непостижимой тайне – такая же прекрасная, как зарождение света и огня среди глубокой тьмы и ненастья.