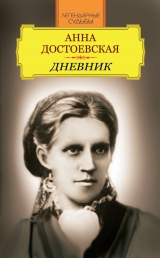
Текст книги "Дневник Сатаны (сборник)"
Автор книги: Леонид Андреев
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 47 страниц)
– Трус-мальчишка! Дрянь! Стыдно! Трус-мальчишка!
А тяжелая, как отец, страшная лошадь топталась обросшими волосатыми ногами, косила глазом и тоже фыркала: трус-мальчишка, трус!
«Это ему было стыдно за меня перед солдатами! – думал Саша, стискивая зубы. – Нет, ваше превосходительство, я не трус, я нечто другое, ваше превосходительство, и вы это узнаете! Ваша кровь в моих жилах, и рука моя, пожалуй, не менее тяжела, чем ваша, и вы узнаете… Впрочем, спокойной ночи, ваше превосходительство!»
Потом Саша думал, уже засыпая:
«Можно отречься от отца? Глупо: кто же я тогда буду, если отрекусь! – ведь я же русский. А в гимназию-то я не пошел, хоть и русский. Вообще русским свойственно… что свойственно русским? Ах, Боже мой – да что же русским свойственно? Встаньте, Погодин!»
И, уже совсем засыпая, Саша увидел призрачно и смутно: как он, Саша, отрекается от отца. Много народу в церкви, нарочно собрались, и священник в черных великопостных одеждах, и Саша стоит на коленях и говорит: «…Не лобзания Ти дам, яко Iуда, но яко разбойник исповедую Тя…» Хор запел: – Аминь!
И так страшен был его рев, что Саша очнулся и увидел, что за окнами уже светло, а во рту у него потухшая папироса. Вынул папиросу и крепко, без сновидений, уснул.
8. БесталанныеЭто было в марте, в воскресенье.
Был уже двенадцатый час, когда некто Колесников подходил к дому, где жили Погодины. «Ну и улица!» – думал он, прыгая из одного сухого протоптанного гнезда в другое и подолгу отыскивая камни, брошенные добрыми людьми для перехода и неуловимо темневшие среди нестерпимого блеска воды, жидкой грязи и островков искристого снега. Шел он против солнца, и каждая лужица, каждая налитая колея горела, как окаянная. «Ну и дом!» – подумал он огорченно, когда в отворенную калитку вместо двора увидел целое озеро весенней воды; и в этом озере, как в настоящем, отражались деревья, белый низенький домик и крыльцо. На крыльце стояла барышня, глядела на Колесникова и тоже отражалась в воде. «Вот и барышня стоит и смотрит – как неловко! А Погодина-то, может быть, и дома нет, ну да уж все равно пропадать».
– Что же вы стоите? – крикнула барышня. – Вы к Саше? Идите налево около забора, там дорожка. Да левее же, еще, да еще же!
Покорно забирая влево, Колесников увидел, что на крыльцо вышла худая, красивая, немолодая барыня и тоже смотрит на него, и так было неловко от одной барышни, а тут еще и эта. Но все-таки дошел и даже поклонился, а то все боялся, что забудет.
– Погодин, гимназист, здесь живет?
– Здесь, я его мать. Вы к Саше по делу? Он сейчас только встал, пьет чай.
– Нет, почему же по делу? Я его знакомый, Колесников.
– Знакомый? Очень рада. Пожалуйте!
Слова были любезные, а в голосе открыто звучало недоверие и тревога, и глаза слишком разглядывали. «Ну что ж я поделаю, – покорно подумал Колесников, уже привыкший слышать эту тревогу в голосе всех матерей, – я ничего поделать не могу: тревожишься, ну и тревожься». А Елена Петровна рассматривала его и думала: «Вот и еще знакомый!.. Разве такие знакомые бывают. И калоши текут, и борода, как у разбойника, только детей пугать; а если его обрить, то, пожалуй, и добряк, – только он сам никогда об этом не догадается. Ох, Господи, все они добряки, а мне от этого не легче!»
– Мама! – сказала Линочка, знавшая мысли матери и не одобрявшая их. – Надо же показать, куда идти. Сюда идите… Саша, к тебе знакомый.
Но и Саша как будто удивился при виде черной бороды, желтых скул и шершавой вихрастой головы, и даже слегка нахмурился: заметно было, что видит он Колесникова чуть ли не в первый раз. Однако было в круглых, черных, также как будто удивленных глазах посетителя что-то примиряющее с ним, давно и хорошо знакомое: только взглянул, а словно всю жизнь свою рассказал и ждет вечной дружбы.
– У вас тут, того-этого, совсем Венеция, – сказал Колесников глухим басом и, поискав лица, с улыбкой остановил круглые глаза на Линочке, – только гондолы-то у меня текут, вон как, того-этого, наследил!
Линочка с упреком взглянула на мать: видишь, какой он! – и ответила:
– Мы с Сашей, когда были маленькие, каждую весну плавали ко двору на плотах.
– Пойдемте ко мне, – сказал Саша, вставая.
Елена Петровна с жалостью к Саше взглянула на недоеденный хлеб и сурово промолвила:
– Ты лучше, Саша, чай бы допил. Я и гостю налью.
– Нет, не хочу. Или дай к нам в комнату два стакана.
После столовой в комнате у Саши можно было ослепнуть от солнца. На столе прозрачно светлела хрустальная чернильница и бросала на стену два радужных зайчика; и удивительно было, что свет так силен, а в комнате тихо, и за окном тихо, и голые ветви висят неподвижно. Колесников заморгал и сказал с какой-то особой, ему понятной значительностью:
– Весна!
Саша спокойно молчал; и молча передвинул в тень чернильницу, и зайчики погасли.
– Ваша мама меня боится, а сестра нет, – сказал Колесников и снова со вздохом повторил, – весна!
– Мы с вами где-нибудь встречались? Я что-то плохо помню.
– Как же, разок встретились. Только там, того-этого, были другие не знакомые вам люди, и вы меня не заприметили. А я заприметил хорошо. Жалко вот, что мамаша ваша меня боится, да чего ж поделаешь! Теперь не такое время, чтобы разбирать.
Саша слегка покраснел:
– Где же это было? Я не помню.
– Там! – ответил Колесников, придвигая стакан чаю. – Вы, того-этого, предложили убить нашего Телепнева, а наши-то взяли и отказались. Я тогда же из комитета и вышел: «Ну вас, говорю, к черту, дураки! Как же так не разобрать, какой человек может, говорю, а какой не может?» Только они это врали, они просто струсили.
Лицо Саши потемнело:
– Мне неприятно об этом вспоминать. Но я очень рад, что вы ко мне пришли, теперь я вас помню. Пейте, пожалуйста, чай.
– Меня зовут Василий Васильевич, – сказал Колесников, – я уж два раза, если вам интересно, из ссылки бегал. Только вот беда, того-этого, не оратор я, и талантов у меня нет никаких.
– У меня тоже нет талантов, – сказал Саша и впервые с улыбкой поднял на Колесникова свои жуткие, но теперь улыбающиеся глаза.
И как с первого раза знакомился своими глазами Колесников, так своими с первого раза и навсегда убеждал Погодин; так и теперь сразу и навсегда убедил он только что пришедшего в чем-то радостном и необыкновенно важном. Заерзав на стуле, Колесников в широкой улыбке открыл черные, но крепкие зубы и пробасил:
– Вот удивили вы меня! А чьи ж это картинки на стене? Неужто не ваши?
– Нет, сестры.
– Сестры? Молодец сестра!
Но сразу же нахмурился и с искренним огорчением произнес:
– Экое горе, того-этого, какие мы с вами бесталанные! Только вы, я думаю, ошибаетесь, нельзя этого допустить, чтобы у вас не было таланта. Может, не обнаружился еще? Это часто бывает с молодыми людьми. Таланты-то ведь бывают разные, того-этого, не только что карандашиком или пером водить.
– Никакого. Я и говорить не умею.
– Вот удивляете вы меня! Но погодите, еще откроется! Да, того-этого, еще откроется!
Колесников вдруг заволновался и заходил по комнате; и так как ноги у него были длинные, а комната маленькая, то мог он делать всего четыре шага. Но это не смущало его, видимо, привык человек вертеться в маленьком помещении.
– Боже ты мой! – гудел он взволнованно и мрачно, подавляя Сашу и несуразной фигурой своей, истово шагающей на четырех шагах, и выражением какого-то доподлинного давнишнего горя. – Боже ты мой, да как же могу я этому поверить! Что не рисует да языком не треплет, так у него и талантов нет. Того-этого, – вздор, милостивый государь, преподлейший вздор! Талант у него в каждой черте выражен, даже смотреть больно, а он: «Нет, это сестра! Нет, мамаша!» Ну и мамаша, ну и сестра, ну и вздор, преподлейший вздор!
Саше уже тяжело становилось, когда Колесников внезапно стих, сделал еще два оборота по комнате и сел, сказав совершенно спокойно:
– Чай-то уж остыл. И ни разу это у меня не бывало, чтобы я попал на настоящий чай: то горяч, а то уж и остыл.
– Давайте стакан, я принесу горячего.
– Чего там, и этот хорош, это я так, к слову. Вот что, товарищ, денек-то сегодня славный! Пойдемте за кирпичные сараи пострелять из браунинга. Я и браунинг принес.
– У меня свой есть, – сказал Саша и вынул из стола никелированный, чистенький, уже заряженный револьвер.
У Колесникова браунинг оказался черный, и оба долго и с интересом разглядывали оружие, и Колесников вздохнул.
– Да! – сказал он со вздохом, – времена крутые. У меня знакомая одна была, хорошо из браунинга стреляла, да не в прок ей пошло. Лучше б никогда и в руки не брала.
– Повешена?
– Нет, так. Зарубили. Ну, того-этого, идем, Погодин. Вы небось по голосу думаете, что я петь умею? И петь я не умею, хотя в молодости дурак один меня учил, думал, дурак, что сокровище открыл! В хоре-то, пожалуй, подтягивать могу, да в хоре и лягушка поет.
Овраги и овражки были полны водою, и до кирпичных сараев едва добрались; и особенно трудно было Колесникову: он раза два терял калоши, промочил ноги, и его серые, не новые брюки до самых колен темнели от воды и грязи.
– Славные у вас сапоги! – сказал он Саше и сам себя спросил: – Отчего я и себе, того-этого, таких не куплю? Не знаю.
Простором и тишиною встретило их поле; весенним теплом дымилась голубая даль, воздушно млели в млечной синеве далекие леса. В безветрии начавшийся, крепко стоял погожий день, обещая ясный вечер и звездную, с морозцем, ночь. Было так празднично все, что и стрельба из револьверов казалась праздничной, веселой забавой, невинным удовольствием. Для цели Саша выломал в гнилой крыше заброшенного сарая неширокую, уже высохшую доску и налепил кусочек белой бумаги; и сперва стреляли на двадцать пять шагов. Из трех пуль Колесников всадил две, одну возле самой бумажки, и был очень доволен.
– Не всякий может, – сказал он внушительно; и, расставив длинные ноги и раскрыв от удовольствия рот, критически уставился на Сашу. И с легким опасением заметил, что тот немного побледнел и как-то медленно переложил револьвер из левой руки в правую: точно лип к руке холодный и тяжелый, сверкнувший под солнцем браунинг: «Волнуется юноша, – думает, что в Телепнева стреляет. Но руку держит хорошо».
Однако все три пули всадил побледневший Саша, и две из них в самый центр. Колесников загудел от удовольствия, а он, все еще бледный, но, видимо, чрезвычайно довольный, переложил липнувший револьвер в левую руку и сказал:
– Да, я хорошо стреляю. Попробуем на сорок шагов?
– Попробуйте вы. Я, того-этого, и патронов тратить не хочу.
Все же, когда цель перенесли, сделал один выстрел и промазал, а Саша и в этот раз попал – две пули, одна возле другой.
– И это не талант? – воодушевился Колесников, – подите вы, Погодин, к черту! Да с этим талантом, того-этого, целый роман написать можно.
– А они вот отказались, – сухо промолвил Саша, намекая на комитет. – Посидим, Василий Васильевич, здесь очень хорошо!
Выбрали сухое местечко, желтую прошлогоднюю траву, разостлали пальто и сели; и долго сидели молча, парясь на солнце, лаская глазами тихую даль, слушая звон невидимых ручьев. Саша курил.
– Ручьи текут, а мне, того-этого, кажется, будто это слезы народные, – сказал Колесников наставительно и вздохнул.
И Саше, ждавшему ответа относительно Телепнева, не понравились и наставительность эта, и напыщенность фразы, и самый вздох. Молчал и, уже скучая, ждал, что скажет дальше. Вдруг Колесников засмеялся:
– Смотрю на вас, Александр Николаевич, и все удивляюсь, какой вы, того-этого, корректный! Не знай я вас так хорошо, так хоть домой иди, ей-Богу!
– А откуда ж вы меня так хорошо знаете?
– Не знал бы, так и не пришел бы, – уже серьезно сказал Колесников. – Но вот что вы мне скажите: почему вы избрали Телепнева? Не такая уж он птица, чтобы из-за него вешаться. Так и у нас говорили… в вас-то они не очень уж сомневались.
Саша вдруг смутился.
– Телепнева? – нерешительно переспросил он. – Я думаю, основания ясны. Впрочем… у меня были и свои соображения. Да, свои соображения, личные…
И, уже забыв о Колесникове, он сразу всей мыслью отдался тому странному, тяжелому и, казалось, совсем ненужному, что давило его последние месяцы: размышлению об отце-генерале. Тогда, после разговора с матерью, он порешил, что именно теперь, узнав все, он по-настоящему похоронил отца; и так оно и было в первые дни. Но прошло еще время, и вдруг оказалось, что уже давно и крепко и до нестерпимости властно его душою владеет покойный отец, и чем дальше, тем крепче; и то, что казалось смертью, явилось душе и памяти, как чудесное воскресение, начало новой таинственной жизни. Все забытое – вспомнилось; все разбросанное по закоулкам памяти, рассеянное в годах – собралось в единый образ, подавляющий громадностью и важностью своею. И теперь, в смутном сквозь грезу видении обнаженного поля, в волнистости озаренных холмов, вблизи таких простых и ясных, а дальше к горизонту смыкавшихся в вечную неразгаданность дали, в млечной синеве поджидающего леса, – ему почудились знакомые теперь и властные черты. И как было все это время: острая, как нож, ненависть столкнулась с чем-то невыносимо похожим на любовь, вспыхнул свет сокровеннейшего понимания, загорелись и побежали вдаль кроваво-праздничные огни. Вдруг, не поднимая глаз, Саша спросил Колесникова:
– Вы русский?
Колесников, разглядывавший Сашу с таким вниманием, что оно было бы оскорбительно, замечай его Саша, не сразу ответил:
– Русский. Не в этом важность, того-этого.
– У меня мать гречанка.
– Что ж!.. И это хорошо.
– Почему хорошо?
– Хорошая кровь. Кровь, того-этого, многих мучеников.
Саша ласково взглянул в его черные глаза и подумал:
«Вот же чудак, при таком лице носит велосипедную фуражку. Но милый». Вслух же сказал:
– Байрон умер за свободу греков.
– Ну и вздор! Кто, того-этого, нуждается в свободе, тому незачем ходить в чужие края. И где это, скажите, так много своей свободы, что уж больше не надо? И вообще, того-этого, мне совсем не нравится, что вы сказали про Телепнева, про какие-то личные ваши соображения. Личные! – преподлейший вздор.
Колесников взволнованно заходил и, хотя места было много, по-прежнему кружился на своих четырех шагах; и при каждом шаге громко, видимо, раздражая его, хлюпали калоши.
– Вот я, видите? – гудел он в высоте, как телеграфный столб. – Весь тут. Никто меня, того-этого, не обидел, и жены моей не обидел – нет же у меня жены! И невесты не обидел, и нет у меня ничего личного. У меня на руке, вот на этой, того-этого, кровь есть, так мог бы я ее пролить, имей я личное? Вздор! От одной совести сдох бы, того-этого, от одних угрызений.
Быстро подошел к Саше и, наклонившись, с высоты, сердито замахал на него пальцем:
– Эй, юноша, того-этого, не баламуть! Раз имеешь личное, то живи по закону, а недоволен, так жди нового! Убийство, скажу тебе по опыту, дело страшное, и только тот имеет на него право, у кого нет личного. Только тот, того-этого, и выдержать его может. Ежели ты не чист, как агнец, так отступись, юноша! По человечеству, того-этого, прошу!
Уже исступленное что-то загоралось в его остановившихся глазах; и вдруг Колесников закричал полным голосом, как в бреду:
– Хочешь, на колени стану? Хочешь, мальчишка, на колени стану? Отступись!
– Нет! – сказал Саша, быстро вставая и рукой отстранив Колесникова, бледный и строгий. – Вы напрасно кричите, вы меня не поняли. У меня не было и нет личного ничего. Слышите вы, ничего!
Колесников угрюмо извинился:
– Извините, Погодин. Такие времена, что, того и гляди, в сумасшедший дом попадешь, того-этого.
Но уже через десять минут, когда они возвращались домой, Колесников весело шутил по поводу своих гондол; и слово за словом, среди шуток и скачков через лужи, рассказал свою мытарственную жизнь в ее «паспортной части», как он выражался. По образованию ветеринар, был он и статистиком, служил на железной дороге, полгода редактировал какой-то журнальчик, за который издатель и до сих пор сидит в тюрьме. И теперь он служит в местном железнодорожном управлении.
– А кто был ваш отец? – спросил Саша.
– Отец-то? Вопрос не легкий. Род наш, Колесниковых, знаменитый и древний, по одной дороге с Рюриком идет, и в гербе у нас колесо и лапоть, того-этого. Но, по историческому недоразумению, дедушка с бабушкой наши были крепостными, а отец в городе лавку и трактир открыл, блеск рода, того-этого, восстановляет. И герб у нас теперь такой: на зеленом бильярдном поле наклоненная бутылка с девизом: «Свидания друзей»…
– Он жив?
– Опасаюсь. И ежели не сдох, так в союзе председателем, – человек он честолюбивый и глубокомысленный. Он меня, того-этого, потому и в ветеринары отдал, что скота всегда лучше чувствовал, нежели человека. Ну, и братья у меня – тоже, того-этого, сволочь удивительная!
– Зачем вы так говорите! – поежился Саша.
– А что – густо? Из песни, того-этого, слова не выкинешь. Да они ж меня давно и похоронили: по некоему приговору, к счастью для моей шеи – не совершившемуся, меня давно уж повесили, – добродушно заключил Колесников.
Сбивал он Сашу своими переходами от волнения к покою, от грубости, даже как будто цинизма, к мягкому добродушию, чуть ли не ребячьей наивности; и – что редко бывало с внимательным Сашей – не мог он твердо определить свое отношение к новому знакомцу: то чуть ли не противен, а то нравится, вызывает в сердце что-то теплое, пожалуй, немного грустное, напоминает кого-то милого. Трогало и то, что после своей странной, почти болезненной вспышки Колесников смирился и не только как равный с равным говорил с Сашей, хотя на целых двадцать лет был старше, но даже как будто преклонялся, каждое слово слушал с необыкновенным вниманием и чуть ли не с почтительностью.
Проводил он Сашу до самого дома и уже у калитки – точно именно у порога дома, когда люди расстаются и уходят к своим мыслям, и нужно было бросить этот мостик – посмотрел Саше в глаза и спросил:
– Газету читали?
– Нет, не успел.
– Шестнадцать повешено. Ну, до свиданья, Погодин. А стреляете-то вы чудесно, мне от вашего таланта, того-этого, даже жутко стало; не наследственное это у вас?
Саша опять было нахмурился, но увидел открытые, наивные глаза, с любопытством глядевшие на него, и засмеялся:
– Нет, не думаю. Я мало что наследовал от отца. Впрочем… я его не помню, он умер восемь лет назад. Прощайте.
Так состоялось их знакомство. И, глядя вслед удалявшемуся Колесникову, менее всего думал и ожидал Саша, что вот этот чужой человек, озабоченно попрыгивающий через лужи, вытеснит из его жизни и сестру и мать, и самого его поставит на грань нечеловеческого ужаса. И, глядя на тихое весеннее небо, голубевшее в лужах и стеклах домов, менее всего думал он о судьбе, приходившей к нему, и о том, что будущей весны ему уж не видать.
9. ВеснаВо весь этот день Саша был чрезвычайно весел; после обеда взял газету, уже прочитанную домашними, но взглянул на заголовок, поймал глазами слово «шестнадцать»… и отложил в сторону: не надо почему-то читать, не следует. А вечером, когда высыпали звезды и зазвенел под ногами ледок, взял Линочку под руку и пошел на Банную гору, откуда днем открывался широкий вид на разлившуюся реку. И дорогой ломал такого дурака, что Линочка хохотала, как от щекотки: представлял, как ходит разбитый параличом генерал, делал вид, что Линочка – барышня, любящая танцы, а он – ее безумный поклонник, прижимал руки к сердцу и говорил высокопарные глупости. Брат и сестра, они невинно и смешно играли в любовь, не подозревая в себе актеров, которые шутя готовятся к завтрашнему трагическому спектаклю, не зная, сколько правды в их веселой игре.
Совсем развеселился Саша: изображая крайности безумного, не помнящего себя влюбленного, он раскачивал ее по всей панели, и уже раза два на них оглянулись прохожие, не то с улыбкой, не то сердито; и Линочка захлебывалась бессильным смехом:
– Да родной же мой Сашечка! Ой, не могу!.. Ой, колики!
– А-а-а, толстая! – рычал он от зверской любви. – Полюбишь ты меня или нет? Сознавайся, пресловутая!
– Сашка, оставь… ой, упаду!
И кончилось тем, что столкнул ее в незамерзшую лужу, и Линочка промочила правую ногу и минуты на две серьезно рассердилась. Но тотчас же и отошла, вскинула глаза к звездам и сказала:
– Держи меня крепче, Саша: я так буду идти.
Казалось, что бледные звезды плывут ей навстречу, и воздух, которым она дышит глубоко, идет к ней из тех синих, прозрачно-тающих глубин, где бесконечность переходит в сияющий праздник бессмертия; и уже начинала кружиться голова. Линочка опустила голову, скользнув глазами по желтому уличному фонарю, ласково покосилась на Сашу и со вздохом промолвила:
– Ах, Сашечка, если б ты всегда был такой!
– А что? Ухаживателей не хватает?
Линочка кротко ответила:
– Ты говоришь глупости. Про тебя вчера Женя Эгмонт опять спрашивала.
Саша в темноте покраснел и сердито сказал:
– Я уже просил тебя про Эгмонт мне не передавать.
– Я знаю. Я и говорю: если бы ты всегда был такой, как сегодня. Тебе скоро девятнадцать лет, Сашенька.
– Это мамины слова?
– А если и мамины? – упрямо сказала сестра. – Мама знает, что говорит.
– Ну и я знаю! Вот что, Лина: бросим-ка это, я не хочу сегодня ссориться.
Как-то так случилось, что за последнее время они несколько раз серьезно поссорились, и каждый раз настоящая причина оставалась неизвестна, хотя начинался разговор с Сашиного характера: с упреков, что в чем-то он изменился, стал не такой, как прежде. А он ясно сознавал, что перемена не в нем, а именно в Линочке, которую потянуло в сторону от прежнего пути. Какие-то разговоры о пустяках; с месяц назад Линочка вдруг яростно схватилась за рисование, которое давно бросила, и все жаловалась, даже плакала, что отвыкшая рука не слушается ее. И не с одной Линочкой он начал ссориться: то же было и в гимназии, и так же неясна оставалась настоящая причина, – по виду все было, как и прежде, а уже веяло чем-то раздражающим, и в разговорах незаметно воцарялся пустяк. Еще только вчера, в субботу, Громан рассказал на перемене скверный анекдот, и все смеялись; правда, что потом Громана жестоко изругали, и он, жидкий немец, чуть ли не в слезах дал клятву, что пошлостей рассказывать не будет, но факт остался: в первую минуту смеялись. «Разорвусь, а аттестат получу! – подумал Саша, вдруг снова очаровываясь ночью и весной, – там в университете будет по-другому».
На Банной горе, как и днем, толпился праздничный народ, хотя в темноте только и видно было, что спокойные огоньки на противоположной слободской стороне; внизу, под горой, горели фонари, и уже растапливалась на понедельник баня: то ли пар, то ли белый дым светился над фонарями и пропадал в темноте. В толпе заволновались: пробежал первый в году маленький, неизвестно чей катер, показал красный огонь, потом зеленый, и бесшумно скатился в темень реки – маленький, неизвестно чей, такой бодрый и веселый в своем бесцельном ночном скитании. На горке закричали:
– Пароход! Пароход!
По женскому смеху и бубнящему голосу Тимохина разыскали свою компанию, гимназистов и гимназисток, заседавших на скамейке и на перилах, за которыми темнел крутой обрыв и точно падали в реку голые еще деревья.
– Свалишься, Тимохин, слезь! – уговаривал кто-то, а Тимохин, видимо, хмельной, самостоятельно бубнил:
– Оставь! Я, брат, в равновесии собаку съел. Хочешь, по гипотенузе пройду?
Вот и это: стал запивать честный, молчаливый, когда-то застенчивый, угреватый Тимохин, приобрел развязность и склонность к шутовству: над ним смеются, а он доволен и усиленно выставляется. «Эх, напрасно я сюда пошел!» – подумал Саша и снова покраснел: ему многозначительно жала руку молчаливая, сдержанная, тревожная в своем молчании и красоте Женя Эгмонт.
К гимназисткам, подругам Линочки, и ко всем женщинам Саша относился с невыносимой почтительностью, замораживавшей самых смелых и болтливых: язык не поворачивался, когда он низко кланялся или торжественно предлагал руку и смотрел так, будто сейчас он начнет служить обедню или заговорит стихами; и хотя почти каждый вечер он провожал домой то одну, то другую, но так и не нашел до сих пор, о чем можно с ними говорить так, чтобы не оскорбить, как-нибудь не нарушить неловким словом того чудесного, зачарованного сна, в котором живут они. Так, бывало, и молчат всю дорогу и торжественно шагают; и разве только почтительно предупредит:
– Осторожнее, пожалуйста: здесь выворочены камни!
Мучением была эта дорога; и особенно трудно доставалась Женя Эгмонт, задумчивая Женя Эгмонт, прекрасная Женя Эгмонт, стройная и певучая, как нильская тростинка. После первого же раза, когда они промолчали всю дорогу, Саша решительно сказал сестре:
– Если хочешь, чтобы я ее провожал, ходи вместе с нами.
Линочка попылила, но согласилась на условие, и так втроем они и ходили: Линочка болтала, а те двое торжественно шествовали под руку и молчали, как убитые; а что Женя Эгмонт временами как будто прижимала руку, то это могло и казаться, – так легко было прикосновение твердой и теплой сквозь кофточку руки. Но каждый раз сердце у Саши выпадало из груди и ноги совсем переставали чувствовать мостовую: попадись по дороге камень, Саша упал бы. И в жутком чувстве забвения он плыл по воздуху, по воздуху же неся твердую и теплую сквозь кофточку руку.
Поздоровавшись, Женя Эгмонт спросила:
– Сейчас прошел пароходик. Вы видели?
– Да, видел, – ответил Саша и вдруг поднялся на воздух.
Робко вскинул он свои жуткие глаза обреченного, и навстречу ему из-под полей шляпы робко метнулось что-то черное, светлое, родное, необыкновенное, прекрасное – глаза, должно быть? И уже сквозь эти необыкновенные глаза увидел он весеннюю ночь – и поразился до тихой молитвы в сердце ее чудесной красотою. Но подошел пьяный Тимохин и отвел его в сторону:
– На два слова, Саша. Саша, товарищ!.. Не осуждай меня за пьянство. Они не понимают, а ты все можешь понять и простить, Саша!
Отвел еще на два шага и таинственно забурчал, дыша водкой в самое лицо:
– Слушай: все силы революции разбиты. Это я только тебе по секрету: все силы революции разбиты.
– Брось пить, противно.
– Саша! ты чистый, ты этого не поймешь. Читал сегодня газету?.. Ну то-то, тсс! Молчи! Ты веришь Добровольскому, я знаю, – не верь, Саша. Клянусь! Все они подлецы, я их тонко постиг и взвесил. Послушай меня, Саша, товарищ: иди в монастырь, как Офелия, а я знаю свою дорогу.
Надо было тут же уйти, но Саша остался; и нарочно сел так, чтобы не могла подойти Женя Эгмонт. Слушал вполслуха разговор, раза три уловил слово «порнография», звучавшее еще молодо и свежо. Остановил внимание громкий голос Добровольского:
– Нет, вы скажите, почему у русской революции только и есть похоронный марш? Поэтов у нас столько, что не перевешать, и все первоклассные, а ни одна скотина не догадалась сочинить свою русскую марсельезу! Почему мы должны довольствоваться объедками со стола Европы или тянуть свою безграмотную панихиду?
Из темноты предостерегающе пробубнил Тимохин:
– Саша! Слышишь? Еще сапог не износила, в которых шла за гробом мужа вся в слезах, как Ниобея…
– Башмаков, Тимоша, а не сапог.
– Сам ты, Тимоша, сапог!
– Ну-ка, Тимоша: быть или не быть!
– Слышишь, Саша?
Но смех смолк. От реки потянуло холодом, и несколько минут все сидели молча. На взъезде около бань кто-то невидимый тушил фонари, из трех оставляя гореть один; зачернели провалы. Женский голос спросил:
– Читали газеты?
– Да. Шестнадцать.
После короткого молчания кто-то сказал молодым басом, как бы заканчивая цепь размышлений:
– Да, ребята, придется нам сесть за учебу!
Некоторые засмеялись, Тимохин снова трагически пробубнил: «Слышишь, Саша?» – и кто-то назвал его за это Кассандрой и начался какой-то спор, – но Саша уже быстро шел по обезлюдевшей горке, накидывая шаг, словно за ним гнались, и с каждой минутой одиночества чувствуя себя все лучше. И опять что-то чудесное померещилось в весенней ночи, и глаза потянуло к звездам, как давеча у Линочки; но вспомнился Колесников, и радость тихо погасла, а шаги стали медленнее и тяжелее. «Надо будет о нем разузнать, – подумал Саша и прибавил: – Нет, ни ему и никому другому в мире про Женю Эгмонт я не расскажу».
Елена Петровна удивилась, что Саша вернулся один, и ее иконописные глаза вечной матери с тревогой устремились на сына:
– А Лина? Уж не поссорились ли вы опять?
– Да нет, мама, – улыбнулся Саша и нежно поцеловал еще черную голову матери. – Ее проводят, не беспокойся. Почему ты не допускаешь, что мне захотелось побыть с тобой вдвоем? Ведь мы же влюбленные!
Темное лицо Елены Петровны осветилось:
– Правда?
– Да. Дай чаю, мамочка.
Уже от порога она, обернувшись, спросила:
– Этот, ну, Колесников – ничего плохого не сказал тебе?
– Только хорошее. Он чудак.
Линочка долго не возвращалась, и после чая Саша попросил мать сыграть ему «тренди-бренди». Краснея и все чему-то не веря, она села за рояль и сперва стеснялась, что у нее тугие и непослушные пальцы, но уже вскоре, к своему удивлению, вся целиком отдалась наивной трогательности звуков. Нет имени у того чувства, с каким поет мать колыбельную песню – легче ее молитву передать словами: сквозь самое сердце протянулись струны, и звучит оно, как драгоценнейший инструмент, благословляет крепко, целует нежно. Раз через плечо бросила взгляд на Сашу и увидела: сидит, опустив голову на ладони рук, и слушает и думает – родной сын Саша.
Когда прощались, Саша поднял на мать глаза и спросил:
– Мама! Неужели у тебя нет ни одного портрета отца? Подумай: я ни разу не видал его.
Елена Петровна молча посмотрела на него. Молча пошла к себе в комнату – и молча подала большой фотографический портрет: туго и немо, как изваянный, смотрел с карточки человек, называемый «генерал Погодин» и отец. Как утюгом, загладил ретушер морщины на лице, и оттого на плоскости еще выпуклее и тупее казались властные глаза, а на квадратной груди, обрезанной погонами, рядами лежали ордена.








