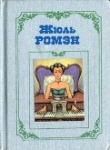Текст книги "Господа офицера"
Автор книги: Леонид Нетребо
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Нетребо Леонид
Господа офицера
Леонид Нетребо
Господа офицера
Закончились военные сборы. Поезд уносил нас, недавних "курсантов" учащихся индустриального института, отслуживших положенный месяц после теоретической "военки", из знойной прибалхашской пустыни, через весь Казахстан, в милую прохладную, свободную в бесшабашном студенчестве Тюмень. Впереди был еще целый год учебы, весь пятый курс, именно после него, вместе с получением диплома, предстояло официальное присвоение нам звания лейтенантов. Но мы уже величали друг друга: "господа офицера" – со смачным ударением на последнем слоге. Конечно, дурачась. Но с тайным взаимоуважением...
В купе нас ехало четыре однокашника-"геолога".
Один держался особняком. Был он из отслуживших до института, в отличие от остальных, ставших студентами сразу после школы. На сборах ему справедливо досталось быть командиром отделения. Там его будто подменили. Истязая подопечных строевой и в нарядах, называл сынками и говорил, что покажет нам, для нашей же пользы, настоящую армию. Еще не знавшие жизни и не привыкшие к подобным перевоплощениям хорошо, казалось бы, знакомых людей, "своих в доску", мы пытались применить ко всему этому справедливую логику. И надо сказать, что, борясь с мальчишеским максимализмом, находили оправдание "товарищу сержанту" – так, а не как иначе, он требовал к нему обращаться. Одного простить не сумели – того, чего не поняли – откровенной злости и презрения по отношению к нам, недавним его товарищам. Мы знали, что после окончания "службы", не опустимся до тривиальной мести, но этого человека уже никогда в нашей среде не будет в прежнем качестве. "Товарищ сержант" днем уходил в другие купе, возвращался поздно и молча ложился на верхнюю полку, отворачивался к стенке. Его уже как бы не было – мы ехали втроем.
Шел год Московской Олимпиады, начало лета, еще был жив Высоцкий.
В Караганде вагон перецепили к другому составу, который следовал уже прямиком до нашей станции. Отправление вечером, и у нас в распоряжении было несколько прогулочных часов. Стали подбивать бабки, планировать. Сухой паек, выданный на дорогу, съеден – отличная оказалась закуска к тому, чем пару дней, пока были деньги, обмывалось окончание "войны". Вывернули карманы, набралось восемь рублей шестьдесят копеек. Толик Снежков, зубрила и маменькин сынок, не "халявщик", но занудный "экономист", отлично понимая, на что мы, двое его компаньонов, настроены, тем не менее предложил в своем духе, правда без всякой надежды:
– Давайте, возьмем бутылку, если уж так хотите, – это два с чем-то. А на остальное пообедаем – первое, второе, третье. А то уже кишка кишке рапорт пишет...
Паша Айзельман, для друзей просто Айзик, шикнул на него, как будто только что прозвучало немыслимое богохульство:
– Ты что, совсем, что ли!... – он покрутил пальцем у виска. – Снежок, за что у тебя пятак по "вышке"? Тут же простая арифметика, как дважды два: шестьдесят копеек на обед, а остальное – на то самое плюс две пачки "Примы". А если не будет хватать, то и от курева до самой Тюмени отказываемся. – Он обернулся ко мне, уверенный в поддержке: – А?...
Конечно, я был полностью согласен с предыдущим оратором. Хотя, и жалел Снежкова, который даже дар речи потерял: к такой калькуляции в общем бюджете, даже зная аппетиты своих друзей, он готов не был. Идти с нами отказался. Когда поезд остановился, мы отправились вдвоем, пообещав Снежкову принести пару пирожков "от зайчика на сдачу".
– Не расстраивайся, – успокоил меня Айзик, когда вышли из вагона, имеется у него заначка, кожей чувствую, иначе это не Снежков. Поэтому и не пошел с нами. Сейчас натрескается в ближайшей столовой. Давай узнавать, где тут у них "винка"...
Будущее наше расписал Айзельман еще пару курсов назад: Снежков, как самый безупречный со всех ракурсов, будет начальником управления, если, конечно, его не засосет наука и он не ударится в погоню за диссертациями и научными степенями. Айзельман, гражданин с изъяном по "пятому пункту", не будет претендовать на первые должности, поэтому красная цена ему – главный инженер при Снежкове. Меня, человека без ярких способностей, но зато носителя определенного количества малоросских генов, они оставят при себе по снабженческой части. Таким образом, ввиду того, что с перспективой у нас было все ясно, студенческие годы мы проживали легко, спокойно, не докучая преподавателям особенным рвением по части учебы.
Мы вышли на залитую солнцем вокзальную площадь и сразу оказались перед чередой цветочниц. Не успели рта открыть, как весь цветочный ряд, русские и казахские женщины, обратился к нам:
– Молодые люди!... Вы кто – олимпийцы? Вы на Олимпиаду едете?...
– Да!... – как всегда нагло, экспромтом, на всякий случай, соврал Айзельман.
Коротко постриженные и загоревшие, в джинсах и шерстяных спортивных кофтах – "олимпийках", Айзик в кроссовках, я в кедах; худощавые, с "поставленной" во время сборов осанкой, мы, видимо, действительно смахивали на физкультурников. Цветочницы светились интересом и уважением, некоторые стали предлагать цветы – небольшие букетики. "Просто так, бесплатно!... Выступайте там хорошо, успехов вам!" Айзик скромно отказывался, затем сжалился над поклонницами, взял розу с поломанным стеблем, перевесившуюся через край ведра. После этого спрашивать про винный магазин было стыдно, даже Айзик на такое не решился. Мы уходили с площади, купаясь в лучах несправедливой славы. Вслед нам неслось: "Олимпийцы!... Олимпийцы!..." Ближние прохожие оборачивались, кто шепотом, кто вполголоса, подхватывали клич. Айзик оглянулся на цветочниц, помахал руками, изобразил плакатное пожатие, украшенное поникшей розой, и в качестве концовки крикнул: "Дружба!". Пора было уходить в отрыв, что мы и сделали.
Зашли в переулок. Навстречу двигалось юное создание, очевидно, местной национальности, в умопомрачительных бикини, с сумочкой на длиннющем ремне. На смуглом красивом лице с крупными раскосыми, какими-то "космическими" глазами, невероятно вздернутыми к вискам, было то же восхищение, от которого мы только что едва убежали. Айзик решил сразу выставить преграду любым сантиментам, которые, оказывается, порой мешают достижению цели. Он нахмурил брови, ссутулился, вытянул вперед рябую нижнюю губу, и без этого непомерно пухлую, преградил девушке дорогу. Заговорил грозно, хриплым голосом с кавказским акцентом, нюхая цветок:
– Гавары, гидэ у вас вынный магазэн? А, слущий?!... Девушка остановилась. Критически осмотрела Айзельмана с ног до головы, наградила меня укоряющим взглядом, будто я должен быть в непременном ответе за глупости своего друга. И сказала, с демонстративной холодностью, преувеличенно четко, с безупречно литературным произношением – в пику прозвучавшей недавно ломанной речи:
– Пожалуйста, пойдите прямо, затем налево. Там на площади, между книжным магазином и диетическим кафе, вы найдете интересующий вас объект. Но самое уничижительное было в том, что она не ушла сразу. После своей недлинной речи отвернулась от нас в четверть оборота, расстегнула сумочку. Вынула зеркальце и "губнушку", обстоятельно напомадилась. Повеяло пьяняще забытым за месяц ягодным ароматом. Подвела остреньким и, наверно, шершавым язычком ставшие клубничными губы. Только после этого, тряхнув презрительно вороной челкой – в сторону, противоположную от двух застывших и онемевших идиотов, – зацокала прочь.
– Ну, погодите, сладкие! – опомнившись, сказал ей вслед Айзик, – вот приедем в Тюмень, загорелые-красивые, разберемся там с вашим братом!
– С сестрой, – уточнил я.
– Да-да... – Согласился было Айзик. – А разве так говорят?
– Если говорят: "Гидэ магазэн...", то после такого все можно "гаварыт". Кстати, мне показалось, что она вполголоса сказала: "козел". Как ты думаешь, о чем это она?
– Ума не приложу, – бесстрастно ответил Айзик. – А на каком языке?... Прошагав положенные метры и сделав необходимый поворот, мы вполне логично остановились. Площади с вожделенным магазином не наблюдалось.
– Ладно, – заявил Айзик, – если тебе за меня стыдно, спрашивай сам. Буду молчать, как рыба об лед.
Я обратился к прилично одетому мужчине, сидящему на скамейке и внимательно читающему газету:
– Можно у вас спросить?...
Мужчина кинул на нас взгляд, неожиданно быстро встал и сложил газету. Это был крупный казах в костюме, при галстуке. На лацкане пиджака я заметил депутатский значок. Он уважительно снял очки, приготовился слушать, даже наклонил голову к плечу – само внимание.
– Нет-нет, – успокоил его я, – пустяковая проблема, ничего серьезного. Где-то поблизости должен быть... книжный магазин. Мужчина, продолжая нас внимательно рассматривать, заговорил таким тоном, будто перед ним стояли не два разгильдяя-недоросля, а члены делегации из какой-нибудь братской республики, приехавшие по обмену каким-нибудь опытом, и в данный момент знакомящиеся с достопримечательностями этого провинциального города:
– Вам необходимо выйти на центральный проспект, – он показал в сторону, откуда мы только что пришли. – Там недалеко от кинотеатра – центральный книжный магазин. Кроме того у нас имеется хорошая библиотека... Если вас интересует специальная литература, то к вашим услугам дом политпросвещения или...
– Нет-нет, – я остановил любезного гида, – извините, я не совсем точно выразился. Нас интересует диетическое кафе возле того книжного магазина, который мы разыскиваем!...
– О-о-о!... – гид приложил руку к сердцу. – С этим у нас вообще никаких проблем! Буквально за углом ресторан... Но что ресторан!... Вам больше подойдет национальная кухня, это чуть дальше, возле рынка. Бишбармак, кумыс!...
– Отец! – устав притворяться, оборвал его Айзельман. – Нам нужно знаете что? Вино-водочный магазин. Который на площади. Между книжным и кафе. Или любой другой! Вино-водка. Понимаете? В горле пересохло, голова болит... Мужчина надел очки, развернул газету. Секунду постоял, постелил газету на скамейку, сел. Затем вскочил, как будто обнаружил, что только что сел на окрашенное. Таращась на нас гневно-обиженными глазами, страшно плавающими за толстыми стеклами, вытянул вперед мощную руку с развернутой ладонью, как вождь мирового пролетариата, на уровне плеча, параллельно земле (я малость сдрейфил). То ли показывая нужное направление, то ли приглашая проходить мимо... Мы пошли туда, куда указывала коричневая длань.
Довольно скоро мы оказались на окраине небольшого, почти безлюдного парка. Напротив, через асфальтированную площадь, согласно надписям на двух языках, один из которых нам был понятен, располагались продуктовый магазин и столовая.
– А где же книжный магазин? – завертел я головой.
– Дался нам этот книжный!... – досадливо проскрипел Айзик. – Тогда уж давай дом политпросвета поищем? А?... Перегрелся, что ли? Стоп, замри!... он выкинул руку, как шлагбаум, поперек моей груди. Затем увлек меня в тень плакучей ивы, зашептал: – Нет, ты глянь-ка! Что я говорил?
Наперерез, не замечая нас, расширив ноздри – вынюхивающий добычу зверь, целеустремленной походкой двигался... Снежков. Поравнявшись со ступеньками кафе, резко остановился, как споткнулся. Косо задрал голову. Словно любопытный турист, вчитался в надписи. Засунул руку глубоко в карман, пошерудил там. Даже по затылку было видно, что мозги заняты счетом. Посмотрел налево, направо, подобно дисциплинированному пешеходу. И со скоростью уходящего от погони исчез в дверном проеме.
Мы присели на скамейке между столовой и магазином, закурили. Через несколько минут из столовой выявился Снежков. Щеки его привычно рдели, полные размягченные губы еще несли на своей детской розовой кожице следы жира и влаги. Глаза жмурились от яркого уличного света и, наверное, от сытости.
– Снежок! – окликнул его Айзельман и, выражая неподдельное удивление, повернулся ко мне. – Смотри, – Снежок! Вот так встреча. Мир тесен. А мы тут гуляем, присели. Смотрим – ты! Ты откуда вышел-то? С такими довольными-довольными глазами. Как у подоенной коровы...
Снежков виновато развел руками, присел рядом, небрежно качнул головой в сторону столовой:
– Да вот... Решил пройтись. Что в вагоне делать! Пить захотел, зашел, несколько копеек оставалось, компоту взял.
– А-а!... – протянул понимающе Айзик. Сочувственно спросил: – А есть-то все равно хочется?
– Конечно, – ровным голосом произнес Снежков и потупился. – Ничего, успокоил Айзик, – сейчас зайдем, покушаем. Деньги-то у нас. Мы еще не потратились. Спиртное пока не отпускают, одиннадцати нет. Что время зря терять.
Айзик, казалось, забыл о моем существовании и обращался только к Снежкову, который, уже поверивший, что его не разоблачили, и поэтому готовый согласиться со всем на свете, покорно кивал головой.
– Да и знаешь, – продолжал задушевно Айзик, – лучше сперва покушать, а то потом на голодный желудок... Развезти может. Помнишь, как с тобой намучились у Светки на дне рожденья? – (Снежков помнил – кивал.) – А пока, устало закончил Айзик, совсем понизив голос, – Снежок, будь другом, дыши в другую сторону. – Миролюбиво пояснил: – Компот тебе, видимо, подсунули какой-то некачественный – котлетой отдает...
– Да нет, Айзик, такое от голода бывает. Голодная отрыжка!... – я тоже решил внести свою лепту в воспитательный процесс. В столовой мы взяли на шестьдесят копеек три тарелки борща, полные порции, хоть Снежков и пытался протестовать – мол, ему хватит половинки. И девять кусочков хлеба. Ели не разговаривая. Молчаливой трапезой подводя черту под "всем, что было". Вышли на белый свет простившие и прощенные. За спиртным пошел Снежков. По логике Айзельмана, некоторых опять могли принять за олимпийцев, а Снежков в этом плане выгодно от нас отличался – не в джинсовых штанах, при белой рубашке. К тому же, о нем никак нельзя было сказать, что он спортивно сложен. Даже не загоревший: кожа его лица в течение последнего, очень для нас всех жаркого месяца, не могла подружиться с солнечными лучами, не бронзовела – а краснела, пузырилась и опадала лохмотьями слой за слоем. Поэтому вид его был слегка облезлый, но мимика отличника и маменькина сынка компенсировала этот его временный недостаток. Так говорил Айзельман.
Две бутылки ярко желтели и радужно отблескивали золотистыми этикетками в руках Снежкова, который выглядел, как человек, совершивший подвиг.
– Что за херню ты купил, Снежок? – зловеще прошипел Айзик, вращая глазами.
– Это "Херес", "Хе-рес", – миролюбиво объяснил Снежков, проводя пальцем по надписи на бутылке, как будто ничего не произошло. Хотя, было заметно, он догадывался, в чем причина Айзикова гнева.
– Хер-Ес, – передразнил Айзик, по своему расставив акценты. – Ты думаешь, я читать не умею? – Он взорвался: – На что ты деньги угрохал, интеллигент! Что, водки не было, бомотухи, наконец?!... Или опять компоту захотелось?!
– Воскресенье сегодня! – смело закричал Снежков, потому что говорил правду. – Только слабые напитки продают! Этот – самый крепкий! Все равно ведь, думаю, будете в "лигрылы" переводить – вам же по барабану в этом плане: что "Херес", что "Хер-Ес"!...
Он был прав. Для Айзика, и не только для него в нашей студенческой среде, "лигрыл" являлся зачастую решающим параметром. Особенно при дефиците финансов. Дробь: Литр помноженный на Градус, и все это поделенное на количество Лиц, то бишь Рыл. Чем больше величина "лигрыл" на данную денежную сумму, тем ценнее напиток.
– Об чем шумим, народ?
На пороге магазина стоял тщедушный мужичек довольно затрапезного вида. Рубашка навыпуск выполняла двоякую роль: скрывала то, что топорщилось из кармана брюк, а так же то безобразие, которое представлял из себя пояс на впалом животе. Впрочем, последнее трудно было утаить – нижние пуговицы на рубахе отсутствовали. Легко догадаться: чтоб не упали портки, мужику необходимо было затянуть пояс на последние, дополнительно проколотые дырки, смяв верхнюю часть брюк в гармошку.
Айзик стоял, отчаянно загнав руки в узкие карманы джинсов, поникший, казалось, не зная, как жить дальше. Сказал, борясь с раздражением:
– Отец. Дядя. Или дедушка. Не знаю, как вас лучше назвать. Вы местный житель. У нас уже было несколько небольших встреч сегодня. Но все они почему-то заканчивались примерно одинаково – мы покидали друг друга. У меня такое предчувствие, что ничего нового нас в этом смысле не ожидает. Извините.
Мужик продолжал улыбаться щербатым ртом, превращая все маленькое лицо в складки и щелки:
– Просто не могу, когда люди ругаются. По пустякам... Подумаешь! Можа, я чем помочь могу. Вот, – он приподнял край рубахи, обнажив серебристую макушку водочной бутылки, – как раз ищу... – он запнулся, обвел нас взглядом, еле уловимо кивнув на каждого, пересчитывая, – четвертого. – Он еще сильнее заулыбался, обнажив не только редкие желтые зубы, но и десна, довольный своей шутке, которая, по его мнению, ярко продемонстрировала остроумие. Айзик оживился:
– Дядя, подскажите, где вы это купили?... – и сразу осекся. Махнул рукой: – А, все равно денег больше нет. Послушайте, может, махнем? Две наших красивых и дорогих на одну вашу прозрачную? – предложение прозвучало безнадежно, это все понимали.
– Кака разница, где купил! Главно – факт. Как ветерану и надежному клиенту завсегда отпускают. Даже в выходной, даже, быват, в долг. Ладно, он тронулся в сторону скверика, – чо на жаре-то стоять. Пойдем, скорпи... скопи...
– Скооперируемся! – в след ему радостно подсказал Айзик, чуть не подпрыгнув. – Действительно, мы вас приглашаем: две наших плюс одна ваша!
– Пойдем, пойдем!... Приглашаем! – мужик не оглядываясь хмыкнул. Вашей мочой запивать будем.
В сквере мы расположились на одинокой скамейке, скрытой от внешнего мира большими кустарниками. "Мое место!" – гордо проговорил наш новый знакомый и извлек из соседнего куста большой граненый стакан.
– Этот для портвейну, – объяснил с сожалением, щелкая по стеклу. Водочный, аккурат сто грамм, разбили недавно. Ладно, – он протер емкость уголком рубахи, – пойдет, не баре. Точно, Абрам? – это он Айзельману. Давай, разливай, – отдал стакан Снежкову, – ты самый путевый, грамотный, вижу. А вы пока рассказывайте, – его внимание досталось и мне, – откуда и почем!...
Айзик выпил первый. Отдышался, отморщился, проморгался, закурил.
– Вообще-то я не Абрам, а Павел, – он кашлянул в кулак, явно борясь с накатывающим приступом гордости: – Вообще-то, мы спортсмены... В Москву едем. На Олимпиаду.
Снежков слегка поперхнулся.
Мужик лукаво прищурился, кивнул понимающе:
– Поболеть едете, я вижу? – он указал на Снежкова, который "заливал" только что выпитую порцию водки, запрокинув почти вертикально бутылку "Хереса", борясь с пеной.
– По всякому, – ответил Айзик, не всегда готовый к чужому остроумию. Постарался перевести разговор в другое направление: – Вы-то сами откуда и почем? Выговор у вас какой-то неместный – то ли горьковский, то ли уральский...
– Не местный... А ты что, целинный говор знаешь? – мужик отчего-то, показалось, несколько запечалился. – Я человек – главно. Понял?
– Ну, вы же сами сказали: откуда и почем? Вот я и продолжаю в этом русле.
– Да-да, – мужик примиряюще закивал, – точно. Вообще-то, я так, чтобы разговор зачать. Вижу – не здешние. Вообще-то, мне все равно. Ты человек, я человек. Скушно – выпили, будь здоров, пошли дальше. Не люблю делить: я такой – ты сякой, я рядовой – ты кудрявый... Нас так в лагере делили, с тех пор – страсть как не люблю!...
– Это интересно. А какого рода был лагерь? Ну... – Ничего интересного, чай не пионерский, – перебил мужик. – В начале войны, под Брестом, попали в окружение, спасибо иське. Стрельнуть ни разу не успел – винтовку в руках не держал. Сразу – плен. Майданек, Бухенвальд, Саласпилс – бросали туда-сюда. Всю войну – там. Потом – родной, целинный, без названия. Ничего интересного. А вот что интересного – дак Власова видал.
– Это какого, того самого? Генерала армии?
– Того! Кого еще!...
...Построили нас, почитай весь лагерь – кроме женщин да детей, одни мужики. Вышел он, значит, из ихней кучи... Хрен знает, в какой форме – не наша, и не немецкая. Смесь. Я, говорит, Власов! Воюю не за немцев – за Россию! Против жидов и коммунистов!... Кто в мое войско – выходи со строю!... Никто не выходит... В других местах, я знаю, выходили. Мало – но было. А как же!... Жить-то хочется... Мне, к примеру, всего девятнадцать. Моложе еще вот вас. А как я, к примеру, выйти мог, у меня ведь в Красной Армии – брат. Сроду не коммунист. Нет... Никто не вышел. Он, значит, в другой раз повторил – можа кто не понял. Тишина, никто не зашелохнется, самого себя, как дышишь, слышно. Да собаки где-то там – далеко-далеко тявкают. А еще, знаешь, чувствую, люди, каждый, друг дружку стесняются потому некоторые не выходят. Это ж надо, а?! Стыд, получается, посильнее страха!... Никогда б не поверил. Обычно, говорят, наоборот. А вон на самом-то деле вишь как. И ведь каждый знает – смерть, смерть! Ан вот пока живой – стыдно. Друг на дружку не глядим. А он: раз так, говорит, ну и подыхайте тогда!... Спасибо, жилы не тянул – быстро: хошь, не хошь... А сам – морда лиловая, злой и какой-то... Вроде как тоже стыдно ему – али перед немцами, али перед нами. То ли за то, что никто не вышел, то ли еще за что... – русский ведь!...
– Как же вы живой-то остались? – спросил захмелевший Айзик.
– А очередь, видно, не дошла, – мужик хохотнул. – Молодой был, для работы сгодный... – Опять запечалился. Кивнул на Айзика: – За первую очередь в расход у них ваш брат шел.
Айзик понимающе кивнул и добавил рассеянно: "И сестра..."
Воцарилось неловкое молчание. Я решил его нарушить:
– А скажите, что по телевизору показывают про то время – правда?
– Правда, сынок. Что про немецкие лагеря – правда. Верь, верь... Так и было. Хотя, вот один раз читал – на стекле, значит, битом заставляли танцевать. Дак что не видал, то не видал. Остальное – правда. Что про немецкие-то лагеря... Про наши-то молчок, а про те – правда.
– Наши, вы имеете ввиду какие, уголовные? – уточнил дотошный Снежков. Уголовные!... – изменив голос, передразнивая, продребезжал мужик. Вырастешь – узнаешь, каки уголовные! А!... – он махнул на Снежкова рукой и как-то отчаянно замолчал.
Я подумал, что сейчас опять самое подходящее перевести разговор на другой объект.
– Брат-то ваш как, который воевал, жив-здоров?
– Жив-здоров, – отозвался эхом. – В Свердловске живет. Квартиру недавно, как ветерану дали однокомнатную, когда зубы выпали. Сам-то я здесь остался... А чо, тепло. Никто не попрекает. Мне ничего не надо. – Он повернулся к нам сильно вдруг изменившийся лицом. Ноздри расширились, прямо вздулись, глаза сузились – две темные щелки. Я пытался поймать в них какой-нибудь сентиментальный блеск. Напрасно. Только звериная смелость готового на все человека. Он продолжил тихо:
– Я человек – понимаешь? Человек. Это главно. Никто меня не может заставить: где хочу, там работаю, где хочу, хожу, с кем хочу, с тем разговариваю. Ежели что – не дамся!... Все, хватит!... Человеком помру. Все остальное ерунда, понимаешь?
– Знаем, проходили – согласился Айзик, – "Человек – это звучит гордо!"
– Да-да!... – мужик рассмеялся, хлопнул Айзика по плечу, превратившись опять в затрапезного забулдыжку, которого мы полчаса назад встретили возле магазина. – Тока вы проходили, а я – живу! Ладно, – он показал на пустые бутылки, – может по новой сходим, у меня еще на одну есть?
– Господа офицера!... – Снежков встал, галантно поклонился (он преображался даже в легком хмелю): спина прямая, резкий кивок – подбородок к груди, пауза, бросок чубчика назад. – Смею вам заметить, что нам пора. В том смысле, что нам пора и честь знать.
– Дак вы еще, кроме олимпийцев, офицеры? – на этот раз мужик, казалось, засомневался: верить или нет.
– Да, – Айзик сразу же нашелся, – мы из ЦСКА.
– А, понял!... – мужик обвел кампанию рукой, сказал напыщенно: Сборная Совармии на Карагандинском привале.
– В самоволке!... – в тон ему воскликнул Айзик.
Я решил взять командование на себя. В полной уверенности, что, как подобное бывало ранее, друзья поддержат игру. Встал, прокашлялся.
– Господа офицеры!
Айзик стал рядом со Снежком. Поднялся и мужик.
– Товарищи лейтенанты! Слушай мою команду! На первый-второй рассчитайсь!
– Первый!
– Второй!
– Третий!... – мужик, дурачась, выгнул грудь колесом.
– В шеренгу по двое становись!
Айзик и Снежок послушно выстроили жиденькую шеренгу.
– На вокзал! Обратной дорогой! Шаго-о-ом – марш!!!
Мы с мужиком пошли рядом, стараясь сохранять солидную походку, не отставая от марширующих.
Когда шагали мимо казаха с газетой, на лице которого при виде нас нарисовалось прежнее выражение – гневное удивление, плавающие за толстыми стеклами глаза, я несколько раз громко выкрикнул: "Левой, левой!..." Наш собутыльник гордо помахал казаху рукой – видно, они были знакомы.
Жаль, что нам не попалась девчонка в бикини с глазами инопланетянки...
Лица марширующих раскраснелись от алкоголя и быстрой ходьбы, но сил еще много. Мужик уже едва поспевает за нами, его подгоняет задор. Перед вокзалом меня как командира сменил Снежок.
...Наконец достигаем цветочных рядов. Снежок тоже ловит ногу на марш и громко подает команду: "Отделение!" – Раз! все трое вытягиваемся струнами, переходим на чеканный печатающий шаг. Ноги на подъеме прямые – почти параллельно земле. Руки по швам, с силой прижаты к телу. "Олимпийцы!... Равнение на!... – право!" – Раз! и лица торжественно обращены к цветочному ряду, чуть кверху. Цветочницы машут нам букетами, как чепчиками: "Счастливо!... Успехов вам!"
"Советский Союз!..." – гордо кричит наш компаньон. Я оглядываюсь: он уже почти бежит за нами. То и дело смотрит на цветочниц и тычет пальцем в наши спины, таким образом обозначая свое непосредственное участие в компании, источнике всеобщего восторга.
Мужик, которого, оказалось, звали Иваном, провожал нас долго, до самого отправления поезда. Несколько часов. Поэтому он остался без копейки и все мы успели протрезветь и устать. Я заходил в вагон последним, когда он уже поплыл. Сказал Ивану, который еще некоторое время семенил рядом по перрону:
– Дядь Вань!... Вы не обижайтесь, неудобно, честное слово... Шутка просто. – Мои друзья, пошатываясь в тамбурном проеме, придерживая друг друга, согласно кивали головами, пожимали плечами и виновато улыбались: мол, нехорошо, конечно, но ничего страшного, так вышло, само собой. Подурачились... Мы не олимпийцы! И не офицеры пока!... Может, и не будем никогда. Прощайте!
– Да, да!... Я знаю, знаю! Чай, не слепой... Какая разница!... Познакомились – разбежались, будь здоров! – у него опять расширились ноздри, глаза сузились – на этот раз, мне показалось, в них блеснуло. – Вы люди!... Хорошо, что стыдно. Не переживай. Хорошо!... Это главно!...
Перрон кончился, Иван остановился, коротко махнул нам рукой. Отвернулся. Мы еще некоторое время видели его: маленькая фигурка, руки в карманах, спиной к уходящему поезду.