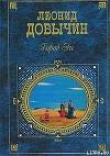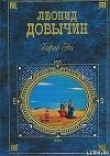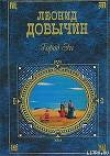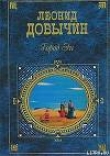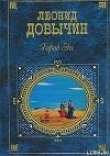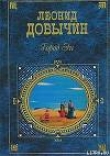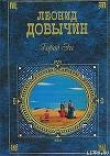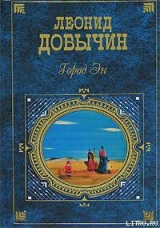
Текст книги "Шуркина родня"
Автор книги: Леонид Добычин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Леонид Иванович Добычин
Шуркина родня
1
Телега со скарбом подъехала к домику. Он был бревенчатый, обитый железом. К дороге он был обращен тремя окнами. Дверь и два окна были сзади. Двор не был ничем огорожен.
Хозяйка, которая шла за телегой, шагнула еще раз и, очутясь рядом с возом, ссадила с него шестилетнюю девочку и мальчугана лет трех. Шурка, средний, сам спрыгнул.
Явились мальчишки откуда-то, расположились и стали глазеть. На крылечках двух соседних домов появилось по женщине.
– Сбегайте, кто-нибудь, дети, – сказала приезжая, – и попросите сюда господина Акимочкина.
Дожидаясь его, она села с детьми на завалинку. Возчик отвязал от телеги ведерко. Достав из колодца воды, он дал лошади пить. Он свернул «козью ножку». Махоркой завоняло в свежеющем воздухе.
Пыльные, из придорожной канавы торчали репейники. Поле с коротенькой бурой щетиной тянулось до леса. Местами оно было серое от паутины. Казалось, что на нем лежит иней.
Лес был верстах в трех с половиной. Недавно за него село солнце, и небо над ним еще было слегка желтоватое.
Виден был верх колокольни за лесом, и крест одним краем блестел на ней. Черная, около колокольни видна была узенькая заводская труба.
Разрезая лес вдоль, показался вдруг и стал быстро бежать белый дым. Поезд вынесся и застучал, приближаясь.
Извозчик сказал, что дорога, по которой идет этот поезд, зовется здесь «веткой», а сам этот поезд «кукушкой». Он возит со станции к сахарному.
Мальчуганы, ходившие за господином Акимочкиным, прибежали, и скоро стал виден он сам.
Он шагал, держась прямо. Он был невысокий и черный, с железнодорожными пуговицами.
Дойдя, он приставил одну свою ногу к другой, как солдат. – Добрый вечер, – сказал он.
Посылавшая за ним женщина встала. Он был ее брат. У обоих у них были красные щеки, срастающиеся на переносице брови, рот, в углах загнутый кверху.
Акимочкин отворил принесенным с собой ключом двери, и в дом внесли вещи.
В нем были две комнаты: «кухня» и «зал». Стены зала побелены были мелом. Пол в нем был дощатый, покрашенный. Дети, восхищенные, стали валяться.
Их мать, отвернувшись, достала платок из-за пазухи и, развязав его, вынула деньги и расплатилась с извозчиком.
Он постоял и спросил, нет ли «синенького», и ему нацедили в стакан через корку.
Потом нацедили себе, и Акимочкин, опрокинув, пошел.
– Ну, пока поживите, – сказал он, как будто бы этот дом был его.
На пороге столкнулась с ним гостья, толстуха, кума, машинистиха, родом литовка. Она была низенькая и пыхтела. Одета она была в пышное платье с прошивками.
Нацеловавшись, она пощипала детей, и хозяйка, цедя через хлеб, налила ей полчашки. Она проглотила. Лицо у нее стало масленым.
Обе довольные, они напоили детей кипятком и, постлав на полу, уложили их. Вбили три гвоздика в разных местах и повесили зеркальце в рамке, иконку и лампочку без абажура, к которой был сзади приделан рефлекторчик из гофрированной жести.
Потом ее сняли, зажгли, осмотрели при ее свете кровать и, обмыв ее и протерев керосином, расставили.
Гостья затем пожелала помочь еще разобрать сундучок. Он обит был брусничного цвета слюдой и полосками жести. Замок у него открывался с секретом.
Когда дошло дело до двух фотографий, она поднесла их к огню и одну за другой, отдаляя от глаз и опять приближая к глазам, с интересом рассматривала.
На одной была надпись «На память о браке моем сочетании», а на другой «В день отъезда на фронт».
Похвалив их за сходство, литовка, печальная, потрясла головой и вздохнула.
– А если бы, – предположила она, – он служил на железной, его бы не взяли.
Хозяйка опустилась тогда на кровать. Там она, утираясь платочком с деньгами, повсхлипывала.
Она стала потом проклинать генеральшу Канатчикову, у которой в имении ее муж состоял в писарях.
– Не наймись он туда, – говорила она, – он бы, может быть, был на железной.
Расстроенная, она процедила оставшийся синенький и допила его с гостьей. Их души раскрылись, и женщины пододвинулись ближе друг к другу.
Они улыбались приятно и слушали, как в другом конце комнаты дети сопят.
– Нет, – задумчивая, глядя в сторону лампочки, заговорила мечтательно гостья: – Что-что, а железнодорожное дело – святое. Какое подспорье, что служащим предоставляют хотя бы, например, даровые билеты.
Счастливая, стала она вспоминать, как в Аральске она была за усачом, а в Иркутске – за хлебом. В Крым съездила и посмотрела на Черное море. Из Тулы неделю назад привезла самовар, а теперь собирается в Сызрань за яблоками.
Уходя, она вдруг повернулась. Борясь с нерешительностью, потупляющаяся и доброжелательная, она остановилась в дверях.
– И не трудно вам так, – сострадающая, проницательно глядя, спросила она, – как вдове, без мужчины?
2
Поев привезенного вчера с собой хлеба, все вышли на улицу. Мать заперла на ключ дом и отправилась, приказав дожидаться ее и никуда не ходить, на базар.
Дети радовались, что остались одни на свободе. Они покричали «кукушке» «ку-ку» и, дразня ее, стали скакать и плясать. Повалясь на дорогу, они хохотали. Потом они стали вздымать пыль ногами. Набрав ее в горсти, они ее сыпали себе на голову.
Из соседнего дома к ним вышел мальчишка в поярковой шляпе. Они окружили его. Он сказал, что отец у него земледелец, Василий Иванович, и что с другой стороны, где на крыше стоит жестяной петушок, живет «главный». Когда ему нужно на станцию вечером, он зажигает фонарь и несет в руке. Дочери его, девке, пять лет, и ее зовут Манькой. Жена его один раз отхватила себе дверью пол-уха. Работу у него в доме делает теща. Индюшек он держит зимой в утеплённом сарайчике. В поле их водит пастись сучка Джек.
Он сыграл на сопелке, достав ее из-за рубахи, и спел интересную песенку. Дети такой не слыхали до этого:
Пора бабушке вставать.
Накормила,
На дубочек посадила.
Дуб, сломися,
Другой, народися.
Татарки,
Хохлушки,
Берите по палке
Там мост мостять.
Там жеребцов крестять.
Он рассказал им еще, что его зовут Яшкою, и что из мест, где война, едут беженцы, и что когда они будут здесь жить, то парнишка их будет ходить к нему.
Многое из того, что он тут говорил, сразу же и подтвердилось. Индюшка прошла с индюшатами, сопровождаемая сучкой. К изгороди подбежала из сада девчонка. Старуха, поставив ведро, догнала ее и оттащила, схватив за подол.
– Говорил я, – сказал тогда Яшка, и слушатели, изумленные, захохотали.
Их мать в это время шагала, помахивая на себя для прохлады платочком. Она краем глаза поглядывала на свое отражение в окнах. На ней была черная кружевная косынка и бусы из коралловых шариков. Юбка и кофта на ней были синие, новенькие, еще ни разу не стиранные и блестящие.
Улицы не изменились с тех пор, как она, еще маленькая, приходила сюда из деревни.
По-прежнему чередовались с заборами одноэтажные домики, были видны впереди каланча и украшенная синей маковкой и золоченым крестом колокольня.
На тех же местах были «Чайная», «Зало для стрижки», «Плиссе и гофре», и такие же толстые люди смотрели с портретиков, вставленных за стеклом у фотографа.
Так же, как и в то время, пыля на ходу, в камилавке и в валенках, брел без дороги отец Михаил и раскачивался, как медведь в балагане на ярмарке.
– Дунька Акимочкина, – узнавали ее и подходили к ней люди. Другие, воспитанные, говорили ей так: – Евдокия Матвеевна.
Все ее знали девчонкой еще, и никто ее не называл по фамилии мужа – Гребенщиковой.
Ей рассказывали между прочим, присев к ней на лавку, что Ванька Акимочкин, брат ее, в Преображенье был пьян. Он хвалился у церкви и возле ларьков против станции, что он может Дуньку впустить, может выгнать, что дом не ее, а его, потому что он сам его ставил.
Взволнованная, она всем возражала на этом, что муж ее несколько лет понемногу давал Ваньке денежки, чтобы он закупал не спеша матерьял, и что Ванька сам строил, так это потому, что он плотник (железнодорожником сделался только во время войны), и за это ему шла часть платы, которую получали от Губочкиных, квартирантов.
– Вам надо управы искать на него, – говорили ей. – Надо бумагу составить: «До слуха до моего, мол, дошло» и
– подать куда следует.
Несколько дрог на железном ходу, запряженных лошадками, к мордам которых подвешены были дерюжные торбы, стояло у почты. Под липой сидели на пыльной траве их хозяева и бормотали, читая в тени «донесения главнокомандующего».
Гончарных дел мастер дед Мандриков тоже был здесь. Он жил в той же деревне, где жил и Авдотьин отец, и Авдотья обрадовалась.
– Дед, – сказала она, подходя, – вам богатому быть: не узнала я вас. Извините меня уж.
Она посмеялась немножечко и подала деду руку. Свой воз он оставил у Бондарихи, на заезжем. Авдотья его проводила туда.
– Мне и детям моим, – говорила она, – угрожает опасность. Пускай бы папаня заехал сюда. Я сама бы слетала к нему, но нельзя: не с кем бросить детей.
Деду Мандрикову было очень приятно с ней. Он улыбался и был обходителен. Он подарил ей газету.
– Газета сегодня, – сказал он ей, – не лишена интереса: мы что-то около ста человек взяли в плен.
Ей пришло тогда в голову, что хорошо бы дать знать про все мужу. Она завернула на почту, купила конверт, лист бумаги. Почтмейстер пожаловался ей, что, вот, завели эти новые марки и руки с трудом подымаются, чтобы класть штемпель на царский портрет.
«Благоверный супруг мой, – писала она, когда дети ее улеглись, – я одна без вас. Люди жалеют меня и говорят мне, что я – как вдова».
От письма она с лампочкой переходила к простенку, где было повешено зеркальце, и, посмотрясь, возвращалась.
Она написала про Ваньку и больше всего – про хорошую смерть квартирантки их, Губочкиной: как она обошла всех знакомых и всем говорила: «А знаете, я ведь сегодня умру», а вернувшись – переоделась, легла и послала за батюшкой. Губочкину без нее не хотелось здесь жить. После похорон он собрался и уехал в Самару.
3
Авдотьин отец подкатил к дому вечером двадцать девятого августа, в день «усекновения». Завтра у Шурки должны были быть именины, и деда просили остаться.
– Есть синенький-то? – спросил он, выпряг мерина и поместил его на ночь в конюшне у отца Яшки, Василия.
Дед был костлявый, бородка у него была серенькая, стрижен он был под горшок. Он ходил в картузе и клеенчатой куртке.
Он снял сапоги и остался босой. Чтобы дети не трогали вожжи и кнут, он их спрятал на печку.
На улице было тепло, и Авдотья с отцом, выпив синенького и задув в доме лампочку, вышли во двор. Они сели на дроги и, скрючась, беседовали.
Подымался и утихал лай собак. То далёко, то близко гудели иногда паровозы. «Кукушка», проносясь то туда, то назад, тарахтела.
В конюшне Василия лошади переступали. Звезда иногда отрывалась и падала.
Дочь рассказала отцу, как, съезжая со двора генеральши Канатчиковой, продала свою Катьку, корову, и как трудно жить. Рассказала про Ваньку.
Отец был красильщик и возчик. Он красил холсты в деревнях и возил бревна к пристаням.
– Слушай, – сказала Авдотья и высчитала, что, живя возле станции, он бы мог целиком перейти на извоз.
Они долго прикидывали, и уже петухи прокричали, когда они договорились, что дед переедет сюда.
Возбужденные, они наконец вошли в дом и прикончили синенькое, припасенное к завтрашнему именинному дню.
Под Воздвиженье дед переехал. На дрогах привез утром скарб, выпряг мерина и поскакал на нем за тарантасом и бабкой.
Она была низенькая, в ватной кофте, сужавшейся в талии, в черном, с горошинками, сарафане и в красных сапожках. Она перекрестилась, войдя, и, сняв пестрый платок, осталась в сатиновом черном чепце.
Дед и бабка устроились в кухне. Кровать у них была деревянная, и нарисованы были на ней два кувшина и лев между ними.
В сенях дед развесил парадную сбрую. Она была с бляхами. Шурке при этом он дал держать вожжи. Они были вязаные, шерстяные, зеленые.
Бабушка была из староверок. Иконы у нее были черные. В угол она поместила Иисуса Христа, а по бокам – Богородицу и Иоанна Предтечу. Он был страшный, с крыльями, с чашей, а в чаше у него был ребеночек.
Перед иконами бабка прибила к стенам треугольную полочку и прикрепила к ней ситцевую пелену, а на полку поставила круглую штучку с отверстиями и сказала, что это – кадильница.
Стали жить. Дед поставил плетень перед домом, построил сарай, навозил дров, картошки, набил сеновал.
Иногда он в свободное время решал почитать и, открыв сундучок, доставал из него очень толстую книгу, которая называлась так: «Правда дороже, чем золото».
Весь сундучок изнутри был оклеен картинками, и из него соблазнительно пахло. Для запаха дед в нем держал десять черных стручков. Говоря о них, он называл их «рожками».
Дед клал эту книгу на стол, придвигал табуретку. Очки у него были связаны сзади веревочкой. Он надевал их и начинал читать вслух.
Когда он сел читать в первый раз, все явились, заинтересованные, и расположились вокруг.
– Вот, – сказал он и прочел, что «не должно избегать встреч со священником».
– Некоторые, – читал он, – считают, что встречи сии предвещают несчастье. Но мысль сия внушена самим дияволом.
Знатный московский купец, выйдя из дому, встретил в дверях поспешавшего на урок к его детям законоучителя и обратился назад.
– Не страшитесь, – ободрил его иерей, – но идите, и я говорю вам, что вы получите прибыль.
И что же? Купец торговал в этот день с такой выгодой, как никогда.
На Кавказе один суеверный полковник, идя в поход, встретился с шедшим домой по совершении некоей требы пресвитером и приказал своим воинам плюнуть. И тут же настигла его мусульманская пуля, и он испустил вскоре дух.
– Это верно, – сказала Авдотья. Ей вспомнилась встреча с отцом Михаилом и после него – с дедом Мандриковым. – Иногда и священника встретить – не к худу.
В базарные дни заезжали иногда к деду с бабкой какие-нибудь старики из деревни. Дед Мандриков тоже заглядывал по временам и докладывал, сколько мы опять человек взяли в плен.
Иногда, когда в церкви давали «листки из Почаева», он заходил почитать их вдвоем.
Начинались морозики. Кадку с водой из сеней внесли в кухню, «зал» стали топить. Утром поле и соседние крыши совсем были белы. Плетень и примкнутый к нему рыжей цепью с замком тарантас по утрам были тоже как будто посыпаны солью.
Все меньше удавалось бывать на дворе. Было скучно. Томясь, дети часто принимались мечтать о парнишке из беженцев. Если бы он приходил к ним – как здорово было бы.
С Яшкой они теперь редко встречались. Встречаясь, справлялись, приходит ли этот парнишка к нему, но парнишка еще и к нему не ходил.
Раз вошел, постучась, сын Ивана Акимочкина Аверьян с сундучком и, поставив его, объявил, что пришел сюда жить.
– Не хочу, – сказал он, – покоряться.
Он начал ругать свою мачеху и рассказал, как она придирается, и как наушничает, и как отец его из-за нее в позапрошлом году до того избил Нюрку, которая была тоже от первой жены, что она и сейчас еще чахнет.
– Ну что же, – сказала Авдотья, смотря на него. – Проживай себе.
Стлать она стала ему на полу, там, где детям, и дети, ложась, уговаривались, если кто-нибудь ночью проснется, будить остальных, чтобы слушать всем вместе, как он интересно храпит.
Через два дня на третий он ездил на соседнюю станцию, где он работал в депо, и дежурил. Когда его не было, дети вытаскивали из кармана его праздничной куртки конверт с фотографиями, на котором напечатано было: «Секретно. Мужчинам-любителям. Жанр де Пари»,[1]1
В парижском роде, т. е. нечто фривольное (фр.).
[Закрыть] и смотрели их.
4
У земледельца Василия Ивановича были похороны. Его Яшка с парнишкой из беженцев пробовал лед на пруду. Оказалось, лед был еще слабый, и Яшка, идя впереди, провалился.
Авдотья решила пойти проводить его. Бабка ее поддержала.
– Кого мы провожаем, – сказала она, – тот нас выйдет встречать на том свете.
Дед тоже решил идти.
– Скоро нам, – пояснил он, – придется просить господина Василия, чтобы он на зиму принял к себе тарантас.
И тогда все оделись и вышли и заперли дом на замок.
Было очень приятно на улице, тихо и солнечно. Точно весной, на дороге попрыгивали и почирикивали воробьи.
Долговязый, задрав кверху голову, на квартал впереди шагал главный. Жена семенила с ним, низенькая, и, оглядываясь, торопила девчонку, которая не поспевала.
– Рассчитывают, – сказал дед, – что весной будут брать у Василия плуг для картошки.
У станции вспомнили Ваньку, как он здесь бахвалился в Преображение, и посмеялись, а переходя через линию, глянули на устроенное между главными и запасными путями «отхожее место для пленных», и всем пришел в голову Мандриков.
Церковь стояла среди большой площади беленькая, ее крестик блестел, и казалось, что небо, везде чуть голубенькое, над ней было совсем густо-синее.
Детям Авдотья дала по копейке для нищих, и нищие что-то пропели им и поклонились им в землю.
Ждать в церкви пришлось не особенно долго. Обедня уже отошла, началась панихида, и дела отцу Михаилу с дьячком Виноградовым было всего на каких-нибудь четверть часа.
Блестя лысиной, главный стоял впереди и крестился. Он был выше всех. А на мертвого дети старались не взглядывать. Желтый, с бумажной полоской на лбу, он пугал их. Никто не сказал бы, что он так недавно играл им на дудке и пел интересную песенку про жеребцов.
Хорошо показалось, когда опять вышли на улицу. Солнышко чуточку грело, и воздух подрагивал. В небе ни облачка не было. Кисточки ягод краснелись еще кое-где на верхушках рябин.
Подоспела литовка, кума, и, пристроясь к Авдотье, болтала.
Она сообщила, что беженцы соорудили в порожнем амбаре костельчик и там очень мило. Ей есть теперь где помолиться по-своему. Пленные тоже заходят туда. Они очень воспитанные, и заметно, что с образованием.
Вдруг она стала таинственной и, оглянувшись, спросила:
– Ну как Аверьян?
– Он такой, – ковырнув рукой в воздухе и сделав губы кружочком, сказала она, а Авдотья, отведя глаза, стала к чему-то присматриваться и спросила, какая это видна там железнодорожная линия.
– Это, – ответил ей дед, – идет ветка на Серные воды.
Он начал рассказывать, как он возил туда лес для железнодорожного доктора Марьина, разбогатевшего тем, что он делал людей непригодными к воинской службе, и строившего в Серных водах два домика, чтобы сдавать их внаймы.
Этот день, необычно начавшийся, дед захотел и закончить по-праздничному. Когда стало темно, он зажег в кухне лампочку и, открыв сундучок, достал книгу.
Опять все пришли и уселись вокруг, чтобы слушать ее.
Дед раскрыл где пришлось и прочел им о женской неверности. Случай с Пентефрием и похотливой женой его всех позабавил, и все посмеялись над ней, что она была старенькая, а полюбила мальчишку, Авдотья же стала ее выгораживать и говорить, что ей, может быть, не было даже и тридцати еще лет.
– Ну да что там, – сказала она, поднялась, погнала детей спать, напихала белья в два котла, залила и поставила в ночь – мокнуть к завтрашней стирке.
Когда, отстиравшись, она собралась на ручей полоскать, к ней явилась литовка. Работы у нее было мало, и она могла сколько угодно расхаживать.
– В Рыме, – сказала она, входя, – быть и попа не видать. Я ходила сейчас к мадам главной и вот зашла к вам.
Очень шумная, расцеловав надевавшую наскоро на голову поверх чепчика черный платочек с горошками бабку, она обхватила Авдотью за талию и повлекла ее в «зал».
Там она рассказала о беженцах и о приехавшем с ними прекрасном ксендзе, хорошо исповедующем, а Авдотья еще раз с ней вспомнила, как хорошо умерла квартирантка.
– А где Аверьян? – оглядев потолок, словно думала, будто он может быть там, вдруг спросила литовка.
Она захотела узнать то и се, почему он работает на другой станции, и что он делает дома.
Авдотья ответила ей, что там – «узел», проходят две разных дороги, и он – на другой, потому что на здешней – сам Ванька, и если бы тут же был и Аверьян, то это было бы слишком заметно и люди болтали бы, что вот оба они укрываются.
Дома же он очень мало бывает. Он любит играть на гармонии, а у него ее нет, и он ходит играть на чужой.
– Молодые всегда так, – сказала кума и, сжав губы, внушительная, посмотрела Авдотье в глаза.
Когда выпал уже первый снег и раскис, по грязище, ругаясь, пришла почтальонша Софроновна и принесла письмецо.
Это муж писал с фронта. Он хвастался, что не дает спуску немцам, предостерегал Дуньку от кавалеров и кланялся всем, а Ивану Акимочкину он просил передать, что, вернувшись, расправится с ним, как с германцем каким-нибудь.
Деду понравилось это письмо, и Авдотья ему подарила его. Он прочел его Мандрикову, когда тот завернул, и тот тоже одобрил.
У Мандрикова в этот день оказалась с собою ханжа. Все подвыпили. Дед стал плясать среди кухни, а бабка, которая не смогла встать со стула, сидела, ударяя в ладоши, раскачиваясь, и, веселая, пела:
– Танцуй, Матвей,
Не жалей лаптей.
Тут в трубе стало выть. Когда выглянули, на дворе оказалась метель, и пришлось деду Мандрикову ночевать.
Перед сном поглядели портреты царей, фотографии разных церквей, напечатанные в книге «Правда дороже, чем золото», потолковали о том, что Толстой, говорят, тоже пишет.
– Священные книги, – сказал дед Матвей, – сорок раз переписаны были, и в них получились ошибки. Там пишется о подставлении левой щеки, а Толстой отвечает на это: «Да так он тебя и совсем убьет».
Все посмеялись, а Мандриков рассказал, что есть книжка про храмы: они – свалка каменья, слитие золота и серебра.