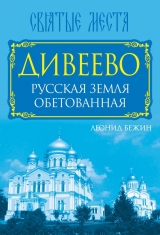
Текст книги "Дивеево. Русская земля обетованная"
Автор книги: Леонид Бежин
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава одиннадцатая. Прохор и Досифей: предыстория встречи
И, наконец, третий случай, истинность которого бросает вызов фактической достоверности. Дарья Тяпкина! Кто она и каким образом возникает в нашем повествовании?
Дарья Тяпкина – это прежнее, мирское имя… старца Досифея, насельника Китаевской пустыни, сквозь дверное окошечко благословившего Прохора на монашество в Сарове. Позвольте, позвольте, получается, что Досифей на самом деле и не старец вовсе, а старица, иными словами женщина, скрывавшаяся под мужским именем и выдававшая себя за мужчину? Именно так, – во всяком случае, таково предание, в котором сразу угадывается нечто навязчиво узнаваемое, до боли знакомое. Мы к этому заранее готовы и даже не слишком удивлены. Мы словно бы уже слыхали о чем-то подобном – верный признак того, что сам прообраз такого поведения укоренен в народном, а потому и нашем собственном сознании. Может быть, и сама Дарья чувствовала, что поступает по некоему заданному ей образцу. Иными словами, как это по-русски – выдать себя за другого ради чего-то высшего, к чему нет иного доступа, – Бога! Говорят, не все в этом предании подтверждается архивными данными, призывают не спешить с признанием того, что старец Досифей и Дарья Тяпкина – одно и то же лицо. Что ж, скептики были и будут всегда, но нас не должно это смущать и особенно беспокоить. Предание на то и предание, что оно живет особой жизнью, передается из уст в уста, а не пылится на полках архивов в проеденной мышами папке. К этому-то живому преданию мы и обратимся.

Дарья Тяпкина родилась в 1721 году, – кажется, эту дату еще никто не оспаривал так же, как и место ее рождения – славный, старинный русский город Рязань. Крик новорожденной пронесся по анфиладе комнат большого помещичьего дома с гостиными, кладовыми, верандами и антресолями. И, конечно же, сразу умильно закивали, радостно заохали, запричитали на разные лады мамки, няньки, прислуга, и счастливый отец, принимая поздравления, сиял как именинник или представленный к царской награде. Истомленная родами, бледная, осунувшаяся (мокрые пряди прилипли ко лбу) мать смотрела на дитя со страдальческой нежностью и любовью. Бог миловал, все кончилось благополучно, без осложнений, горячки и лихорадки. Поэтому присутствовавший при родах доктор и повитуха получили щедрое вознаграждение и откланялись (доктор – с достоинством, а повитуха от преизбытка благодарности залебезила, стала расшаркиваться, угодливо целовать ручки).
Два года девочка воспитывалась дома, как воспитываются дети в дворянских семьях: ползала в ясельках, училась ходить, затем – говорить. О ней заботились, ее нежили и баловали, оберегали от малейшего сквозняка, отпускали гулять под присмотром няни, склонявшейся над ней, когда она неумело переставляла ножки, покупали игрушки в самых дорогих магазинах и шили нарядные платьица. Так бы и жить ей дальше, потихоньку взрослеть, набирать годков, переходя из возраста в возраст: ребенок – угловатая, застенчивая девочка-подросток – цветущая барышня-невеста – зрелая замужняя женщина, окруженная собственными детьми, хлопотливая и заботливая.
Но не судьба: все обернулось иначе.
Случилось так, что родители Дарьи отправились в Троице-Сергиеву Лавру – помолиться, приложиться к иконам, поклониться святыням и захватили малютку с собой. Уж очень хотелось показать ее бабушке, принявшей монашество под именем Порфирии в московском Стародевичьем монастыре, что у Спасских ворот Кремля. Бабушка давно слезно просила, в письмах умоляла: «Дайте хоть одним глазком взглянуть на сокровище, пока Господь к себе не позвал» – ну как не уважить! Да и Москву златоглавую дочери не показать! Два дня прособирались, а на третий с утра пораньше велели закладывать лошадей. Сами уселись в коляску и Дарью рядом посадили, укутав ее одеяльцем, положив под локоток вышитую подушечку, чтобы не растрясло на ухабах. Велели кучеру шибко не гнать, строго-настрого приказали:
– Смотри не опрокинь, Кузьма.
– Обижаешь, барин. Доставим, как положено. Не впервой.
Мы свое дело знаем.
Кучер вожжами тряхнул, лошадки встрепенулись, и покатились колеса по ровной (пока не отъехали подальше от города) дороге.
На четвертый день пути прибыли в Москву, промчались по Тверской и Охотному ряду, обозрели Кремль с Каменного моста – аж дух захватило, как хороша столица. Здесь же неподалеку и монастырь: монахиня-привратница открыла ворота, и колеса дробно застучали по мощенному камнем двору. Тут и бабушка Порфирия, словно почуяв, вышла навстречу – руками всплеснула, радостная: «Ах вы мои дорогие! Наконец-то навестили старую! Дай обниму-то вас!» Как увидела внучку, так просто и залюбовалась ею, такой она показалась славной, послушной, умненькой и хорошенькой. Повела в свою келью, стала угощать гостей липовым чаем и медовыми пряниками с дороги. Да и те с собой гостинцев прихватили – достали, выложили, распечатали. Вот и сидят, за чаем-то и разговор ведут, друг другу о житье-бытье, о соседях и знакомых рассказывают. А бабушка Порфирия все на внучку поглядывает, ласково улыбается ей, гладит по головке: видно, не хочет отпускать от себя, расставаться. И внучка к ней ластится, не боится, не опасается вовсе, хоть та и вся в черном, одни глаза видны (но зато такие добрые).
Вот и попросила бабушка Порфирия оставить Дарью в монастыре: «Доверьтесь мне. Всему ее выучу. Монастырское воспитание самое лучшее». Родители, было, задумались, засомневались, даже закручинились: жаль расставаться с дочкой, она и им самим в радость, но по трезвому размышлению возражать не стали. Они хорошо понимали, что вовсе не обязательно Дарье идти в монашки, но зато какая может быть польза для ребенка от бабушкиного предложения, как много дадут ей годы, проведенные в тихой обители у самых стен Кремля. Здесь приобщится к самому главному – церковной службе, почитанию икон, пению акафистов, постам и молитвам, а уж затем можно будет и прочим наукам ее обучать, арифметике, грамматике, языкам иностранным, немецкому и французскому. Да и не с чужими людьми оставляют дочь, а на попечении близкого человека: родная бабушка укроет и защитит, в обиду не даст.
И знать бы им тогда, что здравомыслие их, благие чаяния и расчеты обернутся сущим безумием…
Семь лет провела Дарья в монастыре, и так полюбилась ей тамошняя жизнь – строгое чередование церковных служб, пение на клиросе, лампады и свечи перед иконами, что, вернувшись домой (бабушка Порфирия к тому времени приняла схиму), ни в чем не находила отрады. Сидела как неживая, как кукла деревянная, и в пол смотрела. Чтобы ее порадовать и потешить, ей предлагали обновы, во французском магазине купленные, доставали из коробок дорогие наряды, повар по наказу родителей готовил для нее самые изысканные кушанья, лакомые кусочки, сдобренные сладкими соусами и приправами. Но она, безучастная, словно гнушалась, ото всего отворачивалась. Вместо пуховых перин спала на голой доске, ни к чему скоромному вообще не притрагивалась, а по средам и пятницам и куска-то в рот не брала.
– И дома та же монашка, порядки-то все монастырские. Ничем ее не проймешь.
– Да и не порядки – все уставы, правила и послушания, – шептали о ней близкие, дворня и прислуга.
В конце концов, жизнь со всеми ее посулами, неизбежным замужеством (ей уже присматривали жениха) и материнством стала для Дарьи настолько постылой и невыносимой, что она задумала любым способом вырваться из дома. И вот весною выждала погожий денек, отпросилась с подругами в лесу погулять, птиц послушать, венок из цветов сплести, на голову на деть и – незаметно пропала. Как ни звали, ни аукали: «Дарья! Дарьюшка-а-а-а!» – нет ее. Чего только о ней не думали: и заблудилась, и зверь заломал, и трясина болотная затянула. На самом же деле Дарья бежала из дома – сначала в Москву, чтобы встретиться с любимой бабушкой, выплакаться у нее на груди, а, может быть, и попроситься к ней обратно.
Вот она снова в Стародевичьем монастыре – как здесь все знакомо и дорого! Но, едва лишь увидела издали бабушку, облаченную в схиму, с совершенно иным, бесстрастным, отчужденным лицом, так и не смогла, не посмела к ней подойти. Нет, бабушка ей больше не защита – зачем бередить ей душу своими признаниями! Да и не попросишься к ней теперь, раз она умерла для мира. Как же быть? Не возвращаться же домой. И не бросаться с крутого обрыва в омут. И Дарья решилась на отчаянный шаг. Она постригла волосы в кружок и оделась под деревенского мужика – натянула суконные порты и рубаху с косым воротом и пуговицей. После этого придала лицу суровое, грубоватое выражение, насупила брови и глянула на себя в зеркало: и не скажешь, что девица. Вот и никакая она теперь не Дарья: отныне ее имя – Досифей.
Под этим новым именем Дарья отправилась в Троице-Сергиеву Лавру, и ее оставили в послушниках: никто даже не заподозрил, что она девица. В Лавре провела несколько лет, пока наведывавшиеся туда время от времени родители не опознали ее:
– Гляньте! Гляньте! Это же наша Дарья!
– Быть того не может! Где?!
– Да вон же у иконостаса стоит!
– Это ж послушник.
– Не послушник, а Дарья! Лицо-то ее!
И хотели силой забрать, вернуть ее домой. Пришлось снова бежать, на этот раз в Киево-Печерскую Лавру. Но там Досифея не приняли, сославшись на указ, запрещавший беглым поступать в монастырь. Тогда он (раз уж Досифей, значит – он) где заступом, где лопатой вырыл себе пещеру в горе неподалеку от Китаевской пустыни и стал жить отшельником, предава ясь самому суровому аскетизму: не разводил огня, не освещал свою пещеру и не готовил пищу. Знакомый монах изредка приносил ему заплесневелую краюху хлеба, а воду он пил из ручья, проламывая зимою лед и припадая губами к холодным – аж мурашки по телу – прозрачным струям. Но как было хорошо и спокойно на душе, согретой постоянно творимой молитвой, – и не передать!
Вскоре молва о подвигах нового отшельника облетела весь Киев. К нему стал стекаться народ, а в 1744 году его посетила сама императрица Елизавета Петровна: чтобы она смогла добраться до пещеры, в горе прорубили ступени. Императрица имела беседу с Досифеем, и по ее настоянию его тут же постригли в монахи – все честь-честью, как положено, по надлежащему чину. Когда при императрице Екатерине отшельничество было запрещено, Досифей переселился в Дальние пещеры Лавры, где у него была подземная келья: там он наставлял, исцелял больных. Жаждущих его благословения было столько, что он изнемог и попросил митрополита Гавриила перевести его в Китаевскую пустынь, на что тот и дал согласие.
Здесь и встретился с ним Прохор – будущий Серафим. И эта встреча странным образом отозвалась в его жизни потом, спустя много лет, незадолго до смерти…
Снова обратимся к «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», основному источнику сведений о преподобном Серафиме. Вот что там рассказывается о некоем событии 1832 года: «Одна беглая девушка, чтобы глубже скрыть свое бродяжничество, остригла свои волосы в кружок, надела на себя послушническое платье и так бродяжничала по миру. Полицейское начальство, предуведомленное о ее побеге, разыскивало и наконец открыло ее. При допросе она показала, будто бы о. Серафим благословил ей так одеваться. Но о. Серафим никогда не благословлял, и по дару прозорливости, конечно, не мог благословить ей скрывать, быть может, свои злодеяния. Между тем, светское начальство, следуя своим порядком, писало к о. игумену Нифонту разыскать и о сем. Оказалось, что беглая оболгала безвинно старца Божия, надеясь, что, из снисхождения к распоряжению о. Серафима, ей простят укрывательство под одеждою послушника. Тем не менее, обстоятельство это огорчило старца, и он на тот раз целые сутки не выходил из келлии, проводя время в молитве».

Китаевская пустынь. Конец XIX века
Воистину бывают странные сближения, как будто случайные и – неслучайные, знаки, за которыми что-то скрывается, но что именно – не распознать: так под конец жизни преподобного Серафима причудливо аукнулось, напомнило о себе когда-то полученное им благословение от старца Досифея – Дарьи Тяпкиной. Серафим Чичагов, автор «Летописи», самим слогом своего повествования, выбором слов стремится оправдать Серафима перед «светским начальством» и ради этого немного сгущает краски («скрывать свои злодеяния», «оболгала безвинно»). Собственно, выдавая себя за послушника, эта девушка тоже поступала по заданному ей образцу. Мы и тут вправе сказать: как это по-русски. Думается, по прозорливости своей преподобный Серафим знал, кем на самом деле был старец Досифей, но о чем преподобный целые сутки молился в своей келье, как о том повествует «Летопись», – нам неведомо.
Глава двенадцатая. Нескончаемый свиток
Игумену Пахомию, казначею Исайе, да и всей братии Саровской, как-то сразу угодил, пришелся по душе новый послушник, поступивший в монастырь поздней осенью, накануне праздника Введения во храм, – Прохор Машнин. Бывает так: еще не успеешь узнать человека, пожить с ним рядом, а он уж чем-то к себе привлек, расположил, полюбился; начнешь думать, перебирать, чем именно, и не скажешь: просто хорошо с ним. Вот и Прохор был из числа тех, с кем сразу становилось хорошо, и все в нем нравилось. Не то что богатырь, но рослый, крепкий, в плечах широкий, с ясным взглядом голубых глаз, прямым носом и русыми волосами, он весь был тут, весь наружу, словно принадлежал не себе, а тем, кому мог понадобиться, помочь, услужить. С готовностью за все брался, а уж взявшись, из рук не выпускал, пока до конца не доделывал. Сам бодрый, и других веселил и подбадривал. Вот и тянулись к нему, стремились держаться поближе, словно всех согревал Прохор неиссякаемым душевным теплом, словно дан он был братии в утешение перед надвигающимися холодами, глубокими сугробами, трескучими морозами, перед долгой вьюжной зимой…
Уже подмораживало по утрам, пожухлую траву у подножия сосен и выступавшие корявые корни выбеливал иней, лужи затягивал тоже неестественно белый ледок, проломанный местами когтистой звериной лапой, и зачерствевшая грязь на дорогах посверкивала слюдяными оконцами. Воздух, некогда чистый и прозрачный, теперь затуманивался, наливался свинцовой мутью, и сыпал сухой, крупитчатый снежок, шурша искоробив шимися листьями так, словно полчище мышей пробиралось под ними. Или ветер, сгибая вершины сосен, приносил влагу, и кружились хлопья мокрого снега, ложившегося на землю и сразу таявшего. А уж когда к полудню теплело, за облаками по бледному свечению угадывалось солнце, то снег превращался в дождь, который то заунывно моросил, стлался мелкими, почти неразличимыми иглами, то срывался крупными, увесистыми каплями.
И самая крупная, слившаяся из нескольких капель, алмазно сверкала, повиснув в паутине.
Прибыл Прохор в монастырь не один, а с товарищами, двумя Василиями: вместе когда-то в Киев ходили на богомолье. Из Киева в Саров тогда сразу отправились лишь два Ивана – Дружинин и Бесходарный, а остальных нужда заставила вернуться. Прохора ждала незавершенная стройка, еще не до конца возведенный, не увенчанный куполом храм, а Алексея Миленина у ближних пещер разыскал земляк, отвел в сторонку и тихонько сообщил, что тяжело заболел отец, а вслед за ним слегла и мать, оба при смерти, уж и не чают его увидеть. Как тут не поспешить домой! Двух Василиев тоже звали: родители, отпустившие их поначалу, спохватились, душа заныла, затосковали, особенно матери. Те стали слезно упрашивать их отсрочить монастырские послушания, побыть еще немного с ними, тем более что и предлог подвернулся: корова Милка пропала, градом побило стекла веранды и крышу повредило ветром – словом, какой уж тут монастырь. Они же, Василии, и сами – хотя и не показывали, храбрились, – скучали о доме и не чувствовали себя полностью готовыми для иноческого подвига. Взявшись за плуг озирались назад, как говорится. Поэтому и не знали, печалиться им или радоваться тому, как все складывалось. Может, оно и к лучшему. Матерей поддержать, утешить – тоже, считай, святое дело.
На прощание Прохор и два Василия обнялись с двумя Иванами и из Киева двинулись в разные стороны.
Но уж когда достроили храм и матушка благословила Прохора медным крестом на дальнюю дорогу, то и два Василия приняли твердое решение: пора. И уж больше не откладывали. Ранним осенним утром, едва забрезжило, перекрестились, поклонились родному дому, надели дорожные котомки, и путь их был так же долог, как когда-то до Киева – с тою лишь разницей, что теперь они шли на север. Шли упорно, неутомимо с котомками за плечами и посохами в руках. Дорога на Темников вела по дивному, сказочному, невиданной красы сосновому бору – краснолесью: огромные, могучие, в два обхвата деревья со стройными вершинами, купающимися в голубом небе. На солнце золотится кора сосен и смола вспыхивает, как драгоценный янтарь. Пахнет лежалой хвоей, и все овеяно дремотным молчанием, нарушаемым лишь стуком дятла, протяжным стоном выпи и уханьем желтоглазой совы.
Там, где от большой Темниковской дороги сворачивает проселок на Сэров, – врыто в землю большое, деревянное, почерневшее, потрескавшееся от дождя Распятие: встань и помолись, прощаясь с прошлой жизнью и встречая новую, иную, иноческую, преображенную постами и ночными бдениями. Вот и Прохор с друзьями, конечно, помолились, опустившись на колени, затем отмахали еще три версты по проселку и вдруг замерли, пораженные дивным видением – аж дыхание перехватило и от восхищения слезы выступили: в столпах косо падающего из-за облаков света словно с неба сошедшая лебединой белизны обитель открылась их взорам – соборы, золоченые купола, кресты, узкие, зарешеченные оконца и черные фигурки монахов.
Вот он Саров, о котором Прохор с друзьями уже были наслышаны, многое знали, поскольку об обители им рассказывали паломники там бывавшие, монахи других монастырей, странники-богомольцы, ученые люди из числа завсегдатаев книжных лавок, и они жадно ловили каждое слово!
Поистине летопись монастыря – нескончаемо длинный свиток. И есть в этом свитке пробелы, а есть и места темные, неразборчивые, до конца не разгаданные, от которых оторопь берет и веет сладкой жутью…
Когда-то татары, хлынувшие дикой ордой на Русь, возвели здесь свое городище – Сараклыч, укрепили, выкопали рвы, возвели защитные валы и надеялись обосноваться навеки, но и ста лет не продержались: сгинул город. Попалили его огненные стрелы осаждавших, поглотила земля, все быльем поросло, и память о нем истерлась. Снова вокруг лишь непроходимая глушь, безлюдье, вековые сосны. Кого-то отпугивает, а кого-то и манит. Через триста-четыреста лет после татар стали селиться здесь иноки, искавшие тишины, уединения и покоя: один, другой, третий. Лет пять прожил у слияния узкой Саровки и Сатиса пензенский монах Феодосий, любитель безмолвия: срубил себе келью из сосновых бревен, завел кое-какую утварь, стал молиться, петь псалмы и класть поклоны, но то ли не выдержал козней бесовских, то ли тоска напала (а уж она бывает страшней татарина) – покинул эти места. Вслед за ним выдвинулся сюда Герасим, инок Арзамасского Спасского монастыря, и удвоил срок монашеского затвора своего предшественника, десять лет провел в Саровской глуши. И другие монахи здесь бывали, пытались подвизаться, но слишком суровым казалось им саровское краснолесье, жуть навевали морозы, метели, желтые волчьи глаза…
Лишь остатки келий и протоптанные в лесу тропинки напоминали об одиноких отшельниках. Но будущая обитель, еще незримая, не явленная, не воплощенная в камне и дереве словно бы давала о себе знать: по ночам слышался над лесом дивный благовест, вспыхивали сполохи нездешнего света и разносилось несказанное благоухание – как будто ладаном кадили. Обитель звала своего основателя, и он услышал этот зов и откликнулся на него. Основателем обители стал монах Арзамасского Введенского монастыря Исаакий, в схиме нареченный Иоанном. Он взялся за дело основательно и прежде всего отправился к владельцу земли воеводе Даниилу Кугушеву, поведал ему о своем богоугодном замысле и попросил пожертвовать землицы под монастырь. Про себя опасался, побаивался, как бы не заупрямился и не заартачился воевода, но тот богоугодным замыслом, похоже, проникся, землю согласился отдать и велел оформить крепостной акт на участок под монастырь.

Свято-Успенская Саровская пустынь. Начало XX века
Но требовалось еще разрешение властей духовных, и неутомимый Иоанн наведался в Патриарший приказ. Там его тоже благосклонно выслушали, начинание одобрили и пожаловали две грамоты – «отказную» и «благословенную». Иными словами, разрешили – радуйся, Иоанн. Теперь ищи благотворителей и вымаливай деньги на постройку храма, но и благотворители нашлись, словно сам Господь их привел, и закипела работа. Поначалу Иоанн велел рыть пещеры – наподобие киевских, чтобы там, под землей, спасаться. Но затем стали возводить и наземный храм, который был освещен в честь иконы Божьей Матери Живоносный источник.
Так и возник, отстроился Саровский монастырь подвижническими трудами своего основателя, праведного, всеми почитаемого Иоанна, но не суждено было старцу в тишине и покое окончить свои дни. Настигла его беда: прислали за ним команду солдат с ружьями и арестовали, в монастыре же устроили тщательный обыск. Все обшарили, перетряхнули, перевернули вверх дном, во все щели, во все уголки заглянули, крысиные норы и те фонарем высветили. Что искали, какую крамолу – Прохору с друзьями разузнать не удалось. Все говорили разное и сходились лишь в том, что дело сложное и запутанное, а то и вовсе страшное – мороз по коже, словно сам нечистый наследил своим копытом.
– Да ладно пугать-то – нечистый. Книжонки какие-то запрещенные…
– А я слыхал, что письмо…
– Какое письмо-то?
– Ну, хранилось там в тайнике…
– И что в нем было?
– А то и было, что душу дьяволу продал.
– Кто?
– Да монах один тамошний…
– Как звать-то?
– То ли Даниил, то ли Григорий.
– Георгий. И не монах он был вовсе, а так, по монастырям шатался… послушник.
– Что ж он душу-то стал продавать?
– Да дрянная была душонка, порченая, бросовая, а тут покупатель нашелся. Вот он и не устоял, купчую-то и подмахнул. И не чернилами, а кровушкой своей…
– Вона! На чего решился, отчаянная голова. Погибели своей искал.
– И не только своей: на монастырь-то и наслал погибель.
Так говорили у костра во время последней лесной ночевки монашек с четками и два солдата, обнявшие ружья. Голоса звучали глухо, таинственно, и лица тех, кто наклонялись к огню, чтобы погреть руки, освещались отблесками пламени, а затем скрывались во тьме. Не было ни звезд, ни луны. Низкое, иссиня-черное, в багровых отсветах, небо едва светилось по краям, словно тоже осененное нездешней загадкой.








