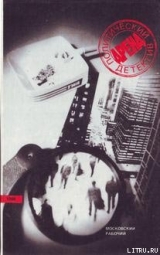
Текст книги "Ситуация на Балканах"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Над головой раздался короткий сдавленный вопль. Что-то тяжелое и мягкое, как мешок с песком, стукнув по передку кареты, шлепнулось оземь. Хотек вжал шею в плечи, зажмурился.
Кричал кучер.
От страшного удара – будто саблей рубанули поперек груди! – его снесло с козел, шмякнуло о передок и выбросило на мостовую; хорошо, не под колеса. Лакей, стоявший на запятках, успел спрыгнуть сам, упал, поволочился по щербатой брусчатке, в кровь обдирая локти и колени. Лошади шарахнулись, левые колеса въехали на тротуар, зацепили тумбу; затрещала ось, карета накренилась вправо. Хотека с силой швырнуло вперед и вбок. Он плечом вышиб дверцу, вывалился на землю, но как раз в этот момент лошади встали, и все обошлось более или менее благополучно.
Хотек полежал немного на мокрой мостовой, приходя в себя. Никто не спешил ему на помощь: кучер исчез, лакея тоже не было видно. Нужно было управляться самому. Он подтянул колени к животу, сел. Пошевелил руками, потряс головой: все цело. Рядом, в первом этаже, засветилось окно.
– Помогите! – крикнул Хотек.
И горло перехватило ужасом: в проясневшем небе над ним стояла белая луна, по нижнему краю жутко пересеченная идеально ровной, горизонтально черной линией, – через улицу, между домами, натянута была веревка; она и ударила кучера в грудь.
Справа, из подворотни, чавкая сапогами по раскисшему снегу, бежал человек. Ближе и ближе.
* * *
Никольский вошел в подъезд, поднялся по лестнице и позвонил в квартиру на третьем этаже. Здесь проживал Павел Авраамович Кунгурцев, корреспондент газеты «Голос»; об этом певцовские филеры узнали, разбудив дворника, после чего сочли свою миссию исполненной и разошлись по домам.
Томимый дурными предчувствиями, Никольский пришел сюда просить совета: Кунгурцев женат был гражданским браком на его двоюродной сестре Маше. Внимательно выслушав про казус с головой из анатомички, он сказал:
– Свинья ты! Какой из тебя медик! Если мертвую плоть не уважать, живую не вылечишь.
– Пьяный был, – оправдывался Никольский.
– И где теперь эта голова?
– А черт ее знает. Жандармы прибрали.
Ясноглазая худенькая Маша неутомимо и обреченно разливала чай и жалела брата, что его выгонят из университета. Она советовала найти голову и похоронить по-человечески, на кладбище, можно и тело выкупить из анатомического театра: для этой цели она готова пожертвовать шестьдесят рублей, отложенных на новую шубу.
– Знаешь, Маша, – недовольно покривился Кунгурцев, – я закоснел в материализме и считаю, что шуба тебе нужнее, чем ему – саван.
Никольский покаянно сопел.
– Балбес! – Маша хлопнула брата по лбу горячей чайной ложечкой и всхлипнула. – Не нужна мне эта шуба!
– Как угодно, – пожал плечами Кунгурцев.
Рассуждая вслух, он пытался найти хоть какое-то разумное объяснение тому странному факту, что жандармский офицер, причем офицер в немалом чине, ротмистр, взялся расследовать покражу неведомо чьей мертвой головы из банки с формалином. Что за чертовщина? Ведь и голова-то, наверное, какого-нибудь бродяги без роду и племени, давным-давно спьяну замерзшего на улице или угодившего под колеса.
– Тем более надо похоронить по-человечески, – сердито сказала Маша.
– Погоди! – осененный внезапной догадкой, Кунгурцев отнял у Никольского стакан с чаем. – Ведь тебя допрашивали на квартире у этого болгарина, твоего приятеля. Так-так! А его сегодня днем привозили в Миллионную. Под стражей привозили, я сам видел… Значит, Мария, твой братец подозревается в убийстве австрийского атташе.
– Господи! – ужаснулась та. – Час от часу не легче.
– Для чего же спрашивали про голову? – засомневался Никольский.
– Голову украл? На улице бросил? Следовательно, и убить способен. Логика есть, не спорю. – Объяснение было найдено, и Кунгурцев успокоился – дальнейшая судьба непутевого родственничка его не занимала; он начал рассказывать, как днем, в Миллионной, пробовал взять интервью у начальника сыскной полиции Путилина: дал слуге рубль и беспрепятственно проник в гостиную, где сидел этот сыщик совершенно один и с глубокомысленным видом крутил косички из своих приказчицких бакенбард.
– Что же теперь с ним будет? – спросила Маша, обнимая брата за плечи.
Кунгурцев пренебрежительно махнул рукой: чепуха, мол, разберутся – и на всякий случай задвинул подальше за книги шкатулку с отложенными шестьюдесятью рублями.
– До чего мы наивны! – говорил он. – В этом сыщике нам хочется видеть не иначе, как русского Лекока. Нам Лекока подавай! А у Лекока-то физиономия топором рублена, и тупым топором. Чего он дался нашему брату? Ишь нашли загадочную фигуру. Не понимаю: что о нем писать? Вот недавно совершил Геркулесов подвиг, изловил какого-то отставного солдата, который подделывал жетоны простонародных бань и получал по ним чужие рубахи. Разве это сюжет? Ну, видать, ходил по баням, терся, голый, между мужиками. Ну, изловил. А мы уж и кричим: Лекок! Лекок! В Европе бы померли со смеху. Тут, мне кажется, дело в чем…
Маша принесла свою старую шубку – показать, что она еще вполне хороша, и Кунгурцев, не переставая говорить, поскреб ногтем протертые до кожи обшлага, сунул палец в одну дыру, в другую.
– Дело вот в чем, – продолжал он. – Русские грабители и убийцы – это люди совершенно заурядные, и ловить их может лишь такой же человек. Подобное излечивается подобным, клин клином вышибают. Вот где собака зарыта! Путилин – воплощение посредственности, и в этом секрет его успехов. Да и успехи, надо сказать, весьма относительные. Однажды жандармы приказали ему выследить бежавшего из тюрьмы студента-радикала. И что вы думаете? Не вышло. Да-с! Потому что беглец оказался человек с фантазией, в университете кончил… В другой раз поручили разведать пути, по которым Герцен переправляет в Петербург лондонские издания. И опять ничего не нашел. Почему? Думаешь, Машенька, у него есть какие-то политические убеждения, принципы? Ни черта у него нет и быть не может при этакой-то роже. Просто для этих дел нужно воображение, развитой ум. Образованность, на худой конец…
– Если будешь в газету писать про убийство, – перебила Маша, – Петеньку помяни, что он хорошей нравственности и товарищи его уважают.
– Как же, – усмехнулся Кунгурцев, – писать! Уже в редакцию подполковник Зейдлиц приезжал, с Фонтанки. Предупредил, чтоб ни слова. Порядок, дескать, пострадает. Тьфу! Народ на всех углах языки чешет, а писать нельзя. Ни-ни! Порядок! Удостоился я как-то чести побывать у графа Шувалова в кабинете. Не поверишь, Машенька! У него в кабинете трое часов, и все показывают разное время…
Представ перед Путилиным, Кунгурцев с ходу оглушил его вопросами: не замешаны ли в убийстве фон Аренсберга революционеры, карбонарии, панслависты, женевские эмигранты, агенты польского Жонда? Или, может быть, недавние маневры, строительство новых броненосцев, перевооружение армии? Предполагает ли господин Путилин возможность политической провокации со стороны Стамбула? А самоубийство? Полностью ли исключен такой вариант?
– Другие корреспонденты смаковали бы подробности преступления, – говорил Кунгурцев. – Хлебом не корми, дай расписать окровавленные простыни. Но меня занимают причины событий… И знаете, что он мне ответил? Спросил, сколько денег я дал лакею у входа. Я сказал, что десять рублей.
– Десять рублей! – ахнула Маша. – А сперва говорил – рубль.
– Да рубль, рубль! – успокоил ее Кунгурцез. – Нарочно так сказал. Глядите, мол, на какие расходы иду, чтобы с вами побеседовать. А он мне: «Не врите. Рубль вы ему дали, не больше, а могли бы и двугривенным обойтись…» И весь разговор! Вот его какие проблемы интересуют. Лекок!
– Что это? – испуганно спросила Маша. – Будто
крикнули на улице.
– Это я пальцем по стеклу, – сказал Никольский. – Одно слово пишу.
– Какое еще слово?
– Тайное. Боев научил. Гайдуки его на деревьях вырезают.
Кунгурцев рассердился:
– Ты у нас гайдук! Связался с этим болгарином… Из университета попрут, куда денешься? Я тебе денег не дам, не рассчитывай.
– Слепых буду лечить, – сказал Никольский. – Мухоморами.
– Слышите? Снова крикнули. – Маша подошла к окну.
А Никольский уже ринулся в прихожую, сорвал с вешалки шинель и застучал сапогами по лестнице.
– Петя! – кричала вдогонку сестра; голос ее, отражаясь от стен, гремел в пустом подъезде, как в колодце, одуревшие коты с мяуканьем прыскали из углов и скачками уносились вверх, на чердак. – Ты куда-а? Сей час же вернись!
Он не отвечал. Да, он надругался над мертвой головой. Зато теперь спасет живую.
Толкнул дверь подъезда и справа, шагах в двадцати, увидел завалившуюся на тротуар карету с тускло-золотым австрийским орлом.
* * *
Капитан Фок, жердеобразный, с рыбьим лицом, ввел в гостиную Левицкого, перетрусившего до последней степени: на прошлой неделе он играл краплеными картами с принцем Ольденбургским и герцогом Мекленбург-Стрелецким, которые изредка садились с ним за стол из уважения к его родословной, и, видимо, дело вскрылось. Хуже всего было то, что он не успел выбросить из кармана свои колоды, их могли обнаружить при обыске.
Подполковник Зейдлиц, распространяя вокруг себя сладкий дух шампанского, начал объяснять Шувалову новую версию: претенденту на польский престол выгодна война между Россией и Австро-Венгрией… Иван Дмитриевич слушал, не в силах вымолвить ни слова. Бред затягивал, как водоворот. Вдруг вынырнула, поплавком закачалась на поверхности его собственная фамилия: Путилин. Потом опять: Путилин, Путилин. Капитан Фок докладывал, что днем Левицкий приходил в этот дом, тайно встречался с начальником сыскной полиции. Зачем? Что у них за дела? Левицкий, не слушая, встревал, рвался сообщить что-то про шулеров, которых он якобы всегда самолично бил канделябрами – да, канделябрами их, по мордасам, по мордасам. Зейдлиц зловеще ухмылялся. Вот-вот, казалось, из этого бреда должна подняться и махровым цветом расцвести блестящая догадка о том, будто он, Иван Дмитриевич, в сговоре с Левицким задушил фон Аренсберга, чтобы спровоцировать войну с Австро-Венгрией, возродить Речь Посполиту и самому стать шефом тайной полиции при польском короле. А что? Вполне в певцовском стиле.
– Так ведь вот же он, Путилин! – удивился Зейдлиц, словно только сейчас заметил Ивана Дмитриевича. – Вот мы его и спросим…
У Шувалова задергалось левое веко.
Сказать, что Левицкий – его агент, Иван Дмитриевич не смел: дойдет до титулованных особ из Яхт-клуба, обоих со свету сживут.
– Вот мы сейчас у него спросим, – ласково говорил Зейдлиц, – о чем это они тет-а-тет совещались, голубчики? А?
– Да вы что? – заревел вдруг Шувалов, молотя по столу кулаком. – Вы пьяны, подполковник? Или свихнулись? Какие еще претенденты? Что вы несете? Вон отсюда!
– Ваше сиятельство, – начал оправдываться Зейдлиц, – вы же сами, ваше сиятельство, говорили про польских заговорщиков…
– Вон! – неистовствовал Шувалов, зажимая ладонью непослушное веко. – Убирайтесь!
Фока и Зейдлица как ветром вымело из гостиной, лишь ножны брякнули о косяк. Вслед за ними стремительно юркнул в дверь Левицкий, за Левицким – Иван Дмитриевич. Воспользовался моментом, чтобы тоже дать деру. Обалдевший Рукавишников его не задержал. И слава богу! Толкаясь в парадном, все четверо вывалились на крыльцо, где казаки конвоя по-прежнему покуривали трубочки, и здесь наконец Зейдлиц и Фок опомнились, степенно направились к своей коляске. Левицкий стреканул в одну сторону, Иван Дмитриевич – в другую, свернул за угол, опасаясь погони: Шувалов с Певцовым, конечно, не простят ему порванного письма. С разгону хотел было перелезть через ограду и скрыться дворами, уже взялся рукой за холодное чугунное копьецо, когда вспомнил про Левицкого. Где он? Ведь так и не успели поговорить.
Никто вроде не преследовал. Тишина. Иван Дмитриевич вернулся к углу дома и, укрывшись за водосточной трубой, осторожно оглядел улицу. Она была пуста. Претендент на польский престол исчез, растворился во мраке. Даже шагов не слыхать. Черный клеенчатый верх шуваловской кареты, мокрый от растаявшего снега, блестел под луной, как рояль. Зейдлиц и капитан Фок тоже исчезли, словно и не бывали, словно соткались из воздуха, из гнилого питерского тумана, – призраки, нежить, которой, как в детстве учила матушка, на все вопросы нужно твердить одно: «Приходи вчера!»
Скорее прочь от этого дома! А то самому можно свихнуться, на них глядючи.
Поежившись, Иван Дмитриевич поставил торчком ворот сюртука. Пора хватать настоящего убийцу. Пускай он никому не нужен, этот убийца, – ни Шувалову с Певцовым, ни Хотеку, ни Стрекаловой, ловить-то все равно надо. Иначе жизнь теряла всякий смысл. Человека же убили! Какого ни на есть, а убили. Подло задушили в постели. И что бы ни приплетали сюда жандармы и Хотек, какие бы планы ни строили, но убийство всегда имеет лишь единственное значение – смерть человека. Значит, прежде всего надо схватить убийцу. Важнее ничего нет. Остальное приложится.
Слышно было, как бушует в гостиной Шувалов. Казаки пересмеивались, есаул раздраженно щипал усы: ему надоело слоняться без дела под окнами, но никаких распоряжений не поступало.
Иван Дмитриевич немного послушал и пошел, однако ушел недалеко. Навстречу вылетел запыхавшийся Константинов, а буквально в следующую минуту на них вынесло и Сыча – уже в сапогах, пальто и фуражке: обидевшись на любимого начальника, он нешибко торопился, забежал домой одеться и хлебнуть кипяточку.
Константинов, отдышавшись, рассказал о своих приключениях, перечислил приметы гонителя: высокий, здоровый, борода мочального цвета.
Сыч сообщил, что свечи у дьячка Савосина покупал некто прямо противоположного обличья: маленький, тощий и бритый.
Внимательно слушая обоих, Иван Дмитриевич посматривал на окна, где сквозил за шторами силуэт Певцова. Как он давеча в спину-то поддал, сволочь! И видел, главное, что Иван – Дмитриевич упал на карачки. В ладонях и коленях оживало воспоминание о мокрой мостовой. И за что? Нет, такое не прощается.
– А это вам, Иван Дмитриевич, супруга прислала, – сказал Константинов, вынимая из-за пазухи мешочек с бутербродами. Затем достал два наполеондора: один новенький, блестящий, другой чуть потусклее. Годы чеканки на них выбиты были разные, что, впрочем, ничего не значило.
Иван Дмитриевич крутил монеты в пальцах, сомневался. И все-таки вернул их Константинову:
– Ступай в дом, покажи графу Шувалову. Все расскажи ладом. А что меня встретил, не говори.
Тот ушел.
Иван Дмитриевич развязал мешочек, поделил бутерброды почти поровну: два взял себе, один отдал Сычу. Отвел его за угол дома и с нетерпением стал ждать дальнейших событий, уговаривая сам себя, что ждать недолго.
Ветер стих, но теперь слышнее было, как шумит вдали разгулявшаяся Нева.
Получив бутерброд с салом, Сыч забыл все обиды. Он аж задохнулся от благодарности, но тут же и сник: нет, не бывать ему доверенным агентом. Ведь не его отправили с докладом к Шувалову, а Константинова. Выходит, константиновская новость поважнее будет. Зато хлеб-то с салом – вот он! А уж Иван Дмитриевич зря не даст, не-ет. Сыч бережно, как величайшую драгоценность, держал бутерброд на ладони и не решался поднести ко рту.
– Ешь, – сказал Иван Дмитриевич.
Сыч откусил и восхитился:
– Мед, а не сало! Прямо на языке тает.
– Не слишком соленое?
– Кто вам, Иван Дмитрич, такое скажет, вы ему не верьте.
И замолчали. Потом Сыч спросил:
– А чего мы здесь стоим, Иван Дмитрич? Ждем кого? – Не дождавшись ответа, завел сторонний разговор: – Этот, что на монетке, он тому Наполеону кем же доводится?
– На киселе седьмая вода.
Иван Дмитриевич вынул часы, щелкнул крышкой. Ого, уже четверть пятого! Сутки назад в это время князь фон Аренсберг открыл дверь парадного, запер ее изнутри, положил ключ на столик в коридоре, прошел в спальню, где камердинер начал стягивать с него сапоги, а те двое, сидящие на подоконнике, за шторой, затаили дыхание. Иван Дмитриевич попробовал представить, будто сам сидит на том подоконнике; иголочками покалывает затекшие ноги. Представил это, и получилось – сидит, ждет. Шепчет напарнику: «А вдруг не скажет, где ключ?» Тот отвечает одними губами: «Скажет…» И не слышно, и губ в темноте не видать, а понятно. В спальне горит лампа, свет проникает в гостиную, косой кровавый блик стоит на стене, отброшенный туда медным боком княжеского сундука. Ни ножом, ни гвоздем отомкнуть его не удалось. Пытались кочергой подковырнуть крышку, тоже не вышло…
Утром Иван Дмитриевич осмотрел подоконник, а сейчас вновь мысленно провел по нему ладонью. Крошек нет, значит, хлеба не ели. В таком случае зачем взяли с собой чухонское масло? Странная закуска.
Казаки, озябнув, ушли в дом. Ни живой души вокруг, и эхо еще по-ночному гулкое, сильное. Переступил с ноги на ногу, а кажется, что кто-то ходит около, хоронясь за домами.
Шестнадцатилетним парнишкой, впервые очутившись в Петербурге, Иван Дмитриевич поражен был тутошним эхом. В его родном городке шагу и голосу не во что удариться, не от чего отскочить: все мягкое, деревянное, соломенное. А здесь кругом камень, стены до неба. Что отдается? Откуда? Не поймешь.
– А ведь мы чего-то ждем, Иван Дмитрич! – прерывисто дыша, заговорил Сыч. – Ведь не зря мы тут прячемся. Ведь вместе же мы тут в засаде стоим, и я это по гроб жизни не забуду, что вместе. Что сальцем угостили… Вы доверьтесь мне, Иван Дмитрии! Скажите, чего ждем?
* * *
Увидев натянутую между домами веревку, Хотек решил встать, чтобы встретить смерть, как подобает послу великой державы. Только вот ноги почему-то не слушались.
Бегущий приблизился. Снизу он казался огромным. Во что одет, Хотек рассмотреть не успел – взгляд застлало слезами. Увидел лишь голову, очерченную мерцающим золотым нимбом, какие рисуют святым на иконах, и понял: самое страшное позади, он уже мертв, уже очами своей души видит скособоченную карету, лошадей, луну. Но так грозны были глаза этого святого – две темные ямины в центре сияющего круга, так мерно и заунывно свистел возле него воздух, словно струился с горних высот, обвевая безжалостный лик небесного посланца, что Хотек догадался: перед ним ангел мщения.
Он вскрикнул и потерял сознание.
Ангел сорвал у него с груди ордена, стянул с пальцев перстни – те, что легко слезали, затем быстро сунул руку под мундир, вытащил бумажник с тисненным на коже двуглавым габсбургским орлом и побежал прочь. Не утерпев, на бегу раскрыл бумажник. В нем не было ничего, кроме небольшого ключика из светлой стали: кольцо сделано в виде змеи, кусающей себя за хвост.
* * *
Отец Ивана Дмитриевича служил копиистом в уездном суде и утверждал, будто у каждого душегуба непременно есть «каинова печать» – особое пятно размером с серебряный рубль, выступающее на теле убийцы в том месте, куда он поразил свою жертву. Хорошо бы так! Отцу легко было это утверждать: он просидел в суде всю жизнь, но и в глаза не видывал настоящих убийц. Тогда в их городишке никто никого не убивал. Даже в пьяных драках. И когда стенка на стенку сшибались городские концы, хотя пластались жестоко, ломали руки и ноги, все почему-то оставались живы. Теперь и там пошло по-другому, а здесь, в Питере, и подавно. Иногда Ивану Дмитриевичу казалось, что прав был отец: раньше, в прежние времена, выступала «каинова печать», а ныне перестала. Стерлась у господа бога небесная печатка, которой ставил он свое клеймо, – слишком часто приходилось пускать ее в дело.
Иван Дмитриевич стоял у водосточной трубы, ждал, перекатывал в кармане принесенный из Знаменского собора наполеондор – теплый и уже какой-то родной на ощупь.
– Ни сабли нет, ни револьвера, – волновался Сыч. – Ничего нет…
– Тихо! – Иван Дмитриевич задвинул его за угол, дал по затылку, чтобы не высовывался.
Хлопнула дверь парадного. На крыльцо вышел Шувалов, за ним – Певцов.
– Итальянцы, ваше сиятельство! – громко говорил он. – Конечно же итальянцы!
За его спиной есаул что-то объяснял шуваловскому адъютанту, Константинов от возбуждения пританцовывал на месте: ужо покажут его обидчику, где раки зимуют!
– Я так и думал, что итальянцы, – не унимался Певцов, помогая Шувалову надеть шинель, – но у меня не было улик. Они же ненавидят австрийцев. Сколько лет под ними сидели. Вот рукав, ваше сиятельство… А князь фон Аренсберг воевал в Италии. По моим сведениям, он показал себя там не вполне рыцарем. Деревни жег.
– Неужели?
– Да, жег. И пленных вешал. Вот и отомстили ему.
– Их, наверное, сам Гарибальди прислал, – уважительно сказал адъютант.
– Нет, – с угрюмой уверенностью возразил есаул. – Это папа римский.
– Вместе с конвоем – за нами! – приказал ему Шувалов. Застегнув шинель, картинно взметнул руку с перчаткой: – В гавань, господа!
Есаул повторил его жест:
– По коням!
Казаки, красуясь перед генералом, лихо взлетели в седла.
Певцов распахнул дверцу кареты, подсадил Шувалова и залез сам. Следом втиснулся адъютант с Кораном под мышкой. Константинов забрался на козлы, чтобы указывать кучеру дорогу, Рукавишников прыгнул на запятки, и через минуту вся кавалькада, обдав Ивана Дмитриевича талой жижей из-под колес и копыт, с грохотом скрылась в конце улицы. Мигнул и пропал синий фонарь на передке кареты, заслоненный спинами конвоя.
Иван Дмитриевич крепче сжал в кармане Сычев наполеондор. Такие же два, принесенные Константиновым, вели Певцова и Шувалова вперед, в гавань. Французский император, покорный воле Ивана Дмитриевича, прочертил маршрут своей козлиной бородкой.
Скачите, скачите! «Агнцы одесную, а козлища ошую…»
Он велел Сычу ждать на улице, а сам поднялся на крыльцо, позвонил, спросил у открывшего дверь камердинера:
– Кошка где?
– Чего-о? – с недосыпу тот уже мало что соображал;
– Кошка…
Она отыскалась в кухне, сидела там на столе, нюхала обглоданные кости. Своего кота Мурзика, чтобы уважал дисциплину, Иван Дмитриевич лупил по усам, если тот вспрыгивал на стол, но эту кошку воспитывать не собирался. Уцепил ее за шкирку и двинулся по коридору. Возле гостиной поднес пленницу к дверной петле, прямо ткнул ее туда мордой. Кошка висела безучастно и смирно, как шкура на крюке. Пришлось переменить тактику. Сперва почесать за ухом, погладить, успокаивая, и снова носом туда же. Теперь кошка стала принюхиваться с интересом, задвигала усами. Ага, лизнула!
Эту петлю Иван Дмитриевич еще днем пробовал на вкус, но ничего не распробовал. Язык его, обожженный горячим чаем, водкой, табачным дымом, давно утратил чувствительность. Вот женщины, они тоньше чувствуют вкус и запах, потому что не пьют, не курят. Но Стрекалову же не заставишь петли облизывать! Впрочем, кошка даже вернее. Хотя и без того ясно: один из преступников изучил княжескую квартиру как свои пять пальцев – и про сонетку знал, и про то, что двери скрипят. И все-таки есть кое-что новенькое. Певцов с Шуваловым считают, будто убийцы заранее составили план, а кошка доказала обратное: ни черта они не готовили, решились вдруг, иначе, по крайней мере, припасли бы постное масло.
Иван Дмитриевич отпустил кошку восвояси, а когда вернулся на улицу, слева на полном скаку вымахнула пара лошадей. В пролетке сидел полицейский Сопов, с которым вместе служили еще на Сенном рынке.
– Тпрру! – радостно завопил он. – Иван Дмитрич! Я так и знал, что вы тут!
– Что стряслось?
– Беда, Иван Дмитрич! На Васильевском австрийского посла ограбили…
– Знаю, знаю! – отмахнулся Иван Дмитриевич. – Консулу ихнему голову отрезали, в турецкое посольство свинью пустили… Слыхал!
Сопов размашисто перекрестился:
– Ей-богу! Я сейчас оттуда. На мундире дыры, ордена прямо с мясом повыдирали…
Кто виноват в том, что Шувалов отправил Хотека домой без конвоя? Холодом свело низ живота. Не слушая дальше, Иван Дмитриевич толкнул Сыча к пролетке, заскочил сам и прокричал извозчику в ухо:
– Гони!
У поворота обернулся: окна в гостиной потухли, княжеский дом стоял темный, как все другие.
– Через улицу веревку протянули, – рассказывал Сопов. – Кучера с козел и сбросило, вся морда у него покарябана. Мчались-то по-министерски. Как пушинку его! Ладно, не под колеса. А лакей перетрухал, убег. Я с обходом шел, слышу – кричат. Прибежал: посол-то на земле раскинулся, лежит как мертвый… Вот, около подобрал, – Сопов протянул кожаный бумажник с золотым тиснением: австрийский орел с двумя головами.
– А посол где?
– Там какой-то студентик подоспел. Из медицейских. Занесли в квартиру.
Вдали стучала колотушка ночного сторожа, будто спрашивала: «Кто ты? Кто ты? Кто ты?» Луну заволокло тучами. С крыш капало.
Сыч долдонил свое:
– Эх, сабельки нет!
– У меня есть, – сказал Сопов, – да что толку.
– Кому доложил? – спросил Иван Дмитриевич.
– Никому. Сразу к вам.
В свете фонаря промелькнула заляпанная свежей грязью афишная тумба: совсем недавно здесь проехал Шувалов со своей свитой.
* * *
Один казак скакал впереди кареты, двое – сзади, есаул – сбоку, у дверцы.
Нужно спешить. Константинов сообщил, что сегодня утром «Триумф Венеры» отплывает на родину; об этом ему сказали портовые грузчики.
От тряски чуть не стукаясь головой о потолок, болтаясь между Шуваловым и его адъютантом, Певцов излагал им свои соображения: он пришел к выводу, что убийцам помогал кто-то из бакунинской шайки. С Гарибальди, Мадзини и карбонарскими вентами в Италии Бакунин якшается давно, и к австрийцам у него старый счет – сиживал у них в тюрьме. Не он ли подбил итальянских дружков отомстить фон Аренсбергу? Решил использовать их чувства, чтобы убийством иностранного дипломата вызвать брожение в обществе. Дрожжи у него всегда наготове – разбойный элемент. В Париже-то вон что творится! Коммуна! Почему бы и в России не устроить?
– Странно все же, что итальянцы, – сказал адъютант. – Видал я их под Севастополем. Юнкер еще был. В бою хлипкие. Но голосистые, черти! Ох и пели! Ночью, бывало, подползу к ихним окопам и слушаю. Лежу в поле, корочку грызу. Заместо соли порохом присыплю и грызу. Слушаю, как поют. Надо мной звезды. Запросто пулю схлопотать. А я лежу, дурак. Теперь бы уж не полез…
Певцов, перебивая, рассуждал дальше: не иначе, карбонарии прибегли к помощи питерских уголовных. А то у них вряд ли бы что вышло. В чужом городе, не зная языка… Но и каторжники, разумеется, по-итальянски ни бум-бум. Значит, был посредник. Русский или поляк. Возможно, эмигрант, который нанялся матросом на «Триумф Венеры». Он-то и сидел в трактире «Америка». Известно, итальянцы считают месть делом священным. Убить – да. Пускай из-за угла или ночью, в постели – пожалуйста, сколько угодно. Благородству не помеха. Но ограбить – это уж, простите, из другой оперы. Наполеондоры прикарманили их сообщники. Кстати, найденная на окне косушка свидетельствует в пользу этой версии. Итальянцы предпочли бы вино.
В паузе адъютант попытался продолжить свой рассказ:
– Но итальянцы, они тоже на песню падкие…
– Погодите вы! – Певцов ткнул его локтем в бок. – Просто счастье, ваше сиятельство, что этот малый с подбитым глазом, путилинский шпион, принес монеты нам, а не своему начальнику. Тот бы стал хитрить, выгадывать… Вы уже решили, как с ним поступить?
– С кем? – спросил Шувалов.
– С Путилиным. Между прочим, помните, мы поручили ему арестовать контрабандистов с грузом лондонских изданий? Такой ловкий сыщик и не сумел. Странно…
Кучер изо всех сил натянул вожжи. Заржали лошади, карета остановилась. Есаул стучал нагайкой в стекло:
– Баба какая-то. Чуть не задавили.
Шувалов открыл дверцу, и к нему бросилась женщина в сбившемся на плечи платке, растрепанная, с безумным взглядом:
– Ваше благородие! Пупырь! Тут он где-то…
По лицу ее текли слезы.
– Ты что? – заорал Певцов. – Как смеешь! Не видишь, кто перед тобой?
Шувалов потянул дверцу на себя, но женщина уцепилась обеими руками и не пускала. Есаул грудью коня начал теснить ее прочь от кареты.
– Помогите, господа хорошие! – причитала она. – Не за себя боюсь…
Певцов толкнул ее в грудь, женщина упала, казачьи лошади простучали копытами возле самого лица, обдали грязью.
Вперед, в гавань! «Триумф Венеры» уже разводит пары, пламя гудит в топках.
У шлагбаума перед въездом в порт навстречу выбежал заспанный солдатик инвалидной команды.
– Подымай! – издали страшным голосом закричал ему есаул.
Солдатик трясущимися руками отпустил веревку, освобождая конец шлагбаума; здоровенная чугунная плюха, привязанная к другому концу, оттянула его вниз, со скрипом взметнулась полосатая перекладина, и, когда карета, лишь немного замедлив ход, проскочила под ней, у Константинова, сидевшего на козлах и не успевшего вовремя пригнуть голову, сшибло фуражку.
В порту было безлюдно. Только в стороне горел костер, возле него завтракали грузчики. Здесь пришлось придержать лошадей, Константинов указывал, куда ехать. Наконец он увидел знакомый силуэт итальянского парохода. На берегу уже рассветало. Ноздри уловили слабый запах апельсинов, он увидел поблекший фонарь над бортом и длинную трубу, рассеченную тремя поперечными полосами, как национальный флаг Итальянского королевства, – белой, красной и зеленой. Из трубы валил дым, под палубой, набирая обороты, стучала машина, но трап еще не был убран, и якорей не отдали.
Пупырь точно рассчитал дорогу, по которой поедет из гостей купец 1-й гильдии Красильников, носивший на каждом пальце по два бриллиантовых перстня, и веревку натянул в нужном месте и на нужной высоте. Затем спрятался в подворотне, за мусорными ларями, и стал ждать.
Выйдя из подвала, Глаша вначале шла за ним след в след, почти вплотную, но вскоре испугалась, что заметит, приотстала и в конце концов, когда завьюжило на улице, потеряла его из виду. Тыкнулась в одну сторону, в другую – как сквозь землю провалился. Но догадывалась: где-то он здесь, сатана, поблизости. Собаки по дворам его выдавали. То и дело какая-нибудь шавка начинала скулить жалобно или трусливо – чуяла идущий от Пупыря волчий запах.
Еще и года не минуло, как Глаша гадала: замыкала над Невой амбарный замок, вместе с ключиком клала его под подушку: тогда во сне суженый придет, попросит воды напиться; и приходил Семен Иванович, водовоз, добрый человек и вдовец. Наяву-то поглядывал на нее, орехами угощал. Ан нет же! Угораздило с душегубом спутаться. Как все переворотилось за эти месяцы. Господи, господи! И ведь жалкенький был, оборванный, уши в коростах. А теперь отъел ряху. По трактирам ходит, пишет в тетрадку, как пирог с головизной печь, как – – с сомовьим плеском. И зачем, дура, молчала? Чего боялась? Разве есть на свете что страшнее, чем с ним жить? Сколь душ на ее совести! А уж если он сегодня кого убьет, не отмолишь греха, впору на себя руки накладывать. Одно остается: найти этого, с бакенбардами, и в Неву… Господи!
В отчаянии Глаша металась по улицам, заскакивала во дворы – простоволосая, платок сбился на плечи, башмаки худые, ноги промокли, но холода она не чувствовала. Два раза подбегала к будочникам, звала искать Пупыря, умоляла, плакала, но один испугался, а другой стал заигрывать, хватал за подол, за грудь, грозился в участок забрать как гулящую, коли не уважит его. Глаша еле отбилась. Наконец остановила карету с генералом, чуть не под копыта кинулась, но и генерал про Пупыря слушать не захотел. Сидя на мостовой, она смотрела, как удаляются всадники, как весело играют конские репицы с подвязанными хвостами, и выла, раскачиваясь из стороны в сторону. Страшная догадка леденила душу: может, и впрямь Пупырь государю нужный человек, раз никто его ловить не желает. Может, не зря болтал?







