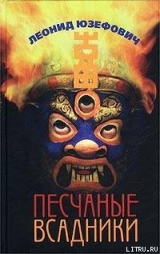
Текст книги "Песчаные всадники"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Леонид Юзефович
Песчаные всадники
* * *

Летом семидесятого года мы проводили выездные тактические занятия неподалеку от бурятского улуса Хара-Шулун. Там я, в ту пору лейтенант, командир взвода, познакомился с пастухом Больжи и услышал от него историю о том, как барон Унгерн фон Штернберг – тот самый – утратил бессмертие. За подлинность этой удивительной истории я отвечаю целиком, но за правдивость ее не поручусь, тем более что Больжи не все видел собственными глазами, многое узнал от старшего брата. Возможно, тот слегка приукрасил события и свою роль в них, да и сам Больжи, будучи человеком не без воображения, кое-что добавил от себя. Не знаю и судить не берусь. Но считаю необходимым сразу оговорить одно обстоятельство: Хара-Шулун – название условное. Настоящее упоминать не стоит по ряду соображений.
Конечно, я мог бы обойтись вовсе без названия. Просто некий улус Н-ского аймака: полсотни домов, школа-восьмилетка, магазин, небольшая откормочная ферма, за ней сопки. На ближних торчат редкие и как бы ощипанные сосны, дальние темнеют сплошной еловой хвоей – это к северу. К югу сопки голые, с вогнутыми каменистыми склонами, переходящими в степь. Таков пейзаж. Еще, пожалуй, нужно отметить субурган. Раньше он стоял в центре улуса, но за пятьдесят лет дома постепенно стеклись к дороге, вытянулись вдоль нее, и теперь субурган оказался на окраине, за огородами. Его некогда ровные и острые грани выщерблены дождем и ветром, побелка осыпалась, пластами отслоилась штукатурка. Объясняю: субурган – буддийское культовое сооружение в виде обелиска. Впрочем, его хорошо представляет себе всякий, кто когда-нибудь держал в руках топографический справочник. В настоящей гладкой степи субурганы можно использовать как ориентиры, и топографы давно предусмотрели для них специальный значок.
Дом Больжи, построенный незадолго до войны, расположен чуть на отшибе, за фермой. Это четырехстенная изба с дощатыми сенями, крытая рубероидом. Снаружи, как водится в Южной Сибири, бревенчатые стены домов улуса выкрашены масляной краской в синий, желтый или зеленый цвета. У Больжи стены синие, пазы между бревнами промазаны глиной. Зады огорода выходят как раз к субургану, вернее к взгорочку, на котором он стоит. Земля здесь кажется красноватой от втоптанной в нее кирпичной щебенки.
И все-таки для того, чтобы эта картина разом вставала перед глазами, не распадалась на фрагменты, ей нужно имя, хотя бы и вымышленное.
Итак, Хара-Шулун. В переводе это значит «Черный Камень» или – применительно к населенному пункту – Чернокаменный. Кстати, я видел там выходы черного базальта в сопках, так что улус вполне мог носить и такое название.
Он находится в стороне от Кяхтинского тракта и железнодорожной линии Улан-Удэ – Наушки – Улан-Батор, но в старину, как говорил Больжи, через Хара-Шулун шла дорога от одного из монастырей – дацанов на Ургу.
Здесь наша мотострелковая рота с приданным ей взводом «пятьдесятчетверок» отрабатывала тактику танкового десанта. Танки и бронетранспортеры месили сухую песчаную почву, лишь поверху слабо скрепленную корнями трав. Казалось, пустыня прикидывается степью. Но гусеничные траки сдирали травы, и земля вновь становилась песком, зыбким и летучим. Танки волочили за собой высокие шлейфы желтой пыли. Бронетранспортеры разворачивались в линию машин, мы выпрыгивали из люков, цепью бежали по полю. Затем в наушниках моей рации раздавались приказы ротного, я дублировал команду голосом и флажками, одновременно танки замедляли ход, и мы, подтягивая друг друга, взбирались им на броню, пристраивались у башен. Нагретая солнцем броня жгла руки, пыль густо облепляла взмокшее лицо, шею, и все время хотелось пить. Занимались с полной выкладкой и с минимальными ограничениями по боекомплекту.
Руководил занятиями заместитель командира батальона капитан Барабаш, сторонник широкого использования пиротехники: ракеты, взрывпакеты и холостые патроны выдавались в избытке.
Поле рассекала грунтовая дорога, вдоль которой тянулась линия электропередачи. Если встать лицом к улусу, то мы занимались от дороги слева, а справа, примерно в километре, вилась узенькая речушка – для нее я не буду придумывать условного названия, оставлю безымянной. Именно туда колхозный пастух Больжи по утрам выгонял телят с фермы. С понурой дисциплинированностью новобранцев они двигались по дороге, а напротив нашего рубежа спешивания сворачивали к реке. В стороне ехал на лошади Больжи. Он не суетился, не щелкал понапрасну кнутом, да у него, помнится, и кнута-то не было, лишь иногда резкими возгласами подгонял самых мешкотных и мечтательных. Достаточно было одного такого крика, одного легкого взмаха руки, даже не взмаха – повелительного мановения, напоминавшего мне жест дирижера за пультом, чтобы все стадо послушно принимало нужное направление. Маленький, сухощавый, Больжи в самую жару не снимал брезентового плаща и круглой черной шляпы с узкими полями. Из-под шляпы виднелся жесткий бобрик совершенно седых волос. Проезжая мимо нашего КНП, он величественным движением прикладывал к виску свою крохотную коричневую ладошку, и Барабаш козырял ему в ответ: это было приветствие двух полководцев перед строем войск.
В то утро стадо мирно брело по дороге, а мы уже сигали из люков, и сержанты Барабаша разбрасывали перед нами взрывпакеты, которые должны были создать обстановку, приближенную к боевой. На неделе ожидались проверяющие из штаба дивизии. Мой бронетранспортер шел в ряду крайним справа, у обочины. Водитель не успел вовремя сбросить газ, машина вырвалась из линии, и один взрывпакет, щелкнув по борту, отскочил вбок, на дорогу. Пока догорал шнур запала, телята продолжали идти, передние спокойно миновали еле курящуюся трубочку, и тут пакет рванул под копытами второй шеренги. Хлопка я не услышал, увидел только синеватый дымок, пробившийся между рыжими и пятнистыми телячьими спинами, но в тот же момент все стадо кинулось врассыпную.
Сама по себе эта хлопушка не могла причинить им ни малейшего вреда. Наступишь интереса ради сапогом, даже подметку не сорвет. Но телята шли тесно, голова к голове, и опасность, исходящая из самой середины стада, казалась непонятной и грозной. С задранными хвостами они в ужасе неслись по полю через наши боевые порядки. Ротный по рации дал отбой. Танки встали. Солдаты, радуясь неожиданному развлечению, молодецки засвистали, отчего бедные телята припустили еще быстрее. Рассыпавшись веером, они со всех ног «жарили» в сторону сопок. Там начинались заросли багульника, дальше уступами поднимались вверх молодые сосенки.
– Давай по машинам, – приказал мне Барабаш. – Отсеки их от леса, а то еще потеряются! Убытки будем платить.
Минут через десять мы тремя машинами отрезали беглецам дорогу в сопки. Телята начали сбиваться в кучу, некоторые уже пощипывали траву, когда подскакал Больжи. Не слезая с лошади, он вынул из седельной сумки здоровенный кус домашней кровяной колбасы, молча протянул мне.
– Спасибо, не надо, – сказал я.
Все так же без единого слова Больжи примерился и ловко зашвырнул колбасу в открытый люк бронетранспортера. Затем погнал телят обратно через поле.
Над люком показалось лицо моего водителя.
– Смотрите, товарищ лейтенант! – Он удивленно улыбался, показывая мне колбасу. – Может, пожуем? Хлеб есть.
У меня потекли слюнки, но я гордо отказался, велев ему ехать к дороге. Больжи мы обогнали на полпути. Он что-то выговаривал телятам сердито и громко, но мимо Барабаша проследовал с непроницаемым лицом, поджав губы.
– Жаловаться будет, – мрачно сказал Барабаш.
Накануне танкисты своротили «пасынок» на придорожном столбе, и ферма осталась без электричества как раз во время вечерней дойки. А теперь еще эти телята. Барабаш опасался, что из колхоза пошлют жалобу в часть.
Обычно, пока телята паслись у реки, Больжи выходил к дороге посмотреть наши маневры. В перерывах я пару раз беседовал с ним о погоде, спрашивал, как будет по-бурятски «здравствуй», и «до свидания», чтобы после щегольнуть этими словами в письмах к маме. Но в этот день Больжи не показывался, и в обед Барабаш попросил меня:
– Сходи ты к нему, поговори по-хорошему. Возьми вон супу горячего и сходи.
Я пошел к стаду, прихватив два котелка – для себя и для Больжи. В обоих над перловой жижей с ломтиками картофеля возвышались, как утесы, большие куски баранины, обволоченные красноватыми разводами жира.
Больжи сидел на берегу, но не лицом к реке, как сел бы любой европеец, а спиной. И все же в глазах его мелькало то выражение, с каким мы смотрим на текучую воду или языки огня, – выражение отрешенного спокойствия, словно степь, над которой дрожали струи раскаленного воздуха, казалась ему наполненной таким же безостановочным мерным движением, одновременно волнующим и убаюкивающим. Я уже был в двух шагах, а он продолжал сидеть неподвижно, подвернув ноги под своим необъятным плащом, задубелым и выгоревшим на солнце. Меня и позднее удивляла его способность вдруг застыть, но не мертво, не уставившись в одну точку остекленелым взглядом, а как бы прислушиваясь к работе души. Ничего старческого в этом не было. Просто в иные минуты тело и душа Больжи возвращались к исходному раздельному существованию: когда действовало тело, замирала душа, и наоборот.
– Пообедаем? – предложил я, ставя на землю котелки и выкладывая из противогазной сумки ложки и хлеб.
Больжи взял котелок, понюхал и кивнул:
– Можно. – И спросил:
– Зачем колбасу не взял?
Я ел суп так: сперва старательно выхлебал всю жижу, потом принялся за говядину. Больжи осуждающе смотрел на меня, наконец не выдержал:
– Неправильно суп ешь!
– Почему? – удивился я.
– Солдат так ест: первое мясо, второе вода. Вдруг бой? Бах-бах! Вперед! А ты самое главное не съел.
Это было разумно. Согласившись, я начал направлять разговор в интересующее Барабаша русло.
– Тебя начальник послал? – перебил Больжи. – Усатый?
– Он, – признался я,
– А зачем? У всех страх есть. У человека, у теленка. Вот такой. – Больжи сдвинул полусогнутые ладошки, затем развел их в стороны. – Надуется, как пузырь, до головы дойдет, думать мешает. А ногам не мешает… У кого от головы далеко, у кого близко. У теленка совсем близко. Тут! – Он похлопал себя по бурому морщинистому затылку, – Чай будем пить?
Я с готовностью вскочил.
– Сейчас сбегаю.
– Сиди, – Больжи достал из-под плаща огромный китайский термос, разрисованный цветами и птицами, налил смешанный с молоком чай прямо в котелок, где оставалась на дне разбухшая перловка. Выпил, причмокивая. Снова плеснул и подал котелок мне. – На! Хороший чай.
Я проглотил его, стараясь не задерживать во рту.
– У тебя страх тоже близко, – продолжал Больжи. – Но пузырь не шибко большой. Всю голову не займет, если надуется. Маленько оставит соображать. А у начальника твоего пузырь большой, зато от головы далеко.
– И что лучше?
– Оба ничего. Плохо, когда большой и близко.
– А у вас? – спросил я.
– У меня совсем нет, – засмеялся Больжи. – Старый стал, лопнул.
Он щурил глаза и едва заметно раскачивался. От тишины и зноя звенело в ушах. Вдали я видел лобовые силуэты танков с повернутыми вправо пушками. Это означало, что обед еще не кончился. После еды меня разморило, хотелось спать.
Вдруг Больжи перестал качаться.
– Колбасу не взял, – произнес он с внезапной решимостью, – я тебе бурхан дам!
Мне и до сих пор непонятно, почему Больжи захотел осчастливить незнакомого лейтенанта. Что увидел во мне этот человек, знающий, какого размера и где расположен пузырь страха в каждом из нас? Чем вызвал я его симпатию? Может быть, просто своей молодостью, военной формой. А иногда мне кажется, что в нем заговорило чувство надвигающейся смерти, внезапно возникающая у старого человека потребность немедленно составить завещание, и я тут ни при чем, дело не во мне, на моем месте мог оказаться любой другой. Не знаю. Но слово было произнесено, а я, еще не понимая значения этого слова, лениво поинтересовался:
– Что за бурхан такой?
– Саган-Убугуна бурхан, – сказал Больжи. – Белый Старик, так мы зовем.
– А зачем он мне?
– В бой пойдешь, на шею повяжи. Пуля не тронет. Пузырь надуваться не будет. Можно и сюда положить. – Больжи ткнул пальцем в нагрудный карман моей гимнастерки.
– Сами-то вы пробовали?
– Правду скажу: давно пробовал.
Он снова начал тихо раскачиваться из стороны в сторону.
– И не жалко вам отдавать?
Я уже не прочь был заполучить эту экзотическую бирюльку, которой можно будет хвастать перед знакомыми девушками, но в то же время испытывал и легкие уколы совести: имею ли я право брать амулет, если не верю в его спасительные свойства?
– Зачем жалко? Я старый, на войну не пойду. Мне не надо. Ты молодой, тебе надо. Раньше у нас как было? Эмчин парня лечит, денег совсем не берет, баранов не берет. Мужчину лечит женатого, одну цену берет. А старик лечиться пришел, давай две цены: за себя теперь и за молодого. Вот как было!
Наконец заработал двигатель головного танка. Следом загрохотали остальные, башни начали медленно поворачиваться в боевое положение. Я взял котелки, встал.
– Значит, завтра принесете? А то мы скоро снимаемся отсюда.
– Зачем завтра? Вечером приходи. Ферму знаешь? Дальше мой дом.
Я обещал прийти.
Как любой документ, рассказ Больжи требует комментария, который соотнес бы его с общим историческим фоном эпохи. В противном случае для человека, не знакомого с ходом гражданской войны в Забайкалье, эта история останется всего лишь заурядным этнографическим анекдотом, одним из тех смешных на первый взгляд, но, в сущности, мрачноватых казусов, что всегда возникают на границах времен и народов, порождаемые взаимным непониманием.
В начале февраля 1921 года ставленник японцев, новый вождь контрреволюции в Забайкалье генерал-лейтенант Унгерн, командир конно-азиатской дивизии, объединивший под своим началом остатки разбитых и вытесненных в Монголию частей атамана Семенова, после двухдневного сражения занял Ургу, выбив из нее китайский гарнизон. Китайцы бежали на север. Вслед за ними, безжалостно вырезая отстающих, скакали чахары Унгерна. Поверх островков тающего снега мела песчаная поземка, неслись, подпрыгивая, призрачные мячи перекати-поля.
Еще в январе Унгерн объявил себя почитателем Будды Шагамуни, защитником желтой веры. Он помог богдо-хану бежать от китайцев, а теперь, вступив в Ургу, вернул ему власть над всей Монголией. В благодарность богдо-хан пожаловал белому генералу титул вана, а вместе с ним четыре высокие привилегии: право иметь желтые поводья на лошади, носить такого же цвета халат и сапоги, ездить в зеленом паланкине и вдевать в шапку трехочковое павлинье перо.
Желтый цвет – это солнце. Зеленый – земля, степь. Три очка в радужных переливах знаменуют собой третью степень земного могущества – власть, имеющую лишний глаз, чтобы читать в душах.
Из нежно-зеленой завязи родился сияющий золотой плод: в монастыре Узун-хурэ, резиденции богдо-хана, Роман Федорович Унгерн фон Штернберг, откинув занавес паланкина, ступил желтым ичигом на расстеленную в пыли кошму с орнаментом эртнихээ, отвращающим всякое зло. Стоял месяц май, но трава в степи уже утратила первую весеннюю свежесть. Невыносимая жара висела над Ургой. Роман Федорович достал платок и вытер мокрый лоб. Грубо обрезанные ногти и бугристые пальцы с мозолями от поводьев неприятно цепляли шелк халата, приходилось все время держать руки на отлете.
Он прошел мимо молитвенных мельниц, сверкавших отполированными боками, и с облегчением шагнул под резные своды храма. Здесь было прохладнее. Возле жертвенного стола, в окружении высших лам сидел на стопке плоских подушек-олбоков сам богдо-хан. Роман Федорович сделал по направлению к нему три четких шага и по-военному резко вдавил подбородок в ямку между ключицами. В ответ богдо-хан указал на другую стопку подушек, напротив себя. Мгновенно сосчитав их, Роман Федорович отрицательно покачал головой и тут же был понят – тощий хуварак-послушник бесшумно вынырнул откуда-то сбоку, положил еще одну подушку. Роман Федорович кивнул, сел. Офицеры эскорта во главе с подполковником Дерябышевым остались у ворот, рядом встал лишь один человек – ученый лама Цырен-Доржи, бывший некогда священником буддийского храма в Петербурге. Он посвящал вана в учение Будды, а в особых случаях исполнял обязанности переводчика: Унгерн понимал по-монгольски и по-бурятски и сам говорил, но грубо, без тонкостей.
Вначале стороны осведомились о здоровье друг друга, затем ван приглашен был на торжественное богослужение, но отказался, сославшись на обилие дел.
Действительно, дел хватало. Войска готовились к походу на север, набивали вьюки вяленым мясом. Японцы торопили с выступлением, хотели, чтобы красные оттянули свои части от Хабаровска, куда собирались нанести удар каппелевские полки.
По знаку богдо-хана один из лам, мощногрудый и толстый, как борец, встал и с поклоном подал маленький шелковый пакетик. Унгерн принял его тоже с поклоном, но обращенным не к этому ламе, а к богдо-хану.
Сандаловый порошок, тлея в курильницах, источал ненавистный сладковатый запах. Хотелось выйти на воздух.
Толстый лама что-то говорил, но Унгерн не понимал его – все слова были вроде знакомые, но вместе ничего не значили, смысл ускользал.
– Переводи, – приказал он Цырен-Доржи.
Тот зашептал:
– Облаченный в желтое, направляющий свой путь желтым, прими в дар бурхан великого Саган-Убугуна, хранящий землю с его священной могилы. Он будет оберегать тебя в твоих делах… – Поправился: – Оберегать вас… С помощью Саган-Убугуна вы достигнете скорой победы, после чего сможете умилостивить высших, уважить низших и с пользой осуществите свои помыслы…
Лама говорил, а богдо-хан ритмично кивал своей сморщенной голой головой, показывая, что эти слова исходят от него и он согласен с ними.
– Саган-Убугун – один из самых загадочных святых в нашем пантеоне, – объяснял Цырен-Доржи, когда после аудиенции вышли во двор. – Обычно изображается в виде седобородого лысого старца в белых одеждах. В руке – посох. Сидит на берегу озера, куда приходят на водопой дикие звери…
– Что же тут загадочного?
Унгерн быстро шел к воротам – поджарый, молодой: недавно тридцать пять стукнуло. Цырен-Доржи, едва поспевая за его широким шагом, на ходу рассказывал про Саган-Убугуна. Знал, что после ван не станет его слушать.
– Видите ли, это отшельник. Архат. Но почему-то легенда упорно связывает его имя с именем Чингисхана. Тот будто бы всегда пускал впереди войска белую кобылицу, на которой незримо ехал Саган-Убугун, ведущий воинов к победе. Вот почему вам подарили бурхан с его изображением.
– Понятно, – сказал Унгерн. – Вроде святого Георгия.
Цырен-Доржи искренне огорчился при таком сопоставлении: оно показывало, что его ученик по-прежнему все меряет на свой православный аршин.
– Ну как оно, высокочтимый ван? – поинтересовался подполковник Дерябышев. – Сильно воняло?
Раньше он никогда не позволил бы себе подобной фамильярности, и ему бы не позволили, но теперь все сходило с рук, как на маскараде, где все равны, где любая дерзость обращена не к лицу, а к маске, хотя каждый знает, что это не так. В конце концов кто перед ним – генерал-лейтенант русской армии или туземный князек? Кто он сам-то – казачий подполковник или держатель двухочкового пера? Дерябышев не желал принимать всерьез эту павлинью субординацию, однако она существовала и потихоньку начинала размывать прежние отношения.
– У тебя во фляжке ничего не найдется? – спросил Роман Федорович.
– Какой разговор! Для многомудрого вана…
Смеялся, похлопывая себя нагайкой по голенищу.
Барон отхлебнул, поморщился.
– Теплая.
– Зато наша. Не рисовая. – Дерябышев протянул фляжку Цырен-Доржи. – Глотнешь?
Тот помотал головой.
– Вот моська! – разозлился Дерябышев. – Чего тогда стоишь тут? – Взял его за лицо и с силой отшвырнул к ограде. – Стой там!
Барон и это стерпел – перед самым походом лучше не ссориться. Он затоптал недокуренную папиросу, поднялся.
– Ведь лезут, обезьяны, – виновато сказал Дерябышев. – Поговорить не дают.
Тронулись. Впереди с бунчуком ехали подъесаул Ергонов и два трубача, по бокам – офицерский эскорт, сзади – полуэскадрон конвоя.
– Чингисхан умер почти семьсот лет назад, – говорил сидевший рядом Цырен-Доржи. – И тогда же Саган-Убугун из воителя стал отшельником. Он не помогал никому из чингизидов. Если Великий Белый Старец станет вашим покровителем, вы, несомненно, завоюете все Забайкалье…
Роман Федорович молчал. Водка уже ударила в голову, и, как всегда в первые светлые минуты опьянения, когда хмель еще не отяжелел, не опустился на дно души, возникло удивление: да где же это я? Да что же это со мной? Прошлая жизнь, в которой были семья, женщины, служба, война, никак не вязалась с теперешней и оттого утрачивала смысл. Он не мог понять, каким образом одна перетекла в другую. Но сейчас об этом думалось легко: старая кожа сброшена, и черт с ней!
– Я имел приватную беседу с богдо-ханом, – рассказывал Цырен-Доржи. – Возможно, после первых же побед вас официально объявят хубилганом Саган-Убугуна, то есть перерожденцем, несущим его душу. Загляните внутрь себя! Готовы ли вы принять такого постояльца?
Пыль пробивалась сквозь занавеси паланкина, хрустела на зубах. Роман Федорович думал о том, как вернется к себе и сразу же спустится в ледник. У него в подвале устроен был настоящий ледник, лед на арбах привезли с Хангая.
– В этом случае, – бубнил Цырен-Доржи, – далай-лама, конечно, поддержит нас…
– Заткнись! – велел ему Унгерн.
Об этом еще рано было мечтать. И все же нет-нет, а развертывалась в воображении – и даже на трезвую голову – некая карта, на которой его будущая империя, окрашенная в желтый цвет, простиралась от вершин Тибета и до тунгусской тайги.
Сначала на север: поднять казачьи станицы, провести мобилизацию в бурятских улусах, выгнать красных из Верхнеудинска, дойти до Читы и договориться с японцами. Затем повернуть коней на юг, разгромить китайцев, занять тибетские монастыри и договориться с англичанами. Среди развалин Каракорума, древней столицы монголов, он воткнет в землю свой бунчук и воздвигнет на этом месте новый город – чистый, с прямыми улицами и уютными кафе, где торгуют мороженым и прохладительными напитками, с искусственным озером. А пока пусть японские советники купаются в своих деревянных ваннах, наполняемых с помощью пожарных насосов из старого русского консульства. Напрасно эти купальщики полагают, будто его северный поход – всего лишь отвлекающий удар. Маленькие наивные островитяне, логика великих пространств сбивает их с толку.
Вечером ставку Унгерна посетил бежавший из красной Кяхты купец Шустов, известный в прошлом чаеторговец. Он сообщил кое-какие сведения о составе, численности и боевом духе обороняющих город войск, а взамен хотел выяснить, что думает генерал о будущем чайной торговли.
Некогда весь китайский чай шел в Россию через Кяхту. Основание купола крупнейшего в городе Троицкого собора сделано было в виде глобуса – это символизировало всемирное значение кяхтинских торговых домов. Но к началу века Кяхта запустела, обезлюдела, потому что железная дорога пролегла севернее, через Верхнеудинск. Чайная река, намывшая на своем пути как остров город Кяхту, давно обмелела, превратилась в жиденький ручеек, но громадный каменный шар по-прежнему парил над тесовыми крышами величаво, будто монгольфьер, пробуждая воспоминания и вызывая надежды.
Роман Федорович объяснил: отныне чай должен стать фактором большой политики, средством нажима на красных. Россия, кто бы ею ни правил, не может обойтись без чая. А единственным местом, откуда он потечет в Москву, вновь станет Кяхта: через Хабаровск не пропустят японцы, через Балтику – англичане. Необходим, конечно, мир с китайцами, но те пойдут на любые условия. Им свой чай девать некуда, все в Европе кофе пьют, кроме русских. В общем, не заржавеют замоскворецкие подстаканники, потому что без чайку-кипяточку и комиссарам не прожить.
Шустов слушал, преданно смотрел генералу в колючие, с желтыми просверками зеленые глаза и боялся верить. Подтянутый, чисто выбритый, в отутюженном мундире сидел перед Шустовым барон Унгерн.
– Через неделю мои чахары будут в Кяхте, – пообещал он. – Однако и вам придется кое в чем изменить свои взгляды.
Поднявшись, Роман Федорович пригласил гостя пройти в соседнюю комнату. Шустов отодвинул ситцевую занавеску и замер, пораженный, – посреди комнаты ослепительно отливала свежей позолотой бронзовая статуя Будды высотой аршина в полтора, стоящая прямо на полу.
– Это мой дар кяхтинской городской думе. Вы ведь член думы?
– Был, – ответил Шустов, – когда дума была.
– Вот и отлично. Поставите в зале заседаний.
– Никогда! – шепотом проговорил Шустов и, не, прощаясь, пошел прочь. Слышно было, как он зычно харкнул на крыльце.
Когда Унгерн рассказал об этом Цырен-Доржи, тот сказал:
– Вам следовало отвечать так: бог у всех один, только веры разные.
Но Унгерн был не из тех людей, которые способны утешаться умозрительными спекуляциями. Ночью, напившись, он плакал на плече у даурской казачки Степаниды, потом вскочил, голый, схватил пистолет и всадил всю обойму в грудь бронзовому Будде. На металле остались вмятины, пули, рикошетируя, разнесли стекла в двух окнах, разбили фарфоровую вазу и зеркало.
Далеко за полночь Роман Федорович лежал под боком у тихо посапывающей Степаниды и думал о том, что он, в сущности, похож не только на Чингисхана, но и на Александра Македонского. Тот тоже носил восточные одежды и рядом со статуями эллинских богов ставил туземных идолов. За это его осуждали недальновидные соотечественники. Вот и Шустов не понимает, что, если победят красные, не будет никого – ни Христа, ни Будды.
Повторяю: все это лишь комментарий, затянувшееся предисловие к той истории, которую рассказал мне Больжи. Но было бы ошибкой думать, будто я привел здесь только широко известные факты. В том-то и дело, что многие события, происшедшие до того, как барон Унгерн очутился в улусе Хара-Шулун, можно восстановить, лишь опираясь на рассказ Больжи.
Но для того, чтобы это понять, мне понадобилось несколько лет. А тогда, летом семидесятого, я узнал от Больжи следующее: во время наступления Унгерна сотня подъесаула Ергонова без боя вступила в Хара-Шулун. Здесь Ергонов насильно мобилизовал тридцать лошадей и восемь взрослых мужчин. Среди них были отец Больжи и его старший брат Жоргал.
Больжи хорошо помнил, как они уезжали, хотя ему было в ту пору всего восемь лет. Мать стояла у дороги, и отец все время оглядывался на нее, махал рукой, что-то кричал, а Жоргал как сел в седло, так и поехал, ни разу не обернувшись, – молодой был, горячий, глупый, не хотел оглядываться.
В последних числах мая 1921 года белогвардейские войска Унгерна вторглись в пределы Дальневосточной республики в районе Кяхты. Но бронзовому Будде не суждено было украсить собой зал заседаний кяхтинской городской думы. 3 июня отступила на юг колонна генерала Резухина, разбитого под станицей Желтуринской. Еще раньше бежали от Маймачена чахары Баяр-гуна, а через неделю сам Роман Федорович, столкнувшись в ночном бою с частями Народно-революционной армии ДВР и партизанами Щетинкина, ушел обратно в Монголию. Но через полтора месяца, когда экспедиционный корпус 5-й армии и цирики Сухэ-Батора уже заняли Ургу, он вновь пересек границу, внезапно вынырнув из глубины степей, как дух из бездны.
Тогда-то и появилась при штабе Романа Федоровича снежно-белая кобыла Манька. Цырен-Доржи лично за ней присматривал. При переходах на кобылу клали седло, взнуздывали, подвязывая уздечку, но никто никогда на нее не садился. Резухинского казака, спьяну взгромоздившегося ей на спину, Унгерн пристрелил тут же. Невидимый, ехал на Маньке сам Великий Белый Старец – Саган-Убугун, покинувший свое уединение у горного озера, чтобы привести войско вана к победе.
Под копытами коней и верблюдов, под колесами обоза степь дымилась летучим июльским прахом, знойное марево обволакивало горизонт. Азия жарко дышала в затылок.
Двигались на север.
Тесня отряды самообороны, захватили улус Цежей, станицу Атамано-Николаевскую, вышли на Мысовский тракт. 31 июля Унгерн увидел вдали заросшие камышом низкие берега Гусиного озера – до Верхнеудинска оставалось восемьдесят верст.
А двумя днями раньше Ергонов, уводя с собой мобилизованных, покинул Хара-Шулун.
Стол, тумбочка, полки с посудой в доме у Больжи покрыты были клеенкой с одним и тем же рисунком: квадраты, а в них два ананаса на блюде – целый и разрезанный на дольки. Десятки ананасов. Видимо, купили по случаю рулон этой клеенки и застелили все, что можно.
– Вот мы с тобой чай пьем, – говорил Больжи. – Я тебя спрашиваю: что это? Ты говоришь: чай. Правильно, чай. И пьешь его как чай. Потому что ты человек. Для тебя чай – чай. А если дать чашку с чаем счастливому из рая, он скажет: это гной. Дать несчастному из ада, он скажет это божье питье… Когда Жоргал домой вернулся, он чай так пил, будто сейчас из ада вышел. А отец уже мертвый был. Жоргал его мертвого на седле привез… Ты пей чай! Хороший чай, индийский. Зять из Улан-Удэ привез. Тут не купишь…
Обещанный бурхан представлялся мне то в виде золоченого божка, у которого за ушами, как жабры, темнеют просверленные отверстия, куда вдевается шнурок; то осколком черного метеоритного металла с припаянной серебряной петелькой – опять же для шнурка. Ведь амулеты появились гораздо раньше, чем нагрудные карманы. И когда Больжи положил передо мной маленький шелковый пакетик с обмахрившимися краями, я испытал сильное разочарование.
– Саган-Убугун. – Больжи осторожно обвел мизинцем изображение скрюченного лысого старичка с палкой. – Сам Унгерн его на груди носил…
Он говорил «Унгэр».
– Такой же, что ли? – спросил я.
– Зачем? Этот самый… Почему, думаешь, его убить не могли?
– Но Унгерна же расстреляли!
– О! Это потом, – снисходительно улыбнулся Больжи.
Я вежливо попытался выяснить, как он представляет себе действие амулета. Так сказать, механику волшебства. Что, собственно, происходит, если этот пакетик повесить на шею или положить в нагрудный карман? Огибает ли пуля владельца амулета, или не долетает до него, или, может быть, не причиняет ему вреда? На саму пулю действует волшебная сила или на того, кто ее посылает? Возможен был и такой вариант: что-то случается не с пулей и не со стрелком, а с оружием. Например, перекос патрона в патроннике.
Больжи тут же понял, что меня интересует. Бурхан, объяснил он, останавливает пули в воздухе, и они падают на землю.
– Так раньше было, – добавил Больжи.
Амулет, сберегавший от пули пятьдесят лет назад, теперь мог и не подействовать, потому что все изменилось в мире, сама жизнь стала другой.








