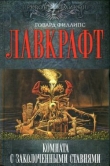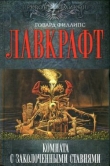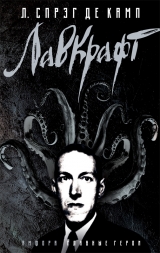
Текст книги "Лавкрафт"
Автор книги: Лайон Спрэг де Камп
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Много позже Лавкрафт порой легкомысленно относился к тому, что ему не удалось получить образование: «Как-никак, культурная семья является наилучшей школой, и я особенно признателен за то обучение, что этот юноша не прошел». Это был блеф, в более откровенные минуты он писал: «Что до отсутствия у меня университетского образования, я никогда не перестану стыдиться этого; но, по крайней мере, я знаю, что по-другому у меня не получилось бы».
Образец почерка Г. Лавкрафта

Эта неудача представляется одним из самых значительных событий в жизни Лавкрафта, поскольку она как ничто другое определила его будущее. В нескольких письмах Лавкрафт рассказывает о своем «нервном расстройстве», например: «В те зрелые годы бедняга дошел до такого нервного истощения, что не мог без отвращения разговаривать с любым человеческим существом и даже смотреть на него и равным образом не переносил, чтобы на него смотрели; и каждая поездка в город была суровым испытанием… В те дни для меня было просто невыносимо взглянуть или поговорить с кем-либо, и я предпочитал закрываться от всего мира, опуская темные шторы и обходясь искусственным светом… Я и думать не хотел о том, сколько приобретенных в средней школе знаний выпало из моей памяти за пять лет после 1908 года. Мое здоровье не позволило мне пойти в университет – в самом деле, упорное прилежание в школе привело меня к некоторому расстройству»[93]93
Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ф. Байрду, 3 февраля 1924 г.; Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.
[Закрыть].
Он говорил о головных болях, несварении желудка, апатии, усталости, депрессии и неспособности сосредотачиваться. Подобные симптомы могут быть вызваны любым из множества заболеваний вроде гипотонии (пониженное кровяное давление), гипогликемии (пониженное содержание сахара в крови), гипотиреоза (понижение функции щитовидной железы) и кое-каких микробных инфекций. Некоторые медики говорят, что того праздного, бесполезного существования, которое Лавкрафт вел на протяжении следующего десятилетия, уже самого по себе было достаточно, чтобы вызвать симптомы, на которые он жаловался. Медицина 1908 года не достигла того уровня, чтобы справиться с немощью Лавкрафта, чем бы она ни была.
Лавкрафт, возможно, страдал формой гипогликемии, называемой гиперинсулинизмом, или чрезмерным выделением инсулина поджелудочной железой. Хотя это заболевание в некотором отношении является противоположностью диабета, больной все равно должен избегать употребления сахара так же старательно, как и диабетик. Когда он принимает большую дозу сахара, например поедая сладости, его сверхактивная поджелудочная железа выбрасывает в кровь слишком много инсулина, и тогда он получает инсулиновый шок, симптомы которого описывал Лавкрафт.
Далее, общеизвестно, что Лавкрафт был сладкоежкой. Он поглощал огромное количество шоколада и мороженого, а в кофе добавлял столько сахара, что на дне чашки оставалась вязкая масса. Если он болел гиперинсулинизмом, такой образ питания гарантированно вызывал у него упадок сил, о котором он и говорил.
К тому же Лавкрафт, согласно его письмам, всегда был склонен к простуде. Мы не совсем уверены, как с ним обстояло дело в детском и подростковом возрасте, но так или иначе эта склонность либо появилась, либо сильно обострилась после его расстройства в 1908 году.
Судя по всему, у него развилось редкое, малоизученное заболевание под названием пойкилотермия, при которой больной утрачивает обычную для млекопитающего способность сохранять температуру тела постоянной независимо от температуры окружающей среды. Его тело принимает температуру среды, как если бы он был рептилией или рыбой.
Всю свою оставшуюся жизнь Лавкрафт чувствовал себя комфортно только при температуре выше 80° F (27 °C). Когда было за 90° (32°) и все остальные изнемогали от жары, он чувствовал себя прекрасно и был полон энергии. Ниже 80° ему становилось все хуже и хуже. При 70° (21°) он коченел и хлюпал носом. При 60° (16°) он был совсем жалок. Несколько раз, когда он оказывался на улице при температуре ниже 20° (-7°), он терял сознание, и его спасали прохожие. Эта слабость заточала его в доме практически на всю зиму, за исключением редких оттепелей. Он еще усугублял свое состояние тем, что не любил тяжелой зимней одежды, считая ее обременительной.
Пойкилотермия, как мне сказали, может быть вызвана либо нарушениями вроде опухолей в гипоталамической области у основания головного мозга, либо гипотиреозом, который также вызывает апатию, усталость и депрессию.
По сути, сочетание гипогликемии и гипотиреоза могло быть причиной всех основных физических симптомов Лавкрафта. Интересно было бы предположить, что регулярный прием щитовидного экстракта и бессахарная диета в продолжение критических лет от семнадцати до двадцати девяти, возможно, могли бы вернуть его к нормальной жизни.
Еще один ключ к объяснению функциональных нарушений Лавкрафта предоставляет его исключительная память. Он, кажется, детально помнил практически все начиная с трехлетнего возраста. Если его спрашивали о собрании, проводившемся несколько лет назад, он мог назвать место, точную дату, имена присутствовавших и сообщить, кто, что и кому сказал. Один психиатр поведал мне: «Фотографическая память наблюдается в некоторых случаях, связанных, по меньшей мере, со значительным ограничением эмоциональной свободы, способности горевать и т. д. – что, в свою очередь, обостряет трудность совладения даже с обычными нагрузками и неудачами. Подростковый возраст является существенной нагрузкой per se»[94]94
Per se (лат.) – сам по себе, по существу. (Примеч. перев.)
[Закрыть].
Также есть сведения о том, что в пятнадцать лет Лавкрафт весьма неудачно упал на стройке. Но я не располагаю достаточными подробностями, чтобы гадать, имело ли это падение отношение к его поздним болезням[95]95
В. Питер Сакс, доктор медицины (в личном общении); R. Alain Everts and Phillips Gamwell III «The Death of a Gentleman; the Last Days of Howard Phillips Lovecraft» в «Nyctalops», II, 1 (No. 8, Apr. 1973), p. 24.
[Закрыть].
Растущая масса медицинских заключений рассматривает расстройства вроде того, что испытал Лавкрафт, как результат врожденных пороков в биохимической структуре больного. Эти отклонения, в свою очередь, считаются наследственными и предрасполагающими индивидуума к функциональным нарушениям, инициируемым какими-либо стрессами и воздействиями окружающей среды. Такие стрессы происходили из весьма своеобразного дома, семьи и обучения Лавкрафта.
Какова бы ни была истина, точную связь между явной пойкилотермией Лавкрафта, его падкостью до сладкого, симптомами гипогликемии, эйдетической памятью[96]96
Эйдетизм – особый картинный характер памяти, преимущественно на зрительные впечатления, позволяющий удерживать и воспроизводить чрезвычайно живой образ воспринятого ранее предмета, по своей наглядности и детальности почти не уступающий образу восприятия. (Примеч. перев.)
[Закрыть], возможным ревматизмом и расстройством 1908 года мы, вероятно, так никогда и не узнаем. Загадка усугубляется еще и тем, что когда Лавкрафт говорит об ухудшениях своего юношеского слабого здоровья, мы не можем быть уверены, было ли в каком-то конкретном случае заболевание реальным или же оно было навязано несчастному юноше его невротичной матерью.
С 1909–го по 1914–й Лавкрафт превращался из подростка во взрослого, но его жизнь в течение этого периода – почти совершенно пустая страница. Вероятно, он изо дня в день сидел дома, бодрствуя ночами и засыпая лишь под утро, жадно читая, сочиняя массу георгианских стихотворений и вряд ли занимаясь чем-либо еще.
Подобный образчик поведения отнюдь не редок. Застенчивый, робкий юноша, весьма способный и рано развившийся интеллектуально, внезапно сходит со стези образования, поворачивается спиной ко всему миру и прячется от людей. Это больше упадок воли, движущей силы, нежели расстройство нервов. Выдайся ей такая возможность, и жертва может растратить даром всю свою жизнь. Принужденный работать, такой человек устраивается на мелочную работенку гораздо ниже своих способностей. Хотя этот недуг и знаком психиатрам, его причина и средство от него точно не известны.
Сюзи Лавкрафт тем не менее, несомненно, полагала, что поэтическая одаренность, которую она приписывала сыну, освобождает его от необходимости зарабатывать себе на жизнь. И когда подготовка к этому требовалась более всего, она и пальцем не пошевелила, чтобы побудить его к действию.
Одним из факторов, способствовавших длительной праздности Лавкрафта, было его воспитание матерью в «идеалах и нерушимых традициях как основы для надлежащего самоуважения и джентльменской утонченности и взаимного невмешательства…»[97]97
Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 5 апреля 1931 г.
[Закрыть], другими словами, как быть джентльменом. Что за джентльмена она взращивала в нем, мы можем догадаться из качеств, которые он проявлял позже. Он являл собой пример викторианского идеала джентльмена: вежливый, благородный, уравновешенный, невозмутимый, обладающий хорошим вкусом, утонченный, любезный, почтенный, правдивый, скромный, рыцарственный, прямой и осознающий свое классовое превосходство.
Большинство из этих черт и сегодня являются достойными, но воспитание Сюзи не включало идею обучения, как зарабатывать на жизнь. Для викторианского джентльмена разговор о деньгах и работе показался бы пошлым, как вмешательство в чужие дела или употребление крепких словечек в присутствии дам.
Говорят, мать короля Георга III наставляла его: «Георг, будь королем!», и что многие из исполненных благих намерений, но далеких от выдающихся монарших хлопот происходили именно из его старания следовать ее словам. Так же, в сущности, и Сюзи Лавкрафт говорила своему сыну: «Будь джентльменом!» Она преуспела в превращении его в пожизненного сноба, который усыпал свои письма надменными насмешками над «невежественной чернью» или «плебейским стадом».
Лавкрафт старался быть достойным идеала джентльмена своей матери и откровенно отзывался о себе: «…джентльмен уважает кошку за ее независимость», или «…джентльмену претит брать деньги за помощь другу». Те, кто не соответствовал этому образцу, надменно получали от ворот поворот: Оскар Уайльд никогда не был «тем, кого называют джентльменом», и «всегда было нечто буржуазное и торгашеское в расчетливом мудреце» – Бенджамине Франклине. Его мать, несомненно, так и не сказала ему, что джентльмен не превозносит сам себя, и, следовательно, тот, кто говорит «Я – джентльмен», этим самым подразумевает, что таковым не является.
В последние годы жизни Лавкрафт пытался изменить такую позицию. Хотя даже в последние месяцы он все еще писал: «Я презираю торговлю, торгашество и конкуренцию»[98]98
Письмо Г. Ф. Лавкрафта Дж. Ф. Мортону, декабрь 1926 г.; 30 июля 1929 г.; А. У. Дерлету, 20 января 1927 г.; М. Ф. Боннер, 4 мая 1936 г.; У. Коноверу, 23 сентября 1936 г.
[Закрыть]. Если кто-то ничего не смыслит в торговле и вдобавок является слабым соперником, весьма удобно прикинуться презирающим торговлю и конкуренцию.
Существует два различных значения слова «джентльмен». Одно подразумевает личность с достоинствами – утонченностью и другими, перечисленными выше. Более же старое значение, использовавшееся в эпоху барокко и раньше, обозначало принадлежность к наследственному социальному классу, ниже дворянства, но выше купцов, фермеров и рабочих. Хотя представители этого класса, естественно, думали о себе как об обладателях всех упомянутых добродетелей, главным условием принадлежности к этой категории было наследование достаточного состояния, чтобы не приходилось работать. Многие подобные джентльмены были заняты в таких благородных сферах, как закон, медицина, политика, война, наука или религия. Но зарабатывание на жизнь работой вне перечня разрешенных занятий исключало из рядов джентри. Джентльмен гордился своим незнанием плебейских дел.
С распадом средневековой классовой системы во время промышленной революции «джентльмен» все меньше и меньше подразумевал представителя этого наследственного класса и все более означал человека, обладающего хорошим вкусом, светскостью и всем остальным. Но Лавкрафт никогда – по крайней мере до последних лет своей жизни – не различал двух этих значений. Он не только старался соблюдать джентльменские добродетели, но и жить так, словно владел надежным, приличествующим джентльмену доходом.
Идеал джентльмена Лавкрафта был бездеятельным, статичным, ни к чему не стремящимся, не отвечающим кинетическому и конкурентному духу большей части Америки двадцатого столетия. Истинным предназначением джентльмена по старомодному убеждению Лавкрафта было не делать что-то – добиваться какой-то цели или что-то совершенствовать, – но просто быть – выставлять свое положение, принимать позы и подчиняться правилам социального статуса. Для такого джентльмена вопрос «А чем вы занимаетесь?» был бы бессмысленным. Лавкрафт писал: «…Мой идеал – быть абсолютно пассивным и безучастным наблюдателем…». И еще: «Наиболее действенный уход от жизни может быть достигнут путем отрицания несущегося сломя голову идеала современности и возвратом к здравым классическим принципам старины, которые утверждают превосходство быть над делать и придают особое значение необходимости изысканного досуга и праздного процесса размышлений и наслаждений, если кому-то необходимо извлекать чистое и продолжительное удовольствие из событий действительности. У восемнадцатого века была правильная идея…»[99]99
Письмо Г. Ф. Лавкрафта К. Э. Смиту, 15 октября 1927 г.; X. В. Салли, 4 декабря 1935 г.
[Закрыть]
Такая утонченная праздность, однако, требует независимого дохода. Джентльмены ранней эпохи обладали им по определению. Современный писатель говорит: «…Где-то в начале века в Англии было около четверти миллиона человек без определенных занятий, бездельников, не безработных… Среди моих друзей в Лондоне было два трудолюбивых почтенных джентльмена, чьи викторианские отцы за всю свою жизнь пальцем о палец не ударили. Они лишь поздно вставали, шли к цирюльнику, затем в клуб, днем играя в бильярд, а вечером в карты. Они были вполне счастливы, предоставляя другим делать за них работу, в то время как сами жили за счет семейного состояния»[100]100
Dennis Gabor «The Mature Society», N. Y.: 1972, p. 58. (Деннис Габор (1900–1979) – английский физик венгерского происхождения, в 1971 г. за изобретение и разработку топографического метода получил Нобелевскую премию; автор публицистических книг «Создавая будущее» (1963), «Инновации» (1970) и «Зрелое общество» (1972). – Примеч. перев.)
[Закрыть].
Таких людей в основном принимали как нечто само собой разумеющееся и зачастую восхищались ими. В Европе подобный джентльмен назывался «flaneur», «boulevardier» или «bon vivant»[101]101
Flaneur (фр.) – праздношатающийся; boulevardier (фр.) – гуляющий по бульвару; bon vivant (фр.) – хорошо живущий. (Примеч. перев.)
[Закрыть]. П. Г. Вудхауз не без нежности высмеял этот класс. Авторы детективов выбирали его представителей в качестве образцов для сыщиков-любителей, как, например, лорд Питер Уимси или (в Америке) Фило Вэнс. Голсуорси в своей пьесе «Верность» призывает публику проникнуться сочувствием к юному джентльмену, который, лишившись средств, вынужден пойти на кражу и, будучи пойманным, кончает жизнь самоубийством; о том, чтобы пойти работать, даже нет и речи.
В Соединенных Штатах неработающий джентльмен никогда не был столь популярен. О нем наверняка нелестно отзывались как о «дармоеде» или «гуляке».
В двадцатом столетии такая праздная жизнь стала все больше и больше считаться низкой, презренной и, что хуже всего, скучной. Те, кто вел подобный образ жизни, все более чувствовали себя виноватыми. Теперь аристократическое табу на проявление интереса к деньгам практически исчезло. Так что мы имеем богатых претендентов на канувшие в лету троны, которые торгуют самолетами или как-то по-другому вращают колеса промышленности. Англоирландский лорд для привлечения туристов восстанавливает разрушенный замок, сын магараджи представляет в Индии американское промышленное объединение.
Много позже Лавкрафт действительно много работал, но разговорами о себе как о «джентльмене-любителе» и своей бедностью он создавал впечатление ведущего праздный образ жизни. Разговоры, однако, были лишь пустой похвальбой, в то время как бедность была результатом скорее его неумения распоряжаться временем и вести дела, нежели лености. Эту самую леность он старался ставить себе в заслугу.
В действительности лавкрафтовский идеал некоммерческого джентльмена был неосуществим. Даже в эпоху мечей и париков джентльмен не мог столь высокомерно отмахнуться от мыслей о деньгах. Не заботься он о своем состоянии, он мог бы, подобно герою Голсуорси, в один прекрасный день обнаружить, что лишился его.
Так что поза Лавкрафта принадлежности к помещикам минувших дней не только притязала на образ жизни, который был ему совершенно не по средствам, но и – даже если бы у него это получилось – навлекала на него все растущее неодобрение. Поэтому его разыгрывание роли было столь же тщетным, что и попытка хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского воскресить славу рыцарства.
Успех Лавкрафта в становлении зрелым, нормальным человеком – хотя бы даже запоздало и не полностью, – которого он добился впоследствии, был целиком его заслугой. Много позже он с горечью осознал, что же с ним сделал этот эксцентричный домашний режим: «Будь я снова молодым, я бы прошел какое-нибудь конторское обучение, сделавшее меня пригодным для доходной работы… Это моя ошибка, что я никогда не думал о деньгах, пока был молодым. Тогда в этом не было острой необходимости, и я всегда полагал, что мне будет легко устроиться на скромно оплачиваемое место, когда возникнет нужда… Сегодня [в 1936 году] я охотно ухватился бы за постоянную работу с окладом десять или более долларов за неделю…» [102]102
Письмо Г. Ф. Лавкрафта У. Коноверу, 23 сентября 1936 г.
[Закрыть]
Но, как с грустью добавил Лавкрафт, «сорок шесть есть сорок шесть». Время не только уносило его своим неумолимым течением, но и бросало вниз, от лучшего к худшему, от богатства к бедности, от жизни счастливого избалованного ребенка к жизни одаренного, но несчастного и разочаровавшегося взрослого. Отсюда одним из его взрослых желаний было преодолеть каким-нибудь образом время или повернуть его назад. Он мечтал улучшить свою долю, гребя против течения времени в детство, которое помнил как период счастья.
Но время беспощадно течет лишь в одном направлении. Женщина, которая написала:
Время, полет обрати ты свой вспять,
Детство хоть на ночь верни мне опять![103]103
Elizabeth Akers Allen «Rock Me to Sleep», st. 1. (Элизабет Акерс Аллен (1832–1911) – американская поэтесса, публиковавшаяся под псевдонимом Флоренс Перси; стихотворение «Убаюкай меня, мама» (1866), строчки из которого процитированы, было положено на музыку и стало популярной песней тех лет. – Примеч. перев.)
[Закрыть]
– никогда не говорила, что оно ей подчинилось. Путешествие назад во времени возможно только в научно-фантастических произведениях. Лавкрафт тоже открыл этот способ временных перемещений.
Глава пятая
ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ
Минивер, предан старине,
Пожалуй, если увидал бы
Рыцаря в латах на коне,
То заплясал бы.
Минивер всех людских забот
Бежал и знал свое упрямо:
Афины, Фивы, Камелот,
Друзья Приама[104]104
Э. А. Робинсон «Минивер Чиви», строфы 5–12. (Перевод А. Сергеева, цитируется по: Э. А. Робинсон «Стихотворения и поэмы. Тильбюри-таун», Москва, Художественная литература, 1971. – Примеч. перев.)
[Закрыть].
Э. А. Робинсон «Минивер Чиви»
Некоторые писатели называли Лавкрафта «эксцентричным затворником», хотя последние десять лет своей жизни он едва ли был более эксцентричен или большим затворником, нежели большинство профессиональных писателей. Вне Нью-Йорка и эстетствующих местечек вроде Таоса и Кармела[105]105
Таос и Кармел – города на западе США (штаты Нью-Мексико и Калифорния соответственно), где проживает множество писателей и художников. (Примеч. перев.)
[Закрыть] многие писатели ведут до некоторой степени отшельнический образ жизни, потому как в непосредственной близости от них живет слишком мало других писателей, с которыми они могут поговорить на профессиональные темы. Их быт заключается в том, что они сидят дома в своей старенькой одежде, стучат по печатным машинкам, зачастую в неурочные часы, пренебрегают многими обычаями предпринимательского класса и никогда не уверены в своем доходе. Неудивительно, что своим буржуазным соседям они кажутся эксцентричными.
Впрочем, в течение пяти лет после ухода из средней школы Лавкрафт действительно был эксцентричным затворником. В возрасте, когда большинство юношей обучаются ремеслу или ищут работу, он сидел дома, не занимаясь никаким полезным делом и редко с кем, за исключением матери, разговаривая. По прошествии многих лет он предавался воспоминаниям: «В дни моей юности я часто выходил из состояния нервного расстройства, полностью отказываясь от внешних контактов и прозябая какое-то время либо, большей частью, в кровати, либо в мягком кресле в халате и тапочках».
Когда же он отваживался выйти наружу, то ходил быстрой, нелепой птичьей походкой: опущенная вниз голова, сутулые плечи, взгляд сосредоточен на земле под ногами. Он редко узнавал тех, мимо кого проходил. Соседка вспоминала его так: «Я боялась его до смерти, словно маленькая девочка, потому что он имел привычку по вечерам быстро проходить по Энджелл-стрит, как раз когда мы играли в „зайца и собак“ на углу Энджелл и Патерсон-стрит. Его появление всегда пугало меня. Он определенно был соседской тайной. Он никогда ни с кем из нас не заговаривал, лишь проходил с опущенной головой. Время от времени я встречала его днем, но мне так и не удалось добиться от него приветствия…»
Лавкрафт продолжал страдать от загадочного расстройства, обрушившегося на него в 1908 году: «…Смертельная усталость и апатия, которые сопровождают состояние здоровья вроде того, в котором я ходил шатаясь лет десять или больше [он писал это в 1918–м]. Временами невыносима даже попытка приподняться, а малейшее усилие вызывает тупую вялость, которая проявляется в заторможенных способностях и встречающейся время от времени несвязности в моих литературных работах и письмах. …Я жив лишь наполовину – значительная часть моих сил уходит на то, чтобы подняться или пройтись. Моя нервная система – полная развалина, и я охвачен скукой и совершенно бездеятелен, за исключением случаев, когда наталкиваюсь на нечто особенно интересное»[106]106
Письмо Г. Ф. Лавкрафта P. X. Барлоу, 8 августа 1933 г.; письмо Вирджинии В. (миссис Карлос Г.) Райт У. Т. Скотту, 23 сентября 1948 г., процитировано в «Providence Journal», 3 Oct. 1948 и Howard Phillips Lovecraft «Something About Cats and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1949, pp. 249f; письмо Г. Ф. Лавкрафта А. Галпину, 27 мая 1918 г. Состояние Лавкрафта походит на то, что некогда называлось «праздностью». (Де Камп имеет в виду один из семи смертных грехов в католичестве, духовную праздность. – Примеч. перев.)
[Закрыть].
В течение этого периода оцепенения Лавкрафт не был так уж совершенно бездеятелен, как подразумевают его слова: «Дома я занимался химией, литературой и прочим; сочинял самые таинственные и мрачные рассказы, которые когда-либо написал человек! …Я избегал любого человеческого общества, считая себя слишком большим неудачником в жизни, чтобы мое положение увидели те, кто знал меня в юности и глупо ожидал от меня чего-то великого».
Лавкрафт все-таки не отказался от попыток получить формальное образование и закончил заочные курсы по химии. Он поддерживал свою химическую лабораторию в рабочем состоянии и в 1908 году получил серьезный фосфорный ожог пальца. Доктор Кларк спас палец, но после этого он плохо сгибался, и на его внутренней стороне остался глубокий шрам.
Однако после курсов по химии интерес Лавкрафта к предмету остыл. Он объяснял: «Между 1909 и 1912 годами я пытался усовершенствоваться как химик, с легкостью покоряя неорганическую химию и качественный анализ, поскольку они были моими любимыми занятиями в юности. Но в середине органической химии, с ее страшно нудными теоретическими задачами и запутанными случаями изомерии углеводородных радикалов – бензольного кольца и т. д. и т. п., – мне стало так скучно, что я поистине не мог заниматься больше пятнадцати минут, чтобы у меня не начиналась мучительная головная боль, которая совершенно разбивала меня на весь остаток дня».
В ответ на возраставшую нервозность матери из-за его экспериментов со взрывчатыми и ядовитыми веществами Лавкрафт разобрал свою лабораторию в подвале. Так химия присоединилась к астрономии в ряду тех возможных карьер, которых Лавкрафт лишился из-за своей непереносимости скучных занятий и патологической нехватки воли. Впоследствии он признался: «Мне нужны были волшебство, тайна и выразительность наук без их тяжкого труда».
Он пробовал свои силы в живописи, рисуя пером наброски пейзажей и акварелью море. Затем забросил и это. Всю свою оставшуюся жизнь он горячо сетовал, что как бы он ни хотел уметь рисовать и писать красками, у него к этому совершенно не было способностей: «По материнской линии я унаследовал любовь к искусству. Моя мать довольно неплохо рисует пейзажи, а старшая тетя преуспевает в этом еще больше, ее полотна вывешивались на выставке в Провиденсском клубе искусств – однако, несмотря на их одаренность, я не смог нарисовать ничего лучше той пачкотни, которую вы так часто видели в моих письмах. Как я ни старался, дарования, безусловно, не доставало…»[107]107
Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 16 ноября 1916 г.; Г. О. Фишеру, конец января 1937 г.
[Закрыть]
В действительности же небольшие живые наброски пером автопортретов, старых домов и кошек, которыми Лавкрафт украшал свои письма, а также карты и эскизы в его исследовании о Квебеке демонстрируют настоящий художественный талант. Задумайся он над этим и пройди формальное обучение – и он стал бы неплохим иллюстратором. Но Лавкрафт питал отвращение ко всем стеснениям обучения и никогда не понимал его необходимости для любого занятия, требующего квалификации. Это была нехватка не таланта, а силы воли. Он так и выразился в письме: «Моя слабость заключается в том, что я не могу полностью подчиняться правилам и ограничениям. Мне приходится учиться и делать что-либо своим собственным способом – согласно моим особым интересам и склонностям, – либо не заниматься этим вообще».
Легко понять, что изнеженному, избалованному и изолированному ребенку, каким был Лавкрафт, позже будет трудно смириться с тем фактом, что некоторая скука и рутина являются обычными жизненными обстоятельствами. Он иллюстрирует собой утверждение психиатра: «Высокий уровень интеллекта часто сопровождается страстным отвращением к продолжительной работе из-за нехватки выдержки и упорства». Возможно, Лавкрафт разделял иллюзию романтиков вроде По, что подлинный художественный талант слишком чист душой и чувствителен, чтобы нуждаться в дисциплине обучения хотя бы простой технике – или даже допускать ее.
Он также сокрушался: «Равным образом у меня ничего не вышло и с языками»[108]108
Helen V. Wesson «The Phenomenon of HPL» в «The Fossil», LV, No. 154 (Jul. 1957), p. 9; R. Knight «Intelligence and Intelligence Tests» (Lon.: 1959), цитируется в J. R. Baker «Race» (Lon.: 1974), p. 496; письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Л. Болдуину, 1934, в «The Acolyte», I, 4 (Summer, 1943), pp. 22f.
[Закрыть] – несмотря на то, что был довольно неплохим лингвистом-самоучкой. В школе он хорошо изучил латынь и поверхностно греческий, а позже научился читать на французском и испанском. Возможно, он успокаивал свое эго, говоря, что не сделал что-то, потому что это было совершенно ему не по силам, вместо того чтобы признать, что у него не хватило настойчивости.
Лавкрафт коллекционировал марки, но в 1915 году подарил всю коллекцию младшему кузену, Филлипсу Гэмвеллу. Он также обучал юного Гэмвелла алгебре и геометрии. Лавкрафт обнаружил, что забыл многое из того, чему научился по этим предметам в школе, и ему пришлось освежать свои знания, чтобы быть впереди ученика. Он пробовал писать детективные рассказы, но не продолжил работать в этом жанре. Кроме того: «Работы по химии – плюс небольшое исследование по истории и старине – наполняли мои немощные годы примерно до 1911–го, когда я взялся за литературу. Тогда я подверг свой прозаический стиль величайшей переработке, какую он когда-либо переносил, очистив его от некоторых низких газетных штампов и глупого подражания Джонсону»[109]109
Письмо Г. Ф. Лавкрафта Б. О. Двайеру, 3 марта 1927 г.
[Закрыть].
Как показывают его педантичные латинизированные ранние пробы в любительских публикациях, эта переработка стиля принесла результат лишь частично. Все еще будучи одержимым англофилией и барокко, он упорствовал в литературных англицизмах («colour», «shew», «connexion») и архаизмах («smoak», «ask'd»).
Его главным занятием в течение периода «под паром» было, однако, чтение. Он от начала до конца прочел Библию, читал романы Г. Дж. Уэллса и Жюля Верна. «Путешествие к центру Земли» Верна пробудило в нем пожизненный интерес к Исландии. Лавкрафт вслух читал матери Шекспира, озвучивая некоторые драматичные сцены с таким жаром, что соседи думали, что Лавкрафты ссорятся.
Любовь к По вдохновила его на прочтение его предшественников, готических писателей конца восемнадцатого и начала девятнадцатого века: Уолпола, Мэтьюрина, Бекфорда и миссис Радклифф. Но По так и остался его идеалом.
Он увлекся чтением журналов, среди которых были три из серии, издававшейся Фрэнком Э. Мансеем: «Аргоси» («Корабль»), «Олл-Стори Мэгэзин» («Журнал всех рассказов») и «Кавалиер» («Рыцарь», позже объединенный с «Олл-Стори») – все предшественники так называемых «дешевых журналов», чей бурный расцвет пришелся на двадцатые-тридцатые годы двадцатого века. Как и их поздние подражатели, журналы Мансея были периодическими изданиями, целиком посвященными развлекательной литературе в основном для мужского круга читателей. Время от времени в них печаталась научная фантастика или фэнтези. Лавкрафт читал «Олл-Стори» с его первого выпуска, поскольку в нем часто публиковались сверхъестественные рассказы, которые для него были верхом художественной литературы.
В 1911 году некий уроженец Запада, на четвертом десятке, не добившийся особого успеха в карьере бухгалтера, ковбоя и железнодорожного детектива, возмутился каким-то прочитанным рассказом и поклялся, что даже он сможет написать лучше. Результатом стал роман о приключениях на Марсе. Автор, Эдгар Райе Берроуз (1875–1950), отослал произведение в «Олл-Стори Уикли» (как он тогда назывался) под шуточным псевдонимом «Нормал Бин»[110]110
Normal Bean (англ.) – «обычный боб». (Примеч. перев.)
[Закрыть]. В 1912–м роман был опубликован серией из шести частей под заголовком «Под лунами Марса» за авторством Нормана Бина (вследствие типографской ошибки).
Последовал крупный успех, ив 1917 году произведение было издано отдельной книгой «Принцесса Марса». Это был первый из десяти марсианских романов Берроуза об отважном, рыцарственном и непобедимом Джоне Картере из Вирджинии и его жене – краснокожей, откладывающей яйца марсианской принцессе Дее Торис.
За этим романом в «Олл-Стори» последовал другой: «Тарзан – приемыш обезьян», самая удачная из всех его шестидесяти с лишним книг. С жадностью набрасываясь на произведения Берроуза, когда они появлялись в журналах Мансея, молодой Лавкрафт всячески превозносил их. Когда же он стал постарше и поискушеннее, то изменил свою точку зрения, отвергнув их как «дешевый хлам». Он упустил особенность произведений Берроуза: сами по себе они были превосходны – но как юношеские, не как взрослые. Когда Лавклафт уже не был юношей, они и увлекали его меньше.
Начиная с выпуска за 1 января 1916 года «Олл-Стори Уикли» начал публиковать произведение Виктора Руссо (псевдоним Виктора Руссо Эманьюэла), которое, возможно, повлияло на Лавкрафта. Это был роман «Демоны моря», о расе получеловеческих амфибий, которые выходят из моря, чтобы захватить Англию. Пока они живы, они полностью прозрачны, за исключением глазных яблок, то есть практически невидимы. Пучеглазые, чешуйчатые, с перепонками между пальцев любимцы Ктулху в поздних рассказах Лавкрафта происходят, быть может, из студенистого водного народца Руссо.
Во время своего долгого оцепенения Лавкрафт не считал, что с ним плохо обращаются: «Моя семья восхитительна и добра, какой могла бы быть любая другая семья, – моя мать просто чудо предупредительности – но тем не менее меня не считают чем-то особенным: я неуклюж и неприятен». Он порицал себя за свои недостатки, ранние письма полны утверждений вроде: «У меня всегда было некоторое ощущение собственной непопулярности – я знаю, что я странный и очень скучный»[111]111
Письмо Г. Ф. Лавкрафта А. Галпину, 21 августа 1918 г.; 29 августа 1918 г.
[Закрыть].
Читая заявления Лавкрафта о собственной бесполезности и негодности, необходимо помнить психиатрическую максиму: «Излишняя скромность суть эгоцентризм». Уинфилд Таунли Скотт писал о Лавкрафте как о «маменькином сынке» и «робком и эгоистичном юноше». Лавкрафт, несомненно, был застенчив, и мать действительно опекала его выше всякой меры, но вот «эгоистичный» вряд ли является верным описанием. Эгоцентричный и сосредоточенный на самом себе – да, но, выйдя из многолетнего транса, всегда добрый, любезный, щедрый, насколько мог себе позволить, и порицающий скорее себя, нежели других.
Тем не менее, как и многие интроверты-интеллектуалы, он был настолько погружен в собственные мысли, что практически не знал, что думают другие. Он размышлял о себе и своих чувствах, об окружающей его среде, о мире и вселенной, об отвлеченных вопросах. Что до отдельных людей, Лавкрафт вовсе не считал их дурными, а просто не думал о них. Он сам определил это так: «Я всегда был невероятно чувствителен к общей видимой обстановке… и относительно равнодушен к людям».