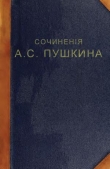Текст книги "Живой Пушкин. Повседневная жизнь великого поэта"
Автор книги: Лариса Черкашина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Лариса Черкашина
Живой Пушкин. Повседневная жизнь великого поэта
В оформлении книги использованы портреты, гравюры и фотографии из собраний Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Всероссийского музея А.С. Пушкина, Государственного музея А.С. Пушкина, Государственного Исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Алупкинского музея-заповедника, Галереи народного художника России Дмитрия Белюкина, частных коллекций.
В оформлении обложки книги использована иллюстрация народного художника России Д.А. Белюкина.
* * *
© Черкашина Л.А., 2021
© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
Сайт издательства www.veche.ru
* * *
«Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый».
Пушкин – князю Вяземскому. Ноябрь 1825 г.
«…Люби и почитай Александра Пушкина».
Пушкин – брату Льву. Декабрь 1824 г.
Предисловие
Увы, даже великие мира сего имеют свойство покрываться пылью: одни – хронологической, другие – хрестоматийной. Иногда сквозь её наслоения уже не разглядеть живых черт, не услышать заразительного смеха, не увидеть печальных глаз…
Да, Пушкин по-прежнему любим: осталось незыблемым и народное поклонение русскому гению. Но где он сам, «наше всё», живой Александр Сергеевич?! Такой знакомый и непостижимый одновременно?
Время вершит своё – в памяти новых поколений остаются лишь отдельные вехи его великой жизни: родился в Первопрестольной, учился в Царскосельском лицее, томился в ссылке в Михайловском, женился на красавице Натали Гончаровой, путешествовал, погиб на дуэли…
А что любил Пушкин в жизни и что презирал, чему радовался и что отвергал? Каков был мир увлечений поэта?
Как-то в полемическом задоре он заметил: «…Хорош ли я собой или дурен, старинный ли дворянин или из разночинцев… Будущий мой биограф, коли Бог пошлёт мне биографа, об этом будет заботиться». Бог одарил поэта не одним – сотнями биографов! Не иначе как чудесным образом о жизни Пушкина сохранились многие воспоминания его друзей и недругов, поклонников и поклонниц. Да и письма самого поэта – приятелям, родным и жене – хранят его живой голос.
Благодаря бесчисленным трудам пушкинистов вся недолгая жизнь поэта – его драгоценное бытие – восстановлена по дням, а порой и по часам.
Подобно пазлу пушкинский образ пытаются сложить вот уже третье столетие, но до конца собрать и осмыслить его кажется невозможным. Ведь у каждого из нас в душе живёт свой Пушкин.
Некогда Марина Цветаева вывела краткую и гениальную формулу: «Мой Пушкин». Поэтессе принадлежат и эти проникновенные строки: «Ведь Пушкина убили, потому что своей смертью он никогда бы не умер, жил бы вечно…»
Вот и эта книга, которую вы, дорогой читатель, держите в руках, – ещё одна попытка воссоздать живой образ поэта со всеми его человеческими слабостями и пристрастиями, странностями и причудами. Таким, каким он был в жизни, каким остался в памяти современников.
Итак, живой Пушкин!
Гурман Александр Сергеевич
Гастрономические изыски пушкинской поры
Вошёл: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef окровавленный
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
Александр Пушкин
Не избежал великий Пушкин и обычной человеческой слабости – любил вкусно поесть. Знал толк в изысканных блюдах и в тонких французских винах.
Поистине, нетленными остались в пушкинских рукописях не только знаменитый страсбургский пирог, французские трюфели, английский ростбиф, но и устрицы «от цареградских берегов».
Что устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном.
И вновь о «черноморских устрицах», уже ностальгически, вздыхает поэт – ведь ему приходится покидать Одессу. И печалится о них (когда-то ещё доведётся насладиться!) не менее, чем о расставании с милыми дамами.
А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от тёмных лож
И, слава Богу, от вельмож
Уехал в тень лесов тригорских…
Вечная «скатерть-самобранка» привольно раскинулась на страницах пушкинских поэм и романов. Но и какое же застолье без драгоценных заморских вин!
Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мёрзлой для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокреной…
Француженка мадам Клико, она же Барба-Николь Клико-Понсарден, овдовев в двадцать семь лет, возглавила дело покойного мужа, винодела. Ещё во время Наполеоновских войн она умело обходила ограничения в торговле и, невзирая на запрет ввозить французские вина, сумела на кораблях через Кёнигсберг доставить партию шампанского в Россию.
После того как Наполеон был побеждён и русские войска победоносно вошли в Париж, в занятой гвардейцами провинции Шампань знаменитое шампанское лилось рекой. Винные погреба вдовы Клико вмиг опустели. Но мадам не унывала. «Сегодня они пьют, – любила повторять она – Завтра они заплатят». Её пророчество не замедлило исполниться.
Вскоре предприимчивая мадам Клико отправила в северную российскую столицу тысячи бутылок искрящегося шампанского и одержала бескровную победу. В числе поклонников её винодельческого таланта был и Александр Пушкин. А якорь, красовавшийся на фирменной этикетке, служил напоминанием о первом морском путешествии «Вдовы Клико» в Россию.
Сама же вдовушка замуж так и не вышла, отдав все силы процветанию «винной империи». В поздние свои лета, мирно почив в фамильном замке в июле 1866-го, Барбара Клико упокоилась во французском Реймсе…
В России начала XIX века начался настоящий ресторанный бум: стали открываться французские и итальянские рестораны. Только на одной Тверской в Москве насчитывалось двадцать семь рестораций! На Невском проспекте в Петербурге их было не меньше. Но все же, за исключением нескольких модных ресторанов в столице, обеды в московских трактирах знатоки называли лучшими.
Друзья! досужный час настал,
Всё тихо, всё в покое;
Скорее скатерть и бокал;
Сюда, вино златое!
Шипи, шампанское, в стекле.
Излюбленным в Петербурге местом для золотой молодёжи – франтов и денди начала 1820-х – считался ресторан Талона на Невском. У Талона можно было отведать последние гастрономические новинки: кровавый ростбиф, модное тогда блюдо английской кухни; паштет из гусиной печёнки – «Страсбурга пирог», что доставлялся из Франции в виде консервов; лимбургский сыр, очень острый, с сильным запахом, покрытый слоем плесени – «живой пыли», – привозился из Бельгии.
Чуть позже славу самого «культового» заведения перехватил ресторан Дюме, что на Малой Морской. Там собирались весёлые холостые компании, и, как свидетельствовал современник, француз Дюме имел «исключительную привилегию – наполнять желудки петербургских львов и денди». Обед у Дюме считался лучшим в Петербурге.
А ещё были известны немецкая ресторация Клея на Невском, где гостей потчевали пивом, и ресторанчик в итальянском вкусе некоего синьора Александро, что на Мойке, у Полицейского моста.
Гастрономическая мода распространилась и на Английские клубы, славившиеся своими искусными поварами. В обеденном меню значились: «суп с молоками, суп жуанвиль, налимы в попилиотах, жареные рябчики, поросята под хреном, спаржа с крутонами, форель разварная с раковым соусом, осетрина, приготовленная в шампанском».
Кстати, осетров следовало доставлять свежайшими, и везли их с Волги в специальных бочках-аквариумах на особых тележках – гнали на почтовых лошадях, не жалея издержек. Осётр – царь-рыба на праздничном столе. «А в обкладку к осетру подпусти свёклу звёздочкой, да снеточки, да груздочки, да там знаешь, репушки, да морковки, да бобков… чтобы гарниру, гарниру всякого побольше», – советовал гоголевский герой.
На обеденный стол попадал и лабардан, так называли треску, – везли лабардан, только когда наступали холода, и бочки с живой рыбой обвязывали соломой, чтобы та не замерзла. Налимов везли с Онеги, навагу – с северных морей, из Архангельска, форель – из кавказских рек, сига – с озера Ильмень.
Красовались на столах и «трюфли, роскошь юных лет». Обжаренные «в чухонском масле, с пучком петрушки» и прочими травами, приправленные ароматными специями да сбрызнутые шампанским, «трюфели по-лионски» – являли собой поистине цвет французской кухни.
К блюдам, рыбным и мясным, полагались соусы: одни – «из спаржи, артишоков, шпинату»; другие – «из дичины, курицы, цыплят». В изобилии ставились на стол закуски, убираемые «зеленью, галантином, желеем, лимонами, мочёными сливами, вишнями, маленькими огурчиками, капорцами, оливками». Особо любима была спаржа, «краса всей зелени известной», – магнитом манили взоры её нежные стебельки.
Вот как потчевали в Москве начала XIX века ирландскую барышню-путешественницу Марту Вильмот, поведавшую о том родным: «Обед продолжался почти четыре часа. Были спаржа, виноград и всё, что можно вообразить, и это зимой, в 26-градусный мороз. Представьте себе, как совершенно должно быть искусство садовника, сумевшего добиться, чтобы природа забыла о временах года и приносила плоды этим любителям роскоши. Виноград буквально с голубиное яйцо».
К десерту подавали сыры, чаще мягкие – их ели с сахаром; желе и пирожные; разные фрукты.
Так, гоголевский Хлестаков не без воодушевления «вспоминал»: «На столе, например, арбуз – в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе».
Поесть, и вкусно поесть, на Руси любили. Да и другой, будто списанный с натуры герой, Собакевич, угощая Чичикова, гневался на немецких докторов, выдумавших диету: «Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! <…> У меня, когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует».
Довольный праздничным обедом,
Сосед сопит перед соседом…
Добрый знакомец поэта Александр Иванович Тургенев грешил той же слабостью: после обильной трапезы, – а его страсть к еде была столь велика, что Жуковский подшучивал над приятелем, точнее над его непомерным желудком, где умещались «водка, селёдка, конфеты, котлеты, клюква и брюква», – он имел обыкновение засыпать за столом и тут же просыпаться, дабы продолжить беседу. Удивлялись русскому хлебосольству и русскому аппетиту иностранные гости: «…Всё-всё, что только может быть возложено на алтарь желудка, было подано к столу и съедено».
Однако как нестерпим в приличном обществе дурной гастрономический тон! Вот и разборчивый жених у Пушкина, в ответ на предложения друзей, сватавших тому очередную невесту, гневно восклицает:
Что за семейство!
У них орехи подают,
Они в театре пиво пьют.
Немыслимо из такой «невежественной» семьи взять себе жену!
Расхожую истину, что желудок якобы добра не помнит, Александр Сергеевич оспаривал: «Желудок просвещённого человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность».
«И пунша пламень голубой»Александр Сергеевич и в жизни, и в поэзии воздал должное божественным горячим напиткам: жжёнке, пуншу (арак, чай, вода, лимонный сок, сахар смешиваются и поджигаются); глинтвейну (в красное вино добавляют пряности и ставят на огонь); грогу (в водку добавляют сахар, воду и лимонный сок) и даже гоголь-моголю (желток сбивается с сахаром и ромом).
О последнем, вернее, об одной лицейской шалости, с ним связанной, и о последствиях оной, поведал товарищ поэта Иван Пущин: «Мы, то есть я, Малиновский и Пушкин, затеяли выпить гоголь-моголя. Я достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара». О той пирушке узнал инспектор, затем – директор Лицея, – он-то и донёс о ней самому министру. Дело могло принять самый дурной оборот, но обошлось лишь лёгким наказанием: велено было зачинщикам в течение двух недель стоять на коленях во время молитвы да пересесть «на последние места за столом».
Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом пенистом вине?
Но со жжёнкой, приготовленной изящными ручками юной тригорской барышни Евпраксии Вульф, милой Зизи, ничто не могло сравниться!
Восхищения друзей брата Алексея – Николая Языкова и Пушкина, их поэтические восторги и похвалы – доставляли юной Зизи немало радости.
«Сестра моя Euphrosine, бывало, заваривает всем нам после обеда жжёнку: сестра прекрасно её варила, – много позже вспоминал Алексей Вульф, – да и Пушкин, её всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жжёнку… и вот мы из этих самых звонких бокалов, о которых вы найдёте немало упоминаний в посланиях ко мне Языкова, – сидим, беседуем да распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи то того, то другого поэта сопровождали нашу дружескую пирушку!»
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Жжёнке, что собственноручно варила Евпраксия Вульф, посвящён поэтический диалог друзей – Языкова и Пушкина. Ах, как сладостно вспоминал Языков о дружеских пирушках, «когда могущественный ром с плодами сладостной Мессины», вступив в союз «с вином, переработанным огнём», «лился в стаканы-исполины!»
Обычно застенчивый Языков преображался и восторженно воспевал то ли волшебный напиток, то ли его создательницу:
Какой огонь нам в душу лили
Стаканы жжёнки ромовой!
Её вы сами сочиняли:
Сладка она была, хмельна;
Её вы сами разливали, —
И горячо пилась она!..
Вторил приятелю и Пушкин:
Напиток благородной,
Слиянье рому и вина,
Без примеси воды негодной,
В Тригорском жаждою свободной
Открытый в наши времена…
И то юное и весёлое счастье Евпраксия Николаевна помнила до конца своих дней, бережно храня «свидетеля» и «участника» тех дружеских застолий – серебряный ковшик с длинной ручкой, коим она разливала по бокалам сладкую хмельную жжёнку.
Жжёнкой, шампанским и стерляжьей ухой провожал Пушкина в дальнее путешествие на Урал закадычный его приятель Павел Нащокин. Радушному хозяину запомнилось, как Пушкин в шутку называл жжёнку «Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее всё в порядок влияние на желудок».
Ну а чуть раньше в нащокинском доме – самом хлебосольном во всей Москве – приятели вместе отметили Натальин день, именины красавицы Натали.
Доводилось отведать поэту и напитки куда более крепкие – и немецкий шнапс, и украинскую горилку, и фамильную «ганнибаловскую» настойку.
Двоюродный дедушка Пётр Абрамович Ганнибал, что жил в Петровском, по соседству с внуком-поэтом, славился на всю округу своим искусством в приготовлении крепких настоек по собственной рецептуре. Старый арап экспериментировал на сем благодатном поприще с поистине африканской страстью. Помогал ему в столь благородном деле, как перегонка водок и настоек и возведение их в должный градус, молодой слуга-крепостной. Как-то раз, решив воплотить в жизнь усовершенствования барина, он ненароком сжёг дистилляционный аппарат. Слуга в буквальном смысле поплатился за чужой опыт собственной спиной. Да и когда барин Ганнибал изволил серчать, а причиной тому частенько была недолжная крепость водки, то людей его «выносили на простынях». Такова во времена оные была строжайшая экспертиза качества напитков.
Во время михайловской ссылки Пушкин посетил своего темнокожего деда и оставил запись о той незабываемой встрече. Пётр Абрамович «попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести; я не поморщился – и тем, кажется, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз 5 или 6 до обеда».
Растроганный дедушка-арап доверил внуку Александру, знавшему толк в настойках, многие из семейных бумаг, касавшиеся удивительной судьбы прадеда Абрама Ганнибала, крестника и питомца самого Петра Великого, а также и фамильные реликвии. То были щедрые подарки за умение внука-поэта оценить дедовские труды.
Словом «водка» со второй половины XVIII века называли бесцветную водку – хлебное вино. Автор вышедшей в 1837 году книги «Прогулки с детьми по России» называет водку «горячим вином» – такое понятие было ещё в ходу, да и казалось более пристойным для юношества. Сама же водка нередко отождествлялась с настойкой. Так, в «Домашнем лечебнике» за 1825 год есть раздел «Водки, или настойки водочные». Ещё ранее известны были «водки перегнанные» (или «двоенные»), «водки настоянные», «водки сладкие».
Ароматизированные водки назывались исключительно русскими. И учитель-француз Петруши Гринёва месье Бопре «скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать её винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка». Бывший французский парикмахер, в России ставший гувернёром юного чада, любил забегать к кухарке, умоляя её: «Мадам, же ву при, водкю». Настойкой же, по совету доброго Савельича, следовало и лечиться от всякого рода излишеств: «Вот видишь ли, Пётр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен… Выпей-ка огуречного рассолу с мёдом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»
И сильные мира сего не избежали той простой человеческой слабости. Сподвижница Екатерины Великой княгиня Екатерина Дашкова поведала как-то о необычном письме к её высокой покровительнице. «И пусть Всемогущий спасет тебя от несчастия любви к крепким напиткам, – писал, среди множества похвал русской самодержице, персидский шах, – ибо я, пишущий тебе, не уберёгся от этой страсти и имею теперь изумрудные глаза, рубиновый нос…»
Послание шаха, написанное с истинно восточной витиеватостью, не случайно: поговаривали, будто императрица Екатерина славилась пристрастием к горячительным напиткам.
Народная молва нарекла и самого Александра Сергеевича ярым поклонником русской водки. Как же без неё, родимой, можно написать «Каменного гостя» или «Графа Нулина»? На трезвую голову такое ведь не придумать.
Эй, водки! Граф, прошу отведать:
Прислали нам издалека.
Вы с нами будете обедать?..
Так вернувшийся с охоты муж Натальи Павловны потчует своего любвеобильного гостя…
Пушкин посмеивается.
«Мой ангел… Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? – вопрошает поэт свою Наташу из Болдина – Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет – перед ним стоит штоф славнейшей настойки – он хлоп стакан, другой, третий – и уж начнёт писать! Это слава».
Ах, как бы повеселился Александр Сергеевич, доведись ему увидеть (а ещё лучше испить) в родном нижегородском сельце водку с затейливым названием «Арина Родионовна рекомендует»!
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Ну, наверное, не меньше бы подивился поэт, узнав, что в далёкой африканской стране Кении «братья негры» выпустили водку под названием «Пушкин». Да что там в Кении – в России к двухсотлетнему юбилею Пушкина появилась одноимённая водка, да ещё в фигурной бутылке, «представляющей» самого поэта с чёрным пластиковым цилиндром вместо пробки!
А ранее, в 1899-м, когда вся Россия праздновала столетие со дня рождения Александра Сергеевича, купец Шустов лихо торговал «пушкинским ликёром» с портретом поэта на этикетке и стихотворными строчками: «Я люблю весёлый пир».
Вот оно, истинно народное толкование пушкинского гения!
«Честь имею тебе заметить, что твой извозчик спрашивал не рейнвейну, а ренского (т. е. всякое белое кисленькое виноградное вино называется ренским), – наставляет Александр Сергеевич любимую Наташу – Впрочем, твое замечание о просвещении русского народа очень справедливо и делает тебе честь, а мне удовольствие». И тут же шутливо добавляет по-французски: «Скажи мне, что ты пьёшь, и я скажу тебе, кто ты».
От ананасов до печёной картошки«Вечер у Нащокина, да какой вечер! шампанское, лафит, зажжённый пунш с ананасами – и всё за твоё здоровье, красота моя», – не скрывает восторга Пушкин в письме супруге.
Красавице Натали адресованы и другие любопытные строчки. Весной 1834-го она с детьми уехала в своё калужское имение Полотняный Завод, Пушкин же – в Петербурге. Чуть ли не через день летят ей от мужа подробные письма-отчёты:
«…Явился я к Дюме, где появление моё произвело общее веселие: холостой, холостой Пушкин! Стали подчивать меня шампанским и пуншем, и спрашивать, не поеду ли я к Софье Астафьевне? Всё это меня смутило, так что я к Дюме являться уж более не намерен и обедаю дома, заказав Степану ботвинью и beaf-steaks».
Так что порой известный в Петербурге гурман Александр Сергеевич мог довольствоваться и весьма скромным домашним обедом. Бифштексом в те времена называлось «английское кушанье, состоящее из большого куска свежей и жирной говядины или телятины со вкусным соусом или поливкою».
Петербургская кухня начала и середины XIX века словно впитала в себя разнообразие других, национальных: французской, немецкой, итальянской, голландской… Московская кухня (да и само московское хлебосольство!) разительно отличалась от петербургской. Патриархальная столица славилась пирогами с грибами, капустой, угрями; кулебяками; расстегаями; стерлядями и чёрной икрой.
Москва Онегина встречает
Своей спесивой суетой,
Своими девами прельщает,
Стерляжьей потчует ухой.
Особо превосходной считалась кухня московского Английского клуба, завсегдатаем коего числился и Пушкин. Клубным поварам строго предписывалось: «Провизия для приготовления столов должна быть покупаема всегда и вся вообще лучшая, а говядина, ветчина, солонина и телятина для жареного отлично хорошая; рыба же непременно живая…» Помещики из провинции присылали сюда на выучку доморощенных поваров, дабы те постигали тонкости столичного кулинарного искусства.
Дома же Пушкин любил еду простую и здоровую: зелёный суп из щавеля или молодой крапивы с крутыми яйцами, рубленые котлеты со шпинатом, ботвинью – холодную похлёбку из кваса со свекольной ботвой, шпинатом, крапивой, слегка отваренными заранее, зелёным луком и осетриной. Подавались на стол любимые поэтом печёный картофель и мочёные яблоки. Как замечал шутя князь Вяземский: «Мочёным яблокам также доставалось от него (Пушкина) нередко».
И наконец, краса русского стола – блины! Особо жаловал поэт крупитчатые розовые со свёклой, да и гречневые не обходил своим благосклонным вниманием.
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на Масленице жирной
Водились русские блины…
«– А блинков? – сказала хозяйка.
В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленном масле, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой…»
Блины пеклись иногда с луком и яйцами. Любимы были блины с припёком, когда испечённый блин, не снимая со сковороды, намазывали творогом с яйцами и слегка припекали.
Славная цыганка Таня вспоминала, как однажды Пушкин заехал к ней на Масленицу: «Дядя побежал, всё в минуту спроворил, принёс блинов, бутылку. Сбежались подруги, – и стал нас Пушкин потчевать: на лежанке сидит, на коленях тарелка с блинами, – смешной такой, ест да похваливает: “Нигде, говорит, таких вкусных блинов не едал!”, шампанское разливает по стаканам…»
Будучи в деревне, Пушкин еде придавал и вовсе малое значение. Особенно когда приходило божественное вдохновение.
«Просыпаюсь в 7 часов, пью кофей и лежу до 3 часов… Недавно расписался и уже написал пропасть, – пишет он супруге из Болдина, – в 3 часа сажусь верхом, в 5 ванну и потом обедаю картофелем да гречневой кашей. До 9 часов – читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо».
Как удачно имя героини поэмы, что явилась на свет чудотворной Болдинской осенью, рифмуется с любимой… кашей!
Всем домом правила одна Параша,
Поручено ей было счёты весть,
При ней варилась гречневая каша…
А это письмо жене уже из Михайловского: «Ем я печёный картофель, как маймист (петербургское прозвище финнов – Л.Ч.), и яйца всмятку, как Людовик VIII. Вот мой обед».
Красавице Анне Керн помнилось, как счастлива была Надежда Осиповна, исполненная материнской гордости, встречая Александра в своём доме: «Она заманивала его к обеду печёным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник».
Не случайно, описывая пристрастия Чарского, героя «Египетских ночей», Пушкин не преминул упомянуть любимый им картофель: «Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печёный картофель всевозможным изобретениям французской кухни».