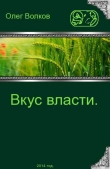Текст книги "Оружие, которое себя исчерпало"
Автор книги: Л. Феоктистов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Насколько я знаю, своего обещания Н.С. так и не выполнил.
Обед начинался с солидной, примерно получасовой речи „хозяина“ исключительно на политическую и международную тему. Но и она закончилась. Начались здравицы в честь вождя. Помнится, как один академик (не наш , он, видимо, пришёл с другого совещания) , обратившись к Никите Сергеевичу, с огромным энтузиазмом и пространно убеждал его, что тот не только почетный шахтёр, металлург и т. п., но к тому же ещё и почётный атомщик.
Сидящий со мной рядом Ильичёв (по-моему, из Идеологического отдела ЦК КПСС) , которому явно надоел затянувшийся ритуал, с непроницаемым лицом шепчет, и мне отчётливо слышно: „Ну даёт!“ С другим моим соседом, министром обороны Р.Я. Малиновским, – беседа вполне деловая. Я предлагаю ему различные варианты бомб, он со всеми моментально соглашается. Только потом, на трезвую голову, я оцениваю юмор министра.
Никита Сергеевич предложил нам продолжить обед, сам ушёл, сославшись на дипломатическую встречу и на что-то ещё . Мы с восхищением подумали: вот работают!
* * *
По прошествии лет многие события, в которых довелось участвовать, представляются в ином свете. Да, мы радовались своим победам. Гордились первым искусственным спутником Земли, влюблялись в улыбку Гагарина – всё было наше, советское. Не хуже, чем у них там, „за бугром“.
Крупным событием было испытание первой атомной, а затем водородной бомбы. Мы тогда догоняли американцев. Это многое объясняло. Появление 100-мегатонного заряда знаменовало качественно иной этап – мы вроде бы выходили на рекорды, оставляя американцев позади.
Политики (и генералы от политики) убеждали друг друга, что в идеологическом отношении, в соревновании двух систем, как тогда было принято выражаться, это очень сильный козырь. Кое-кто и сегодня не прочь продемонстрировать „ядерные мускулы“. Мне жаль, если события того времени нас ничему не научили.
6. Когда тема себя исчерпала
В тех местах, где создавалось ядерное оружие, существовал, как уже отмечалось, жесточайший режим секретности. Об этом напоминали не только ряды колючей проволоки на въезде и выезде, но и многочисленные ограничения в обыденных вещах – от переписки с родственниками до (помилуй бог!) случайного контакта с каким-нибудь иностранцем.
Но даже в этих условиях люди не разучились свободно мыслить. Напротив, именно в таких закрытых городах, где правила бал Наука, где высшим критерием был профессионализм, не столь рьяно вели свою „воспитательную“ работу штатные идеологи КПСС. Временами казалось, что они просто побаиваются совать нос в наши профессиональные дела – для них это был тёмный лес.
По молодости лет мы этим даже бравировали. Да и время было какое – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина, хрущёвская „оттепель“! Иллюзию свободы мы поспешили принять за свершившийся факт. И вскоре едва не обожглись…
Осенью 1956 года меня и М.П. Шумаева (мы оба числились в парткоме агитаторами-пропагандистами) вызывает к себе секретарь по идеологии, чтобы прояснить положение в Венгрии. Оно к тому времени действительно было неясное, официальных разъяснений, оправдывающих КПСС, ещё не поступило. Мы недоумевали: зачем войска? Вразумительных объяснений не получили, однако диспут возник острый. В это время один человечек, незаметно от всех нас, включил магнитофон, а затем передал запись в горком партии в Челябинск-40 товарищу Мордасову.
А в ту пору идеологическая спираль, чуть было ослабленная, вновь стала закручиваться. Начался интенсивный поиск диссидентов, чтобы применить к ним карающий меч – в назидание всем остальным. Дело приобретало крутой оборот. Взволнованный В.Ю. Гаврилов кричал на меня: „Что ты там наговорил?!“ Положение осложнялось тем, что к нам ехал секретарь Челябинского обкома партии Михаил Соломенцев, впоследствии ставший членом брежневского Политбюро. Ему нужны были свежие разоблачительные факты. Мы же поначалу чувствовали себя вполне уверенно: нас позвали, мы что-то спросили, нам что-то ответили…
Но вскоре пришлось раскаяться в своём легкомыслии.
Вначале, во время слушания „дела“ на парткоме, события разворачивались, как я и предполагал, сравнительно спокойно. Но вдруг со стороны многоопытного политика последовал неожиданный вопрос: „ Консультация консультацией, а что вы на самом деле думаете по поводу этих событий? “
И тут меня понесло. Глупый карась попался на крючок.
На следующий день приезжал М.С. Соломенцев, чтобы произнести разоблачительную речь на партактиве города. В этот критический момент все силы включились в нашу защиту: Д.Е. Васильев, В.Ю. Гаврилов, А.А. Бунатян, К.А. Каргин и другие. В результате был достигнут компромисс: разгром будет, но в общей, обезличенной форме. Нам же надлежало помалкивать.
Так и вышло: разгон, пафос, гневные тирады с трибуны – и где-то в глубине зала двое потихоньку сопят, потеют и молчат.
Я с глубокой благодарностью вспоминаю своих самоотверженных старших товарищей, для которых гуманность и порядочность оказались выше партийной солидарности.
Много лет спустя, на другой партийной конференции, Армен Бунатян неожиданно для всех принялся демонстративно цитировать какую-то псевдонаучную чушь из журнала „Коммунист“ – официоза КПСС. А закончил словами, повисшими почти в гробовой тишине: „ Вы что-нибудь поняли? Я – нет!“
Естественно, пошли круги по воде, которые достигли ЦК КПСС и рикошетом ударили по „верхам“ нашего министерства. Ситуацию удалось нейтрализовать, подключились многие, было в этом коллективном заступничестве и моё скромное участие.
Я тогда, помню, сам обрушился на Армена: „Хоть бы посоветовался заранее!“ И получил в ответ высоконравственный урок, запомнившийся на всю жизнь: „В критические моменты, если ты на что-то решился, бери всю ответственность на себя. Советуясь, ты часть ответственности перекладываешь на другого – невольно делаешь его своим соучастником“.
Политический климат в нашей стране от десятилетия к десятилетию менялся с широким размахом, переходя от „оттепели“ к „крутым заморозкам“ и наоборот. Это ярко прослеживается на одной конкретной судьбе – судьбе академика Сахарова. Мы подробно беседовали об этом несколько лет назад с Г. Гореликом, который живо интересовался историей атомного оружия и личностью А. Сахарова. И я считаю возможным привести фрагмент магнитофонной записи того разговора с минимальными стилистическими поправками.
Г.Г.Какие отношения связывали вас с Андреем Сахаровым?
Л.Ф. Лично с академиком Сахаровым я никогда прямо не работал – в профессиональном смысле. Хотя мы встречались, большей частью в Москве – на совещаниях у руководства, научных конференциях. В конце 60-х он уже был не в Арзамасе, а в Москве и уже тогда начиналось его „диссидентство“. Как следствие – появляются протесты, в том числе академический.
– Письмо сорока академиков – это 1973 год.
– Да, где-то в это время… А у нас начальник главка – Цырков Георгий Александрович, талантливый человек. Он в Минсредмаше занимается нашими, чисто военными делами.
– Он, кажется, из Арзамаса?
– Он и в Арзамасе был, и в Челябинске, правда недолго, потом его забрали в Москву. Следом за Цырковым ушёл Захаренков. Вообще кадры деловые поставлял в основном Челябинск. В Арзамасе, считалось, диссиденты сидели: Альтшуллер, Сахаров… А у нас – деловые люди.
Так вот, звонит мне Цырков и говорит: „ Слушай, ко мне Славский обратился. Надо придумать, как нам Андрея Дмитриевича нейтрализовать. Министра в ЦК ругают: кого ты выпустил?! не справляешься! Ефим Павлович просил посоветоваться – может, кто дельное предложение даст. Я про тебя вспомнил. Подумай и напиши мне, как бы ты поступил. Пиши от руки, не печатай и никому про это не говори “. Легко сказать – напиши…
– А вы тогда понимали позицию Сахарова? Ведь многим она была неизвестна…
– Ну почему – понимал. Я и статью его читал – в министерстве книжка была, насчёт интеграции…
– „Размышления“?
– Да, „Размышления“. Только она какая-то была, по-моему, неполная и неаккуратно на машинке отпечатанная, очень неудобно было читать. Неожиданности в этом для меня не было. Политическое созревание Сахарова шло медленно, только потом он стал очень решительно отстаивать свою позицию. Тогда начали его поругивать, затем всё сильнее. Наконец, кампания откровенная началась. Поэтому я понимал, чем обеспокоено начальство.
Я написал два предложения и очень жалею, что к ним тогда не прислушались. Может, это как-то изменило бы положение. Я на самом деле считаю, что если бы Андрей Дмитриевич хоть половину времени оставался прежним физиком Сахаровым – а он тогда все сто процентов политике отдавал, – то он бы очень много сделал полезного, чисто материальных вещей. У него дар был изобретательский. Вот я как раз на это в своём письме и указывал.
– То есть найти ему работу?
– Да, найти работу – не удивляйтесь. При этом я обозначал два разнородных подхода. Один связывал с его политической деятельностью, но с пацифистским уклоном. Много, мол, непонятного в том, как всё-таки поступать с ядерным оружием: надо ли его развивать, вести ли испытания и как быть с борьбой за мир, что всему этому могут противопоставить вне и внутри, какие идеологические подходы и т. д.
Мне казалось, что подобные мысли у Сахарова всегда проскальзывали – так их бы в более конкретное русло и не выставлять его одиночкой. Предложение: давайте создадим Институт проблем ядерной войны или что-то в таком роде. Его поставим во главе, институт разовьёт взгляды на ядерную войну, оружие.
Это одна идея. И была другая, которая мне гораздо больше нравилась… Попытаемся обыграть такой момент. Сахаров вместе с Таммом являются родоначальниками мирного использования термоядерной энергии. И вроде бы негоже корифею быть в стороне от благородного дела. Опять же, зная его не очень-то коммуникабельный характер, предлагаю: создадим исключительные условия. Ну где хотите, может быть, даже лучше не в Москве, чтобы отсечь влияние, а где-нибудь, скажем, под Горьким. Создадим ему институт и скажем: „Андрей Дмитриевич, вам надоели военные бомбы, но остаётся во всей неисчерпаемой красе ядерная энергия. Давайте дерзайте, конкурируйте с Институтом Курчатова, с другими институтами. В помощь набирайте кого хотите, вам пару выпусков из университета придадим“. Тут я немножко не то чтобы лукавил, но писал это с воодушевлением – в надежде, если план состоится, попасть туда на работу…
Вот такой эпизод в жизни приключился, но, увы, он не имел практических последствий…
– И вы не знаете, пытался ли Славский как-то использовать подобные предложения?
– Не знаю. Но я должен сказать, что беспокоился Славский очень – и за него, и, конечно, за себя. Он всё время повторял: „Вон какая у меня шея, но и она не выдержит…“
– Вы в то время непосредственно с Сахаровым встречались?
– Лишь по воле обстоятельств. Как член Академии наук он мог входить в её руководящие органы. Но был наложен абсолютный запрет: ни в бюро отделения, не говоря уж о президиуме, – никуда не пускали. И чтобы на выборах не допустить никакой случайности, его ещё до голосования „задвигали“ в счётную комиссию. Я несколько раз оказывался в счётной комиссии вместе с Сахаровым.
Как правило, его выбирали председателем, и Андрей Дмитриевич оглашал результаты.
Запомнился такой эпизод. Считаем бюллетени, стопка бумаги лежит на столе. Когда всё закончили, Андрей Дмитриевич говорит мне на полном серьёзе: „ Кажется, мы хорошо сегодня поработали. Я думаю, эту бумагу заработали “. Берёт и кладёт её в портфель: „ Мне много сейчас бумаги нужно “. А я не могу разгадать – игра это или действительно у него совершенно тяжёлое материальное положение, ибо сомнений в его природной щедрости не было никогда.
Второй случай. Он меня как-то спрашивает: „ Лев Петрович, у вас на Урале колбаса есть? “ – „ Конечно. Приеду в следующий раз – привезу, если хотите. Килограмм, два – вам сколько надо? “ – „ Мне очень много надо колбасы “. Я начинаю теряться: „ Ну сколько? Пуд, два? “ – „ Что-то в этом роде “. Не знаю, как и ответить, – два пуда! Это ж со стыда сгоришь, покупая в магазине такое количество… Андрей Дмитриевич, видимо, уловил мои внутренние терзания: „ Я думал, есть возможность, как-нибудь со склада взять… “ Теперь меня начинает распирать любопытство: „ А вам зачем два пуда колбасы? “ – „ Знаете, я сейчас занимаюсь детьми заключённых, им нужно оказать помощь… “ – „ Может, какие-то денежные затруднения, так я готов… “ – „ Нет, нет, – перебил меня Андрей Дмитриевич, – ничего не надо… “ На этом разговор прервался.
И последний эпизод, который меня очень огорчил. Это уже когда Сахаров вернулся из Горького и, наверное, уже даже стал депутатом. Незадолго до его смерти. Мы сидели на общем собрании Академии наук. Почему-то он оказался в последних рядах, я к нему подсел, тихонько разговариваем. В 1989 году, напоминаю А.Д., Зельдовичу исполнилось бы 75 лет. Хорошо бы устроить серьёзную научную конференцию в честь Зельдовича в Арзамасе. Столь нервной реакции, которая за этим последовала, я, признаться, не ожидал. Все мы знали Сахарова исключительно вежливым человеком. Но в тот момент он ответил резко – никогда так со мной не говорил: „ Я никогда больше ногой не ступлю в Арзамас “.
А у меня не хватило такта, чтобы переменить тему. Я продолжал в том же духе: да что вы, Андрей Дмитриевич, да как интересно, да в старые места приехать, поглядеть – напрасно вы так…
Он сначала отвернулся, покраснел – было видно, что очень нервничает, а потом, воспользовавшись каким-то предлогом, встал и пересел в другое место. До сих пор не могу понять – то ли он в принципе не хотел ехать в Арзамас, то ли из-за одного Зельдовича. По его „Воспоминаниям“ можно и то и другое предположить. Из Арзамаса он так и не получил поддержки в своей общественной деятельности. Он обижался на Харитона (потом с ним вроде немножко наладились отношения) , а на Зельдовича – в особенности.
На мой взгляд, это несправедливо. Да, Зельдович не желал политикой заниматься, ему была интересна совсем другая – научная – область. Нельзя всех под свою гребёнку стричь…
– Может, такая реакция была вызвана тем, что Сахаров считал Зельдовича единственным своим другом? И полагал, что может рассчитывать на его поддержку?
– Возможно. Но я знаю и другое – Зельдович от подобных тем демонстративно отстранялся. Иногда, вспоминаю, он и нас предупреждал: „ Ребята, вы там сами за собой следите. Если влипнете, вытаскивать вас я не буду “. Зельдович всегда подчёркивал свою аполитичность, отстранённость от житейских неприятностей.
– В „Воспоминаниях“ у Сахарова приводится его разговор с Зельдовичем о Тамме и Ландау. Зельдович говорит: „ Знаете, почему Тамм оказался для дела полезнее, чем Дау? Потому что у Тамма выше моральный уровень “. Сахаров интерпретирует это как „ готовность отдавать все силы делу “. Но ведь и Ландау сделал много для проекта. Как вы это понимаете? Что имел в виду Зельдович в данном случае? Я знаю, его отношения с Ландау были непростые, но всё-таки. Тамм ведь тоже ушёл из проекта на ранней стадии…
– Ну как – на ранней? Только когда они с Сахаровым закончили свою бомбу. Тамм решился, приехал и конкретно действовал, а Ландау всё-таки предпочёл остаться в Москве. Кстати сказать, первые формулы для мощности взрыва были выведены в группе Ландау. Они так и назывались – формулы Ландау и были совсем не плохо сделаны, особенно по тому времени. Используя их, мы предсказывали все результаты. На первых порах ошибки составляли не более двадцати процентов. Никаких счётных машин: это потом девочки приехали, на „мерседесах“ считали, а мы – на логарифмических линейках. Никакой электроники, никаких уравнений в частных производных. Формула выводилась из общих ядерно-гидродинамических соображений, включала в себя некие параметры, которые надо было подгонять. Так что помощь группы Ландау была очень ощутимой.
– Недавно опубликовали досье Ландау, найденное в КГБ. Там есть его слова, что этими работами он занимается, только чтобы защитить себя… А Тамм работал в полный накал, судя по всему.
– Он всегда работал в полный накал, но это не значит, что всецело над бомбами. Он обучал нас науке, а также – совершенно великолепный человек Тамм – научил нас играть в винт, бридж, пить „Черри бренди“, другие хорошие вина, ликёры. Он был необыкновенно дружелюбный человек, великолепный рассказчик.
– А ведь и он от советской власти натерпелся изрядно. В 1937 году у него погибли младший брат, ближайший друг, который был замдиректора ФИАНа, и любимый ученик, Шубин…
– Лично я ни разу не слышал от него ругани в адрес властей. Или он не считал нужным нам, молодёжи, выражать это… Впрочем, то же самое могу сказать и о Франк-Каменецком. Удивительный человек был Давид Альбертович. Как бы вас ни научили в университете, на работе поначалу вы всё равно почувствуете полную свою беспомощность. И Франк до сих пор напоминает мне орла, который всё время приносит пищу своему орлёнку и закладывает в клюв, возится с ним. Это был прирождённый педагог.
– В ваше время он уже занимался астрофизикой?
– Тогда мы только водородной „трубой“ занимались.
– И вокруг вас люди тоже были целиком сконцентрированы на бомбовых делах, не отвлекались на чистую науку?
– По-разному было. Тот же Юрий Александрович Романов – он в своё время преуспевал в бомбах и нейтронах. Наступает момент, когда ему это надоедает – не видно ничего нового. И он всерьёз погружается в общую теорию относительности. Я, правда, ничего не понимал из того, что он про свои дела рассказывал. Сахарова, кстати, тоже необычайно тяжело было понимать простому смертному.
– Когда он излагал результаты?
– Да, и когда он излагал научные проблемы, и когда выступал уже будучи в Верховном Совете. Он необходимым, что ли, тембром голоса не обладал, заикался, останавливался. В общем, он не был оратором. Поэтому его нужно читать. „Воспоминания“ написаны великолепным литературным языком. Я не в состоянии так написать. Другое дело – ты можешь с ним соглашаться или не соглашаться. В отношении некоторых вещей я, например, не соглашаюсь с ним.
– Это связано с политикой или другими его оценкам?
– В политические моменты я сейчас не вникаю. Но для меня странно, что во всех воспоминаниях у Сахарова (как , впрочем, и у Харитона) фактически не нашлось доброго слова о Челябинске-70 .
– Зато у Сахарова есть фраза, что самую большую бомбу он придумал только для того, чтобы показать бессмысленность количественного увеличения.
– Как мне кажется, это некая игра. С возрастом возникают непроизвольные искажения, свойственные любому человеку. Возьмись любой из нас писать – всегда будут субъективные оттенки и преувеличение своей роли. Я хочу сказать совсем откровенно. Мне кажется, ореол сахаровский был отчасти искусственно преувеличен московским начальством, чтобы таким образом поддержать, как бы это помягче выразиться, русский дух в руководстве объектом. И несколько отодвинуть еврейскую прослойку в лице Харитона, Зельдовича, Цукермана и других.
– Поэтому его сразу сделали академиком?
– Не только. Огромнейший шум был вокруг его „слойки“. Хотя очевидно было даже в ту пору, что не так уж велико достижение.
– Я слышал, что Игорь Евгеньевич Тамм был не в восторге, когда Сахарова, минуя членкорство, сразу в академики выбрали. Зельдович ещё не был академиком, а Сахаров уже стал…
– Именно. А ведь если разобраться, создание первых бомб было по тем временам задачей куда более сложной. Ведь „сахаризация“ – это, в конце концов, очень простая вещь. Нужно было только догадаться. Хотя всегда, когда кто-то объяснит, становится просто, а на самом деле главное – придумать, сообразить, сказать об этом.
Безусловно, учёные из ФИАНа в лице своих лидеров Тамма и Сахарова сыграли решающую роль. Были вовлечены и другие люди – Романов, Гинзбург, я видел сохранившиеся документы на этот счёт. Однако, мне кажется, роль ФИАНа порой преувеличивается. Иногда даже раздаются разговоры, что здесь, в ФИАНе, сделали водородную бомбу. Это, конечно, не так, и даже совсем не так. Я готов согласиться с тем, что некоторые очень важные вещи были сделаны по линии ФИАНа.
Основополагающая идея водородной бомбы – хорошее сжатие материала, тогда он сгорит полнее. Предположим, вы начинаете сжимать термоядерный материал тяжёлой оболочкой. Оболочка внешним усилием разгоняется и приближается к центру, вещество достигает максимального сжатия, затем оболочка полетит обратно, вещество разлетится. В наиболее выгодный момент максимального сжатия вещество и должно загореться.
Как видно, всё время оболочка находится в стадиях ускорения, того или иного знака. А ускорение, как мы знаем по Эйнштейну, равносильно тяготению. Поэтому при соответствующем знаке ускорения конфигурация становится неустойчивой. Вы видели когда-нибудь картинки: лежит ртуть на воде, вы её аккуратно налили, а потом из-за каких-то случайных причин – вздрагивания или чего-то ещё – она начинает проваливаться, иногда целый кусок отделится, упадёт? Типичная картина неустойчивости.
Оболочка по отношению к лёгкому материалу ведёт себя аналогичным образом на определённых стадиях сжатия. Чем больше сжатие, тем агрессивнее проявляет себя эта причина. Особенно опасно, когда проваливается инертный материал (такие материалы на самом деле использовали) , может быть беда: всё перемешалось, нет ни плотности, ни горения, ни температуры, посторонняя теплоёмкость подключилась, энергия тратится впустую…
Когда возникают турбулентность, неустойчивость, теория оказывается необычайно сложной. И главное – неоднозначной. Вот тут решающее слово было всё-таки за ФИАНом. Конкретно этим занимались Фрадкин и Беленький. До сих пор я считаю, что они этой теорией дали возможность приблизиться к истине.
– А какова, на ваш взгляд, роль академика Сахарова в прекращении испытаний? Сам он пишет, что подавал докладные записки, обосновывающие возможность запрета испытаний в трёх средах. Приходили ли к вам какие-то поручения?
– Нет, специальных поручений я не припомню. Но здесь, я думаю, действительно была большая, даже выдающаяся роль Сахарова. Его послушали. Ведь он тогда уже был фигурой и имел возможность влиять на обстановку. К 1963 году, когда был подписан московский договор, он уже привык к своей выдающейся роли.
– Как объяснить, что эта роль не стала ему скучновата? Почему он так поздно вернулся к науке?
– У меня впечатление, что он не вернулся. При его потенциале к науке он не вернулся.
– А как было с вами, что побудило вас оставить „бомбовые дела“?
– Это вызревало постепенно. А началось, когда тема, по мнению лидеров, исчерпала себя. Настала своеобразная конверсия.
– Тема исчерпалась в физическом отношении?
– Пришла в насыщение. Раньше она потеряла интерес для Зельдовича, потом – в значительной степени для Сахарова. И это, несомненно, один из мотивов, почему он переключился на политику. Момент реабилитации, что ли… Ведь не хотели же мы на самом деле этими бомбами народ уничтожить!
Помню, с огромным энтузиазмом в Челябинске мы работали над мирным использованием взрывов. Это целый класс зарядов, совершенно других. Их особенность состояла в том, чтобы как можно меньше оставить после себя радиоактивности. Если бы не радиоактивность, такие взрывы нашли бы широкое применение, мне кажется. Поэтому главный мотив всегда был направлен на то, чтобы как можно сильнее уменьшить радиоактивность. Очень хитрые конструктивные находки здесь появились.
– И в научном смысле интересные?
– Да. А главное – профессионально мы расширяли свой круг. Проявлялся элемент реабилитации, как следствие – воодушевление.
– А того признания, что вашими стараниями была уравновешена международная обстановка, что не разразилась новая мировая война, было недостаточно?
– На первых порах это работало, а потом уже появились другие мысли, вольнодумство стало развиваться.
– Например, нужно ли ядерное оружие вообще?
– И этот вопрос, конечно. Одна из причин моего ухода из Челябинска состояла в том, что мне стала ясна, правда не в такой категорической степени, как сейчас, абсолютная бессмысленность испытаний. Я написал письмо Славскому о том, что если мы как страна в одностороннем порядке прекратили бы испытания, то политическая выгода для государства была бы намного больше, чем те технические крохи, которые возникают в результате испытаний.
– Это какие годы примерно?
– Незадолго до моего отъезда – 1977 год. Меня уже стало очень раздражать, что испытания проводились ради испытаний, а не для дела.
– Вы имеете в виду подземные взрывы?
– Тогда уже только подземные были. Причина моего негативного отношения к продолжению испытаний была чисто техническая. Я видел, как бы это выразиться поосторожнее, некоторую непорядочность. Военные, да и многие из нашего ведомства, хотели доказать, что они при деле. А к тому времени мы уже провели, грубо говоря, тысячу испытаний. Всё уже было известно и десятки раз проверено – ничего принципиально нового полигонные опыты не дают. Вот я и написал тогда письмо Славскому: вооружите партию политическим мотивом – идём, дескать, на односторонние действия.
– Он вам что-нибудь ответил?
– Нет, ничего не ответил письменно, и вообще никаких документов за этим не последовало. А само моё письмо тут же засекретили. Никому не давали. Ребята, конечно, узнали. Там были кое-какие откровенные вещи сказаны, связанные с устройством бомбы. Секретный был материал. У меня спрашивали: дай хоть почитать, всё-таки интересно. А что я скажу? Письмо в спецотделе – идите и читайте. Да только где там! Запрет с самого „верха“ пришёл, из Москвы – никому не давать.
– Даже тем, кто имел доступ?
– Даже им. Потому что письмо носило некоторый политический оттенок. Я не хочу себя сравнивать, но было что-то похожее на то время, когда сахаровские книги запрещали. Тогда я и решил окончательно уходить с объекта. Собрал воедино все доводы: уж четверть века отмахал за „колючкой“, дети выросли – и дочь, и сын уже учились в МГУ. Да плюс это топтание на месте, те же испытания – вроде что-то изображаем, а по большому счёту ничего не делаем.
Не без трудностей выбирался я из Челябинска, и помог мне Славский. Смею надеяться, что и то самое письмо сыграло не последнюю роль.