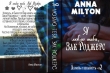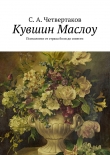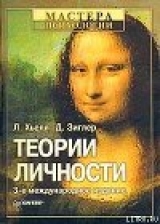
Текст книги "Теории личности"
Автор книги: Л Хьелл
Соавторы: Д Зиглер
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 66 страниц)
При интерпретации результатов MMPI используются два основных подхода: клинический и экспертный. В процессе клинической интерпретации исследователь просматривает показатели по каждой шкале, отмечает особенности профилей (получаемых в том числе путем объединения в одну группу высоких оценок по определенным шкалам), а также привносит в интерпретацию свой личный профессиональный опыт и знания об индивидуумах с определенными типами профиля, чтобы составить заключение об имеющихся у пациента психологических проблемах и патологических чертах характера. И наоборот, когда осуществляется экспертная интерпретация, психолог (или компьютер) просто использует атласы MMPI, содержащие эмпирически установленные характеристики типов личностных особенностей, соответствующие каждой конфигурации профиля. Процесс сравнения данного профиля личности с большим количеством ранее полученных профилей обеспечивает интерпретацию, основанную на статистических расчетах и нормах (без какой – либо субъективной оценки психолога). Сравнение данного профиля личности с другими профилями также дает возможность клиницисту поставить правильный диагноз и выбрать адекватную терапию для пациента.
Хотя MMPI зарекомендовал себя в качестве ценного диагностического инструмента, его применение ни в коем случае не ограничивается условиями клиники (Kunce, Anderson, 1984). Он применяется, например, для решения вопроса о профессиональной пригодности лиц, желающих устроиться на работу (Dahlstrom et al., 1975). Однако использование MMPI в качестве тестовой процедуры для кандидатов при приеме на работу вызывает в настоящее время споры. Эта проблема фигурировала даже в судебных разбирательствах о посягательстве на тайну личности (Dahlstrom, 1980).
MMPI также широко используют в исследованиях, посвященных изучению динамики семейных отношений, нарушений пищевых привычек, патологической зависимости от тех или иных веществ; суицидов, а также готовности к лечению или реабилитации (Butcher, Keller, 1984). Кроме того, вопросы из этого теста использовались при создании большого количества других личностных тестов, включая «Шкалу проявления тревожности Тэйлора» (Taylor, 1953), «Личностный опросник Джексона» (Jackson, 1974) и «Калифорнийский психологический опросник» (Gough, 1987). Наконец, тот факт, что MMPI переведен примерно на 125 иностранных языков, является свидетельством его популярности и ценности как метода клинической оценки (Butcher, 1984).
Сила и слабость методик самоотчета. Оценка индивидуальных различий – важный аспект персонологии. Однако может возникнуть вопрос: почему, раскрывая эту тему, мы столько внимания уделяем именно самоотчету. Основная причина, возможно, заключается в том, что тесты самоотчета дают более полную, определенную и систематизированную информацию о личности, чем нерегулярно получаемые сведения. В данном случае возможные личные предубеждения или теоретические пристрастия экспериментатора компенсируются таким достоинством метода, как объективность подсчета результатов. Кроме того, с этими тестами может легко работать человек, имеющий относительно небольшую формальную подготовку. Тесты самоотчета обычно обладают большей надежностью по сравнению с другими методами, а это само по себе является определенным преимуществом. Наконец, многомерные опросники позволяют измерять одновременно несколько личностных особенностей.
Несмотря на то, что тесты самоотчета пользуются популярностью у профессиональных психологов, их применение сопряжено с некоторыми проблемами, которые требуют рассмотрения. Основные их ограничения состоят в том, что они не защищены от преднамеренного обмана, влияния эталонов социальной желательности и установочного поведения (Kleinmuntz, 1982).
Персонологам, применяющим методы самоотчета, приходится зависеть от готовности респондентов давать о себе точную информацию. Проблема состоит в том, что в некоторых из шкал самооценки преобладают вопросы, дающие возможность испытуемым относительно легко вводить исследователя в заблуждение. Умышленная же ложь наиболее вероятна тогда, когда респондент убежден, что извлечет для себя какую – то пользу, дав ответы, не соответствующие действительности (Furnham, 1990). Претендент на вакантную должность может «смошенничать», умышленно давая положительные ответы на вопросы, от которых, как ему кажется, зависит, сложится ли о нем благоприятное мнение и будет ли он принят на работу. И, наоборот, человек может «смошенничать» в худшую сторону и преднамеренно отвечать «нет» на определенные вопросы, полагая, что это создаст о нем впечатление как о человеке с более серьезными психическими нарушениями, чем это есть на самом деле. Последнее может иметь место в ситуации, когда необходимо оценить душевное состояние обвиняемого в уголовном преступлении.
Лучшая защита от этой опасности – встроить в тест контрольные шкалы, позволяющие обнаруживать преднамеренную ложь. Например, MMPI содержит шкалы, цель которых – показывать, когда обследуемые лгут, когда проявляется их психологическая защита или когда они дают уклончивые ответы. Другой путь – вводить в тест дополнительные вопросы, прямо не относящиеся к изучаемому феномену, благодаря чему цель теста станет менее ясной для испытуемого. Тем не менее, эти попытки могут оказаться успешными только отчасти: трудно определить, до какой степени испытуемый сможет исказить информацию о себе. Поэтому по возможности важные заключения о личности испытуемого не должны основываться только на результатах теста самоотчета.
Другой недостаток шкал самоотчета связан со встречающейся у многих людей тенденцией отвечать таким образом, чтобы «хорошо выглядеть». Эта тенденция носит название социальной желательности, и она составляет проблему при использовании не только тестов самоотчета, но и других оценочных процедур. В отличие от преднамеренной лжи, в данном случае, испытуемые могут не осознавать, что они искажают ответы в благоприятном направлении; они непреднамеренно пытаются представить себя в лучшем свете, чем это имеет место в действительности.
Защитить метод от возможных искажений в сторону социальной желательности или ослабить их влияние можно с помощью нескольких приемов. Некоторые тесты самоотчета (такие как MMPI) содержат вопросы, выявляющие вероятность того, что респондент дает социально желательные ответы. В других тестах предусмотрено прямое измерение количества «приукрашивающих» ответов. Например, «Шкала социальной желательности» Кроуна – Марлоу (Crowne, Marlowe, 1964) сконструирована с целью измерения тенденции представлять себя в выгодном свете. Другой способ решить эту проблему заключается в тщательной оценке социальной приемлемости каждого вопроса до его включения в тест. В любом случае, очевидно, что при интерпретации тестового материала психологи должны знать о потенциальной возможности «загрязнения» результатов за счет тенденции социальной желательности.
Последняя проблема связана с тем, что некоторые люди склонны отвечать на вопросы теста определенным образом, независимо от содержания тестового материала. Например, одни испытуемые отвечают утвердительно гораздо чаще, чем другие, они фактически соглашаются с каждым вопросом теста. Эта тенденция отвечать согласием является основной проблемой шкал самооценки, в которых требуются ответы типа «верно – неверно» или «да – нет» (как MMPI). Если тенденцию отвечать на вопросы положительно не удастся как – то нейтрализовать, то в случаях постоянного согласия мы получим искаженные результаты, непригодные для оценки личностных особенностей данного человека. К счастью, тенденция отвечать преимущественно согласием является относительно легко решаемой проблемой. Большинство авторов формулируют вопросы теста таким образом, чтобы ответы «верно – неверно» и «да – нет» примерно в равной степени раскрывали бы измеряемую черту. Благодаря этому при подсчете показателей теста любое косвенное влияние, оказываемое тенденцией отвечать преимущественно «да» или преимущественно «нет», уравновешивается.
Проективные методы
Проективные личностные тесты первоначально предназначались для помощи клиническим психологам в диагностике характера и сложности эмоциональных нарушений у пациента. Основанием для появления проективных тестов служит положение теории Фрейда, согласно которому неосознаваемые процессы важны для понимания психопатологии. Соответственно, цель проективной оценки заключается в раскрытии неосознаваемых конфликтов личности, ее страхов и источников беспокойства. Термин проективный метод предложил Л. Франк (Frank, 1939) для обозначения методов оценки, в которых испытуемым дают неопределенные стимулы, содержание которых не предполагает четких, обусловленных данной культурой ответов. Подобные методы, представляющие собой скорее непрямой подход к оценке личности, позволяют людям «проецировать» на неопределенный материал свои чувства, потребности, установки и отношение к жизни. Предполагается, что в ответах на тестовые стимулы (такие как чернильные пятна или расплывчатые картинки) обнаруживаются признаки подавленных импульсов, защитные механизмы личности и другие ее «внутренние» аспекты. Все проективные тесты отличаются рядом важных особенностей. Все они содержат неопределенные или неструктурированные тестовые стимулы. Экспериментатор никогда не сообщает испытуемому истинной цели тестирования и не говорит, как будет подсчитывать или интерпретировать его ответы. В инструкциях подчеркивается, что правильных или неправильных ответов здесь не может быть, и испытуемый вправе отвечать так, как ему вздумается. Наконец, подсчет и интерпретация ответов испытуемого основываются в значительной степени на субъективных суждениях экспериментатора, который опирается на свой клинический опыт.
Существует много различных типов проективных методов. Линдсей подразделяет их на следующие пять категорий (Lindzey, 1939):
1. Ассоциативные методы, требующие отвечать на стимул первой пришедшей в голову мыслью или возникшим чувством. Примеры: «Тест словесных ассоциаций Меннингера» (Rapaport et al., 1968) и «Тест чернильных пятен» Роршаха (Rorschach, 1942).
2. Конструктивные методы, требующие создания или придумывания чего – либо. Например, в «Тесте тематической апперцепции» (Morgan, Murray, 1935) испытуемым предъявляют серии картинок с изображением простых сцен и предлагают составить рассказы о том, что происходит в этих сценах и какие чувства испытывают персонажи.
3. Методы завершения предлагают испытуемому завершить мысль, начало которой содержится в стимульном материале. В качестве последнего могут выступать незаконченные предложения (например, «Меня раздражает, когда…»). К методам завершения относятся «Тест рисуночной фрустрации Розенцвейга» (Rosenzweig, 1945) и «Тест незаконченных предложений Роттера» (Rotter, Rafferty, 1950).
4. Экспрессивные методы предлагают выразить свои чувства посредством такой деятельности, как рисование картинки или психодрама. Например, в тесте «Нарисуй человека» К. Маховер (Machover, 1949), от испытуемого требуется нарисовать человека, а затем – человека противоположного пола.
<Тест «Нарисуй человека» – это проективная методика, часто используемая психологами для оценки скрытых мыслей и чувств ребенка.>
5. Методы выбора, или распределения по порядку, требуют от испытуемых отбирать или располагать в порядке предпочтения набор стимулов. Например, тест Сонди (Szondi, 1944) содержит инструкцию выбирать из предложенных изображений людей те, которые или больше всего понравились, или больше всего не понравились. В настоящее время подобные методики используются редко.
Следует добавить, что эти пять категорий проективных методов не являются взаимоисключающими, и во многих тестах используются две и более из них.
Для лучшего представления о процедуре проведения, обсчете результатов и интерпретации проективных тестов мы подробнее остановимся на одном из них. Это тест Роршаха, часто используемый для оценки бессознательных процессов.
Герман Роршах, известный швейцарский психиатр, изобрел «Тест чернильных пятен» в 1921 году. В последующие годы этот тест стал наиболее популярной и широко используемой проективной методикой (Sweeney et al., 1987). Тест состоит из десяти карт. Карты содержат изображение билатерально симметричных пятен, которые Роршах получил, капнув чернила на лист бумаги и сложив его пополам (рис. 2–4). Пять карт черно – белые, пять – цветные. Каждое пятно отпечатано в центре карты из белого картона размерами около 18 x 24 см. Тест обычно проводит один и тот же экспериментатор с одним испытуемым в два этапа. На первом этапе испытуемому предлагают расслабиться и спонтанно отвечать на тестовые стимулы. Экспериментатор говорит: «Я собираюсь показать вам набор чернильных пятен и хотел бы узнать, что вы видите в каждом из них». Испытуемый берет в руки каждую карту (в определенном порядке), рассматривает ее и описывает, что он видит в этом пятне, что это пятно ему напоминает и на что оно похоже. Экспериментатор записывает все, что говорит испытуемый о каждом пятне (например: «Это напоминает мне двух медведей, танцующих вокруг походного костра»). Затем анализируется дословная запись ответов, или протокол. Экспериментатор также наблюдает за поведением испытуемого во время проведения теста, уделяя особое внимание тому, какие позы принимает испытуемый и сколько времени ему требуется, чтобы ответить по каждой карте.

Рис. 2–4. Чернильное пятно, похожее на те, что использованы в тесте Роршаха. Испытуемого просят объяснить, что он видит в этом пятне. (Lisa Brusso)
Когда ответы на все карты получены, испытуемому снова показывают карты в том же порядке. На этой стадии эксперимента, называемой «расследование», экспериментатор пытается определить, какие характеристики пятна обусловили предыдущие ответы испытуемого. Если, например, испытуемый говорит, что первая карта напоминает ему слона, может последовать вопрос: «Что именно в этом пятне напоминает вам слона?» Во второй фазе процедуры экспериментатора в основном интересуют два вопроса. Первый – какую часть площади карты занимает то, что испытуемый на ней увидел и обозначил в своем ответе. Второй вопрос касается того, какие особенности или качества пятна привели к тому или иному ответу (например, форма, цвет, характеристики людей или животных). Оба вопроса задаются в отношении каждого ответа испытуемого.
Для подсчета и интерпретации теста Роршаха предложены разные системы (Beck, 1945; Klopfer, Davidson, 1962; Piotrowski, 1957). Каждая из них является сложной и требует как длительной отработки навыков клинической оценки, так и знаний в области теорий личности, психопатологии и возрастной психологии. Независимо от того какая система используется, фактически все они оценивают ответы субъекта на основе четырех счетных факторов (Klopfer, Davidson, 1962):
1. Локализация имеет отношение к тому, какую часть площади пятна занимает фигура, упоминающаяся в ответе.
2. Детерминанты представляют особенности пятна (например, форма, цвет, тени, кажущееся движение), которые оказались существенными для формирования ответа испытуемого. Например, подсчитывается детерминанта цвета в том случае, если субъект сообщает, что видит пятно крови, потому что части пятна раскрашены в красный цвет.
3. Содержание отражает существо ответа: человек ли это, животное, растение, какой – то объект и так далее. Большинство систем подсчета выделяют в содержании несколько отдельных категорий для классификации ответов, такие как человеческие фигуры, фигуры животных, сексуальные объекты, одежда, географические очертания.
4. Популярность/оригинальность основывается на том, насколько типичен или атипичен данный ответ относительно имеющихся норм по каждой карте Роршаха в отдельности. Этот фактор обычно подсчитывается в категориях степени, поскольку количество имеющихся нормативных ответов так велико, что получение совершенно уникальной реакции в новых исследованиях маловероятно.
Дальнейший анализ основан на частоте отнесения ответов в каждую из вышеупомянутых категорий. Можно также подсчитать соотношение категорий, чтобы получить дополнительную информацию о личности. Это – примеры количественного подхода к тесту. Однако равное значение здесь имеет анализ актуального содержания ответов испытуемого, то есть качественный подход к его оценке. Содержание ответов (видит ли, например, испытуемый в основном людей или животных) имеет существенное значение для установления различий при интерпретации личностных характеристик человека.
Насколько полезен тест Роршаха для оценки личности? С эмпирической точки зрения отношение к его психометрическим свойствам у исследователей совершенно скептическое (Anastasi, 1988; Gamble, 1972; Kendall, Norton – Ford, 1982). Его внутренняя согласованность низка, ретестовая надежность также низка, прогностическая и текущая валидность в большинстве случаев сомнительна (Peterson, 1978). Еще больше усложняет картину тот факт, что в отношении теста Роршаха отсутствует необходимая степень надежности субъективных оценок. Исследования показывают удручающе низкую степень согласия между двумя или более экспертами, подсчитывающими одни и те же ответы. Короче говоря, ввиду отсутствия достаточной надежности и валидности результатов скептики отрицают полезность теста Роршаха как оценочной стратегии.
Для решения этой и других проблем исследователи разработали счетные схемы, обладающие лучшими психометрическими свойствами. Заслуживает внимания попытка стандартизации теста Роршаха с помощью введения объективных критериев и норм для детей и взрослых (Exner, 1978, 1986). Знакомство с этой разработкой, названной автором «Усовершенствованной системой», убеждает, что тест Роршаха может быть хорошим инструментом оценки. Были предприняты и усилия в направлении интерпретации тестовых ответов с помощью компьютера, а также создания параллельной формы теста для группового проведения (Holtzman, 1988). Однако, несмотря на эти усовершенствования, тест Роршаха все еще не нашел широкого применения за пределами клиники.
Полемика вокруг теста Роршаха вряд ли уляжется в ближайшее время. Несмотря на принимаемые меры по созданию надежных и валидных систем тестовых оценок (Exner, 1986), психологи – практики продолжают критиковать тест за излишне глубинную интерпретацию, не дающую возможности считать тест адекватным измерительным инструментом параметров личности. В то же время многие психологи будут продолжать использовать тест в клинической практике, невзирая на то, что говорят о нем исследования. Даже если рассматривать тест Роршаха как метод, имеющий только дополнительное диагностическое значение, маловероятно, что его популярность снизится в обозримом будущем (Lubin et al., 1985).
Сила и слабость проективных методов. Сторонники проективных методов заявляют, что последние обладают двумя уникальными преимуществами. Первое заключается в том, что тестовые стимулы здесь относительно неоднородны и неоднозначны, благодаря чему испытуемый не знает, какую психологическую интерпретацию получат его ответы. Проективные методы допускают почти неограниченное разнообразие возможных ответов, что позволяет скрыть от испытуемого истинную цель тестирования, а также снижает вероятность фальсифицированных и установочных ответов. Во – вторых, непрямой способ подачи тестового материала не приводит в действие психологические защитные механизмы испытуемого, что дает возможность получать информацию о таких аспектах личности, которые обычно скрыты от наблюдения.
Критика проективных тестов сводится к тому, что они недостаточно стандартизированы, отсутствует четкая процедура их проведения, оценки и интерпретации. В частности, оценка тестовых показателей часто зависит от навыка, клинического опыта и интуиции психолога, что делает их чрезвычайно ненадежными. Однако справедливо и другое: опыт показывает, что большая практика в обработке тестовых показателей способствует удовлетворительному уровню внутренней согласованности оценок (Goldfried et al., 1971; Exner, 1986).
Более серьезную проблему составляет интерпретация уже подсчитанных показателей того или иного теста. Хотя клинические психологи обычно полагаются на собственный опыт в интерпретации результатов проективных методик, сами методики не всегда одинаково удачны. К сожалению, интерпретация таких тестов слишком часто зависит от догадок и интуиции клинициста, а это не способствует повышению научной ценности проективных тестов.
Наконец, выдвигается еще один критический аргумент: до сих пор не получено достаточно убедительных доказательств валидности проективных тестов (Aiken, 1984; Peterson, 1978). Поэтому психологи стараются формулировать итоговое заключение не только на основании проективных тестов. Скорее, сами проективные тесты стоит рассматривать в контексте другой информации, полученной в результате интервью, анализа клинического случая и тестов самооценки.
В заключение можно сказать, что, несмотря на проблемы, связанные с применением проективных тестов, многие клинические психологи продолжают к ним обращаться при изучении неосознанных конфликтов человека, его фантазий и мотивов (Singer, Kolligian, 1987). В то же время, активное применение на практике не снижает остроту проблемы, связанной с их надежностью и валидностью.