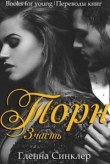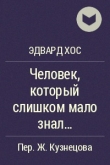Текст книги "Девушка из Золотого Рога"
Автор книги: Курбан Саид
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 6
«…И сказал народ Китая: «Уничтожим турков. Тюркского народа больше не должно существовать».
Тогда заговорило небо тюрков, священная земля и вода тюрков: «Тюркский народ не должен исчезнуть с лица земли. Да здравствуем мы».
Произнеся эти слова, небо подняло моего отца Ильтерес-хана за волосы над всем народом. И тогда мой отец, хан, сказал….»
Азиадэ водила пальцем по руническому тексту.
«Вообще-то не «сказал», а «провозгласил»», – устало подумала она и таинственные угловатые линии древнего шрифта поплыли у нее перед глазами.
Тысячи лет назад великий древний народ воздвиг себе памятники в далеких монгольских степях. Народ этот перекочевал, но их примитивные письмена сохранились. Ветхие и загадочные глядели они в бескрайние монгольские степи, в темное зеркало холодной безымянной реки. Камни осыпались и кочевники, проходя мимо, боязливо смотрели на разрушенные памятники былой славы. Путники из далеких стран, путешествуя в изнуряющей жаре монгольских степей, приносили на Запад вести о загадочной письменности. Снаряжались походы, опытные руки переписывали таинственные руны. Потом, аккуратно напечатанные, они перекочевывали в тихие кабинеты ученых. Сухие, жилистые пальцы бережно водили по этим таинственным знакам, ученые лбы морщились над ними. Постепенно тайна письменности была раскрыта, и из угловатых ветхих иероглифов донесся вой степных волков, возник древний кочевой народ, появился вожак на низкорослом, долгогривом коне, зазвучали рассказы о древних путешествиях, войнах и героических походах.
Азиадэ растрогано смотрела на рунические письмена. Ей казалось, что она читает в этих черных угловатых линиях историю своих снов, желаний и надежд. Что-то притягивающее и могущественное возникало за этим беспорядком примитивных форм и словообразований.
Ей открывалось таинство начала, сокрытое в древних звуках ее рода.
Перед ее взором вставали первые представители зарождающегося народа, которые когда-то перешли обледеневшие снежные степи и создали первые звуки и тоны своего языка.
Азиадэ провела своим маленьким пальцем по линиям письменности и медленно прочитала:
«Моему брату Гюль-Текину было всего шестнадцать лет, и посмотрите, что он сделал! Он вступил в битву с людьми с косами и победил их. Он ринулся в бой, и его воинственная рука настигла врага – Онг Тутука, правившего пятьюдесятью тысячами людей».
Резко прозвенел звонок. Азиадэ подняла голову и потерла уставшие глаза. Она сидела в маленьком читальном зале семинария, а вокруг доносились перешептывания синологов, приглушенные гортанные голоса арабистов и тихие движения губ египтологов, проглатывающих согласные и открывающих все тайны долины Нила, вплоть до загадки правильного произношения слова Осирис.
Азиадэ поднялась и посмотрела на расписание.
– Первые Османы, – прочитала она. – Лекционный зал 8: доцент доктор Майер.
У входа в лекционный зал ей встретился венгр, доктор Журмай, который восторженно рассказал ей о только что открытом туранизме в финно-угорских агглютинациях.
Азиадэ рассеянно слушала его. Она всего один раз в жизни видела живого финно-угра. Это был полный блондин – стюард из Гельсинфорса, от которого пахло ромом, и который постоянно сквернословил. Странно было думать, что его род происходил из тех же далеких степей, откуда когда-то появились первые османы, перекочевавшие потом на Запад.
– Это аорист, – сказал венгр. – Вы понимаете – аорист.
Азиадэ понимала. Она вошла в аудиторию. Синолог Гётц склонился над какой-то бумагой и объяснял татарину Рахметуллах значение иероглифа «тю-ке». Он красиво выводил изогнутые линии и говорил приглушенным голосом:
– Понимаете, коллега, в данном случае главное – не значение, а сам звук. У китайцев нет буквы «р», так что иероглиф «тю-ке» означает «тюрке».
Рахметуллах сидел с открытым ртом, и, морща лоб, раздраженно смотрел маленькими глазками на иероглиф, который не имел значения.
Моложавый, но абсолютно седой Майер производил впечатление очень несчастного человека, наверное потому, что еще не стал даже профессором. Он обладал поразительной способностью говорить на всех восточных языках со швабским акцентом. Он посвятил лекцию рассказу о золотых алтайских горах, откуда произошел народ, о великом герое – Огуз-хане, сыне Кара-хана, давшем народу армию, и об Эртогруле, прародителе Османов, который с четырьмястами сорока четырьмя всадниками выступил против греков и основал империю Османов.
– У Эртогрула было трое сыновей, – говорил Майер со своим швабским акцентом, – Осман, Гедусальп и Сураяты Саведжи. Первый из них и является, собственно говоря, создателем движения, исследованием которого мы здесь занимаемся.
На этом лекция окончилась, так как прозвенел звонок.
Азиадэ сбежала по лестнице вниз и спряталась в библиотеке, как улитка в своем домике. Она взяла с полки первую попавшуюся толстую книгу и с удивлением прочитала: «Кугатку-Билик» – «Блаженные знания». «Уйгурская этика второго столетия».
Она раскрыла книгу.
– Страница пятьдесят два, стих пятнадцать, – загадала она и, трепеща от суеверного любопытства, стала расшифровывать таинственные уйгурские предложения. Шрифт был очень неясный, формы незнакомы. Давно уже прозвенел звонок, но Азиадэ, погруженная в тайны прошлого, не обратила на это никакого внимания. Наконец она смогла прочитать:
«Все, что дается тебе, приходит и уходит, остаются лишь блаженные знания. Все, сущее в мире исчезает и заканчивается. Остается только написанное, остальное утекает».
Мысль, несомненно, была очень высокой, однако не имела ни малейшего отношения к тому, что волновало Азиадэ. Склонив голову, она печально посмотрела на свой перевод, чувствуя себя человеком, с трудом откупорившим бутылку, которая оказалась пустой. Азиадэ сложила листок, осмотрелась и с радостью обнаружила, что она в комнате одна.
Нет, твердо решила она, так больше продолжаться не может. Каждый день Хаса приезжает за ней на машине к дому, отвозит в университет, ездит с ней на прогулки в Грюневальд, дарит цветы и как бы между прочим намекает на радости семейной жизни. Иногда она позволяет ему погладить ей руку, а то и прикоснуться губами ко лбу.
Азиадэ сердито посмотрела на длинные ряды книжных полок. Все могло бы быть по-другому, если бы она согласно их обычаям, скрывала лицо под чадрой. Доктор Хаса никогда не увидел бы ее, жизнь текла бы в своем обычном русле, и ей не пришлось бы размышлять о таинстве любви вместо того, чтобы исследовать туранские префиксы.
Она задумчиво поскребла ногтем темное дерево столешницы. Наверное, они совершили большую ошибку, покинув родину. Но этого захотел ее отец – и теперь, на ее голову обрушилась любовь к чужому человеку, который чувствует, думает и действует совсем не так, как на ее родине.
Азиадэ глубоко вздохнула. Ей было очень стыдно, она искренне презирала себя. Хаса буквально преследует ее, и нет никакой возможности вырваться из замкнутого круга его слов, взглядов, жестов.
Азиадэ прошлась вдоль книжных полок. Лысый администратор у двери, перебиравший каталог, вопросительно посмотрел на нее. Она притворилась, что ищет книгу, и пробежала взглядом по «Грамматике суахили» и «Введению в среднеперсидский».
«Выйти замуж», – в отчаянии подумала девушка и вернулась на свое место.
Она рассеянно рисовала на лежащем перед ней листе головы демонов, различные геометрические фигуры и неизвестные окончания неведомых слов. Потом отложила карандаш и с удивлением обнаружила, что на листе красивым арабским почерком выведено «Принц Абдул Керим».
Она покачала головой, написала то же самое латинскими буквами, потом перечеркнула все и вывела по-турецки «Его высочество принц Абдул Керим». Значит, все это время она думала только об исчезнувшем принце.
Она никогда не видела принца, но представляла себе его, проплывая в лодке мимо дворца на Босфоре. У него, наверное, светлая кожа, длинный османский нос с горбинкой, грустные глаза и крепко сжатые губы. Может быть, он меланхоличен, как султан Абдул Азиз, а может, хитрый, слабый и жестокосердный, как Абдул Гамид. Может, он живет в изнуряющей скуке, и взор его затуманен, как у мечтательного и спокойного Мехмет Рашид. Она ничего о нем не знала, кроме того, что этот принц, живущий во дворце на Босфоре, предназначен ей в мужья и что никого, кроме него, она не имела права любить. Тем не менее, она влюбилась в длинноногого варвара с улыбающимися глазами. Принц исчез, он тоже никогда не видел ее, может, даже никогда о ней и не слышал. Скорее всего, руки его были мягкими и ухоженными, а в сердце таилась тихая жажда покоя, забытья, смерти, как у покойного Юсуф Изеддина. Последние представители османского рода не могли похвастаться особой статью. Хаса был здоровей, крепче и так близок.
Азиадэ стало грустно из-за принца, который уже не был принцем и никогда ее не видел. Она взяла простой карандаш и нарисовала вокруг его имени красивый волнистый орнамент, приписала: «Азиадэ просто глупая гусыня»,и ей вдруг показалось, что вся ее жизнь это сплошной запутанный сон. Медленным движением она убрала волосы с лица, потом решительно достала из портфеля листок бумаги и, тщательно обдумывая каждое слово, вывела:
«Его Королевскому Высочеству принцу Абдул Керим-Эфенди».
Она долго рассматривала заглавие, все больше убеждаясь, что она такая же ненормальная, как и последние Османы, потом продолжила:
«Ваше Королевское Высочество! Вы никогда меня не видели и вряд ли даже помните мое имя. Его Величество, наш великий император и покровитель всех правоверных, однажды постановил, что я, с великой милости Господа, должна буду переселиться во дворец Вашего Высочества и стать Вашей покорной рабой и верной женой.
Я очень несчастна, Ваше Высочество, тем, что Бог не позволил этому свершиться. Теперь я живу в Берлине и посещаю Дом знаний, где изучаю историю священных предков Вашего Высочества. Мне очень грустно, так как я бесконечно одинока. Я больше не ношу чадру, и все мужчины могут меня видеть. Покарайте меня, о Всемогущий! Но женщине без чадры очень трудно не поддаться соблазну. Припадаю к Вашим священным стопам и молю Вас: возьмите меня к себе, где бы Вы ни были, чтобы я могла Вам служить и дышать с Вами одним воздухом. Если Вы пожелаете, я буду Вашей служанкой; вечерами, после работы буду массировать Вам ноги. Если Вам приходится водить такси по узким улицам в незнакомом городе, я буду давать Вам в дорогу термос с горячим кофе и ждать Вас на стоянках, чтобы помахать Вам рукой. Если же Ваше Высочество навсегда откажет мне в этой милости, тогда молю Вас отречься от меня, чтобы я чувствовала себя свободной и бросилась в пропасть, которую называют любовью, и куда попадают все женщины, не носящие чадру. Потому что я молода, Ваше Высочество, и мое воспитание в отцовском доме еще не завершилось, когда мы лишились этого дома. Поэтому я слаба и у меня нет ни терпения, ни достаточного самообладания, которыми должны обладать женщины. Я часто думаю о Вас, о Вашем дворце и о деревьях, которые росли в Вашем саду и мимо которых я проезжала когда-то, мечтая, что когда-нибудь смогу отдохнуть в их тени. Не сердитесь на меня, Ваше Высочество, ибо я Ваша раба, связанная долгом принадлежать Вам, как приказал мне наш Император и Господин».
Азиадэ подписалась, вложила письмо в конверт, потом опять достала его и, покраснев, дописала:
«Если же Ваше Высочество откажет мне в ответе, то боюсь я приму это как знак Вашей немилости, окончательной немилости, которая толкнет меня в объятия другой любви».
Она заклеила конверт и нерешительно взглянула на него. Никто не знал, где пребывает принц. Она написала:
«Правительству Турецкой республики. Лично в руки изгнанному принцу Абдул Кериму. Очень важно! Просьба переслать!»
Не было никакой надежды, что письмо дойдет до адресата. Она вышла из библиотеки, а лысый библиотекарь одобрительно и с уважением, посмотрел ей вслед.
«Какая прилежная студентка, – подумал он. – Интересно пишет ли она диссертацию? Наука не должна лишаться таких людей».
Тем временем Азиадэ пошла по Доротеенштрассе. Хаса помахал ей. Она села в машину и Хаса опять заговорил о том, как было бы прекрасно поехать в свадебное путешествие в Италию на машине.
– Остановите-ка здесь, – попросила Азиадэ.
Она подошла к почтовому ящику и опустила в него письмо. Вернувшись в машину и свободно облокотившись на спинку сиденья, она несколько небрежно сказала:
– В Италию? Вы полагаете? Это было бы здорово.
Потом молча стала смотреть в окно. Она очень любила Хасу.
Глава 7
Ахмед паша сидел в кафе «Ватан» и думал о том, что он уже не властен над своей жизнью.
Индус за стойкой меланхолично перебирал четки, Смарагд, кельнер из Бухары, разносил кофе, а черкес Орхан бей рассуждал о неисповедимости путей Господних.
– Религия этого не запрещает, – сказал Смарагд.
В кафе «Ватан» не принято было что-то скрывать.
– Да, – грустно согласился паша, – религия этого не запрещает.
Жрец из секты Ахмедия подошел к нему и, поглаживая бороду, загадочно произнес:
– Все в одном и один во всем. Через единение плоти к единению крови.
Он отпил шербет и предложил паше сигарету.
Индийский профессор отложил четки и мрачно сказал:
– Господь устами Пророка провозгласил: «Лучше верный раб, чем неверный пес».
– Это касается только язычников, – перебил его Смарагд. – Имам Бухары написал к этому толкование.
Все замолчали, а черкес скрылся в соседней комнате.
– Он, собственно говоря, никакой ни неверный, а просто свободомыслящий, – промолвил паша.
Он печально кивнул и индус участливо сказал:
– Как верно вы рассуждаете, Ваше превосходительство. К тому же, он богат.
В кафе вошел полный сириец, и пророчески изрек:
– Что есть деньги? Пыль у престола Всевышнего. Где миллионы Абдул Гамида? Разве они спасли его трон? Один святой из пустыни Неджд сказал…
Но он не договорил, потому что Смарагд поставил перед ним кофе, а профессор с грустным равнодушием повторил:
– Как вы верно рассуждаете!
Текли минуты. Паша поднял свой сухой, смуглый палец и заказал еще один кофе. Озабоченно всматриваясь в пустоту, он подумал, что если двоюродный брат из Кабула не пришлет ему в ближайшее время денег, то все-таки придется пойти работать консультантом в какую-нибудь ковровую лавку.
Тихий шепот прервал тишину кафе. Один марокканец рассказывал Смарагду:
– …. и тогда он выхватил свою саблю и заколол тысячу неверных. Весь Риф был на его стороне. Все жители Кабула. Он станет халифом и тогда пробьет час всех неверных.
– Как вы верно рассуждаете, – восторженно проговорил Смарагд, наливая кофе.
Из соседней комнаты послышался голос черкеса.
– Проходите, брат мой, паша будет очень рад.
Он вошел, ведя за руку полного, бородатого мужчину с мрачным и в то же время ребяческим взглядом.
– Ваше превосходительство, – торжественно произнес черкес, – разрешите представить вам господина Аль-Соколовича, купца из Сараево.
Босниец поклонился. Он явно был рад возможности поговорить с настоящим пашой.
– Из Сараево? – переспросил паша, зашевелив бровями. – Это очень известный город.
– Совершенно верно, Ваше превосходительство, – радостно подтвердил купец.
– Я надеюсь, что ваш благородный народ живет по законам веры.
– Воистину так и есть, Ваше превосходительство. Что есть люди без Бога? – вздохнул Аль-Соколович, словно сознавая всю тщетность человеческую пред ликом господним и стал рассказывать о школах и мечетях Сараево, о временах турецкого господства и об отце паши, который командовал армией и имел свою резиденцию в Боснии.
– В мире о нас мало знают, – говорил он, – а наш народ смирный и богобоязненный. У нас есть ученые, имамы и мечети, и даже люди, совершившие паломничество в Мекку. Может быть, паша хотел бы съездить в Сараево?
– Может быть, – проговорил Ахмед паша, теребя кончики усов и задумчиво глядя вдаль.
– А вы знаете в Сараево семью Хасановичей?
– Их много, мой господин.
– Я имею в виду тех, что разделились на две ветви. Некоторые из них живут сейчас в Вене.
Купец радостно и в то же время смущенно закивал.
– Что поделать, Ваше превосходительство. Ни одно стадо не обходится без паршивой овцы. Был такой человек, звали его Мемед бей Хасанович. Ехал он как-то из Сараево в Мостар. Было это во времена правления вашего мудрого батюшки. Человек по имени Хусейнович напал на него в горах или он сам напал на Хусейновича, один Аллах знает. Известно лишь, что один из них так и остался лежать там, и это был Хусейнович. Мы были тогда простым народом, много крови пролилось в наших горах. Три года продолжалась кровная месть, а потом Хасанович взял все, что нажил, жену, сына и отправился в путь. Он переселился в Вену и принял религию неверных. Его сын разбогател, а внук стал ученым. Но Аллах покарал изменников, всем им достались неверные жены.
Купец умолк, а его усы продолжали равномерно и грозно шевелиться. Потом он удалился, широкий и круглый, как комок земли.
Оставшись один, паша молча и задумчиво курил.
– А все это потому, – заговорил он вдруг, обращаясь к профессору, – все это потому, что у моего отца в Боснии, не было нормальной полиции. Будь там порядок, никакой Хусейнович не посмел бы напасть на Хасановича, и все было бы в порядке. А теперь внуки должны отвечать за грехи предков. Но все равно, я не могу благословить ее.
Профессор склонился к нему:
– Будь я на вашем месте, Ваше превосходительство, я бы тоже хотел сказать «нет», но не решился бы сделать этого.
– Почему?
– Отказывают только, когда не могут придумать ничего лучшего. Вы же не знаете ничего лучшего, паша?
– Все может сложиться по – другому.
– Это хорошо, паша, когда двое людей любят друг друга.
– В наши времена, профессор, никто не любил до брака.
– В наши времена, паша, женщины ходили в чадре.
– Вы правы, профессор, я хочу посмотреть, что он за человек.
Он встал и вышел из кафе. Индийский профессор смотрел ему вслед, а меланхоличный Смарагд, записал:
– Пять сегодняшних чашек кофе и восемнадцать старых – итого двадцать пять.
– Двадцать три, Смарагд, – поправил его профессор, он ведь был образованным человеком.
– Двадцать три, – записал Смарагд и с грустью произнес: – Такая красивая ханум. Может ли она быть счастлива с неверным?
– О таких вещах не говорят, Смарагд. Стамбульская ханум может все, даже быть счастливой.
Он молча зазвенел чашками, довольный тем, что у него нет дочери, которая ходит без чадры и влюбляется в посторонних мужчин…
Эмпайр Стейт Билдинг на Пятой авеню в Нью-Йорке. Сто два этажа и закрытая терраса на крыше, с крутящимся паркетным полом, с джаз-бандом, группой танцовщиц и стеклянными стенами, за которыми тянулся Манхэттен. Джон Ролланд сидел за столиком у окна. Паркетный пол вращался, и девушки в бешеном ритме вскидывали вверх ноги.
– Один мартини, – сказал Джон Ролланд, не отрывая глаз от ножек танцовщиц. – Сухой, – добавил он и залпом выпил горьковатую ледяную жидкость.
Потом Ролланд встал и пошел по вращающемуся паркету. Там, внизу, у него под ногами жили, любили, работали и спали сто два этажа – целый, поднимающийся вверх город. Он вышел на застекленную веранду. Прямоугольные башни упирались в ночное небо, сияя бесчисленными окнами. В темноте казалось, что освещенные этажи домов висят в воздухе, поддерживаемые какой-то сверхъестественной силой. Пропасти авеню напоминали пересохшие русла рек, а вдали – темное, благоухающее пятно в залитом светом городе – Центральный парк.
Джон Ролланд наклонился вперед. С Риверсайд-драйв, с широкого, мутного Гудзона дул пронзительный ветер. Джон Ролланд долго вглядывался в пропасть улиц, пока на какую-то секунду у него не закружилась голова. «Нет, – подумал он, – нет», – и отступил назад.
– Еще мартини, – сказал он кельнеру и взглянул на свое запястье с голубыми пульсирующими венами. «Нет, может, когда-нибудь, но не сейчас».
Из зала доносились дикие, тоскливые звуки джаза.
Ролланд поправил белый галстук и посмотрел в зеркало, при этом рука с нежностью коснулась нагрудного кармана фрака, где в мягких шелках подкладки хранился его самый надежный бастион в этом мире – две тоненькие книжки – паспорт гражданина Соединенных Штатов, законно выданный на имя Джона Ролланда, и чековая книжка на то же имя в Национальном Чейз Банке Нью-Йорка.
Под защитой этих двух книжек Джон чувствовал себя очень уверенно. Он пил виски, думая о том, что наутро проснется с головной болью, и это происходит уже все последние годы, но он все равно не бросится в бездну авеню. Честолюбие не позволит ему кончить так же, как и его братья, его отец и дед.
– Виски, – заказал он, чувствуя, как проясняются его мысли.
Теперь он точно знал, что неправильно выставлять молодого ученого только после тысячи метров. Молодой человек должен появиться уже на первых двухстах метрах. К тому же крупным планом. Что-то вроде: «Юный исследователь в своей лесной лаборатории. Он побеждает тропическую малярию».
«Отлично, – подумал Джон Ролланд, – главное не забыть об этом утром».
Он поднялся, бросив на стойку доллары, и направился к лифту, бросив взгляд на отразившуюся в зеркале свою тощую фигуру в черном фраке.
Тесная кабинка лифта понеслась вниз, вызвав у Джона привычный свист в ушах. На улице он медленно открыл дверцу своего автомобиля, отжал педаль газа и поехал по темной пустынной Пятой к Центральному парку. Перед парком он съехал и вышел у отеля «Барбизон-Плаза».
Портье протянул ему ключи и конверт. Джон Ролланд посмотрел на портье, и вдруг почувствовал навалившиеся на него усталость и неизмеримую грусть. В номере он переоделся в пижаму, подошел к шкафу, немного постоял в нерешительности, потом налил себе виски и сел за письменный стол. Открывая продолговатый конверт, он думал об отправителе – кинопродюсера Сэме Дуте, которого в действительности зовут Перикл Хептоманидес, однако это было уже очень давно.
«Дорогой Джон, – писал агент, – прилагаю несколько писем, которые пришли на твое имя. В том, что от продюсера, кажется, что-то очень важное. Я думаю, что за свои десять тысяч долларов он вправе требовать, чтобы сцена похищения была снята на Гавайях».
Джон Ролланд с вздохом развернул письмо продюсера, думая при этом о том, что на самом деле, ему следовало писать лирические стихи, а не сценарии, в которых сцены похищения надо снимать на Гавайях. Потом он подумал о продюсере, у которого уже было тысячи метров неиспользованных гавайских съемок и который решил переделать текст только потому, что десять тысяч долларов – это большие деньги.
Перед ним лежала пачка писем со счетами, предложениями, запросами. Все конверты одинаково прямоугольные, с печатью фирмы на лицевой стороне. Только один – квадратный и без печати. Джон Ролланд выудил его из стопки, не подозревая, что за чудо он держит в руках. Тут он сильно покраснел, и голубая жилка выступила у него на лбу, сердце бешено забилось. Он прочитал: «Его императорскому Высочеству, изгнанному принцу Абдул Кериму. Очень важно! Просьба переслать!»
Он швырнул письмо в угол и вскочил с места.
– Идиот, – выругался он, потом подошел к телефону, повертел ручку и стал ждать пока раздастся голос агента.
– Перикл Хептоманидес, – закричал он. – Сколько раз я говорил тебе, что таким письмам место в корзине.
Пьяный продюсер залепетал на иностранном, но абсолютно понятном обоим языке, что-то вроде «Ваше Высочество».
– Идиот, – крикнул Джон Ролланд и бросил трубку.
Он раздраженно расхаживал по комнате взад-вперед, искоса поглядывая на письмо. Потом решительно вскрыл его и стал читать красиво выведенные турецкие строчки, недоуменно качая головой.
«Анбари, – думал он, – был такой министр. У него есть дочка. Ах да! Кажется, об этом был разговор».
Он закрыл глаза и на секунду погрузился в иной, давно уже канувший в небытие мир. Потом снова покачал головой и сел за письменный стол. Он писал по-турецки, справа налево, странным образом напоминая при этом больную обезьяну. Он выглядел подавленным, его нос выступал вперед, как у хищной птицы. Он писал:
«Дорогая Азиадэ! Я больше не тот, кем был раньше, и желаю Вам, чтобы Вы тоже перестали быть той, кем были раньше. Наш господин и император обвенчал нас с вами, но это было в другой жизни. Ваша совесть может быть чиста, потому что меня больше нет. Так что, Вы абсолютно свободны. Не все то грех, что им называют. Но я, может быть, и заблуждаюсь, потому что я больше не я. Вы изучаете жизнь моих предков и все-таки тоскуете по мне. Это удивляет меня. Сделайте милость, считайте, что меня больше нет. Если же мне суждено когда-нибудь снова появиться, я позову Вас, но лучше Вам на это не надеяться. Будьте счастливы.
Не подписываюсь, потому что меня не существует».
Ролланд запечатал конверт и опустил его в почтовый ящик на этаже.
– Очень удобно, – проговорил он при этом, и не ясно было, что конкретно он имел в виду – близость почтового ящика или незнакомую девушку, которую зовут Азиадэ и которая изучает жизнь его предков.
Потом он разделся и лег в постель. Но перед этим, чувствуя подкрадывающуюся боль, быстро выпил еще один виски.
«Гавайи, две тысячи метров. Да».
– Да, – произнес Ахмед паша и обнял доктора Хасу. – Вы кажетесь мне хорошим человеком. Я отдаю вам свою дочь, хотя она была предназначена другому. Да поможет вам Аллах быть ему верным слугой, это не так просто. Подарите ей много детей, это ее обрадует. Я хорошо воспитал ее, и она знает, как себя вести. Оттолкните ее, если это не так.
Он еще раз обнял Хасу, незаметно всхлипнув при этом.
Счастливый Хаса смущенно смотрел на него.