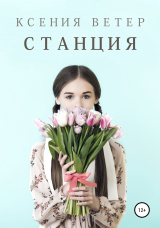
Текст книги "Станция"
Автор книги: Ксения Ветер
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Впервые Элис видит его на свой седьмой день рождения.
У родителей выходные, и даже отец ни разу не подходит к телефону. Лучшим из дней осени – они завтракают все вместе, вместе ходят в магазин, на рынок за продуктами, а после обеда отец берет ее к ограждениям – приключением, чувством опасности за колючей проволокой, но ружье висит за его плечом, отец разбирается в зараженных лучше всех, о ком она слышала, и Элис знает – на самом деле, ничего плохо не может произойти.
Ей дарят яркое голубое платье – великоватое, на вырост, но мать всё равно разрешает его примерить, и Элис чувствует себя самой красивой девочкой в деревне. Она крутится у зеркала, отец фотографирует её, мать и их всех вместе, выставляя таймер.
Мать готовит праздничный ужин и самый лучший малиновый торт.
Трогать его нельзя, Элис достаточно взрослая девочка, и перед ужином она переодевает платье, чтобы не запачкать. Она уходит к клумбе совсем ненадолго, чтобы успеть вернуться и расставить тарелки. Первая осень, когда она сажает цветы, и Элис каждый день бегает проверять их сразу же после школы или до завтрака в выходные и еще раз – перед вечерним гонгом.
Мать отдала ей тенистое, защищенное от ветра место за густыми кустами смородины, отец обложил клумбу камнями, и Элис прикладывает ладони, проверяя землю. Земля холодная и влажная, на улице уже зябко с приближением темноты, и цветы еще спят в почве. Они проснутся только весной, и Элис накрывает землю над цветами сухими листьями и соломой.
Им еще предстоит пережить зиму.
Он падает прямо перед ней, из колючих кустов смородины – без шороха, треска и крика – будто свалившийся с неба в одно мгновение или извергнутый почвой. Он залит кровью, но не оцарапан кустами – хуже, гораздо хуже, лицо его покрыто ранами, одежда изодрана, кожа его струпьями сходит с тела.
Элис еще никогда не видела зараженных, но знает – у них должны быть черные глаза. Глаза незнакомца еще блеклого, грязного голубого цвета, залитые алым лопнувших капилляров, и он болен, как больны зараженные, и, как зараженных, его тошнит кровью – на клумбу со спящими цветами, и плоть, кровь – комьями падают в землю.
Как не умеют зараженные – он говорит.
– Спаси, – хрипит он и вцепляется в ее руки.
В маленькие еще ладони, белые в его изъязвленных пальцах, и касание его мокрое, противное и грязное, смесью земли, сырого мяса и мусора. От него несет гнилью, и Элис запоминает запах – особенный запах гнили, отвратительный и сладкий, похожий на запах цветов. Она отшатывается, горло её схватывает спазмом, и она пытается – но не может кричать, как не можешь проснуться, самым жутким из своих детских кошмаров.
– Спаси их, – он повторяет.
Руки его держат отчаянно и слабо, руки умирающего, умершего, и даже Элис в свои семь легко могла бы освободиться – но не может, и он держит её чем-то большим, чем силой. Глаза его темнеют, заволакиваясь черным – чернилами, попавшими в болотную воду, и темнота забирает и красные лопнувшие сосуды, и радужку, и свет. Пальцы его, еще теплые, остывают прямо на её ладонях, как если бы Элис кожей могла чувствовать, как вытекает из него жизнь. Это ощущение снится ей еще многие, многие годы, запоминается – въевшимся детским кошмаром, горячим, резким и невозможным. Элис жмурится, жмурится изо всех сил, спазмом чувствуя веки – как ругает отец, повторяя, что это не может спасти от чудовищ.
Когда она открывает глаза – его нет, нет его плоти на клумбе, нет комьев одежды и нет блеклых глаз, которые вот-вот должна затянуть чернота.
Только руки её липкие от касания.
Отмеряя еще один день, над головой её звучит гонг.
***
Элис находит его в тени деревьев, слышит в шорохе листвы и скрипе калитки, просыпается по ночам – тихо, так и не закричав, и знает и не хочет верить, он придет – ожиданием или детским кошмаром. Первую неделю она боится подходить к клумбе.
Она не говорит родителям, хотя мать чувствует её беспокойство – чувствует, спрашивает, проверяет чуть теплый лоб и разрешает не ходить в школу несколько дней. Зараженный не появляется ни на следующий день, ни спустя неделю, и Элис дочь охотника – она не имеет права бояться так долго.
Цветы ждут её, и из окна кухни видно, как жухлую листву над ними затягивает первый иней.
Спустя две недели Элис решается подойти к клумбе, спустя три – палкой поворошить листву, спустя пять – раздвинуть кусты смородины. За ветками нет ничего, лишь еще больше веток и колючая проволока ограды. Ограда не порвана, нет подземного хода, нет лестницы – ничего, откуда мог бы пробраться зараженный, и даже земля не хранит его следов.
Он не приходит ни через неделю, ни через три, ни через пять.
Наступает зима, накрывая клумбу мягким и липким снегом, и Элис уже не боится стряхивать с веток сосульки и катать снеговиков по двору, не оглядываясь на смородину. Даже самой темной ночью со свистом вьюги её больше не пугает зараженный, и притихший, оставшийся без заботы страх не уходит полностью – он растет, меняясь, становясь чем-то вроде любопытства, ощущением приключения, тайны или – еще большего, необъяснимого страха.
Несколько раз весна топит снег, будит почки и расползается по деревне.
Цветы пробиваются сквозь еще прохладную землю.
Они растут быстро, даже лучше, чем написано в книгах, и меньше, чем через месяц, стебли достигают её коленок и сворачиваются бутонами. Элис знает, как появляются цветы, видела их множество раз, но выращенные своими руками, именно здесь, на этой клумбе, вместе с памятью о зараженном и запахе гнили – они кажутся ей чудом.
Всходят все луковицы, кроме одной.
Элис должна выкопать и сжечь её – известной с детского сада техникой безопасности – но не делает этого, и черная, гнилая луковица остается под слоем земли. Замеревшая, она не всходит ни через год, ни через два, но, тем же ожиданием, предчувствием, мелькнувшим движением в уголке глаза, Элис знает – она там, даже когда сама Элис вырастает и забывает.
К майским праздникам бутоны раскрываются ярко-алыми цветами тюльпанов.
Она перестает бояться, слишком большая, чтобы придумывать сказки о говорящих зараженных в своем дворе. Она перестает тревожно раздвигать кусты смородины и выискивать его следы.
Тогда он приходит еще раз.
Родители работают, Элис уже десять, и она сама возвращается из школы, сама разогревает обед и сама моет за собой посуду. Воды остается мало, она идет к колодцу и за несколько раз приносит два неполных ведра. Лейку для цветов она наполняет последней, закончив с делами – приятной, отложенной напоследок обязанностью– и идет в сад.
Он сидит у её клумбы– незнакомый и непохожий, но она узнает его сразу, как если бы с их прошлой встречи прошло не больше пары часов. Его кожа покрыта ранами, но кровь больше не стекает по телу, а одежда не изодрана в клочья. Раны кажутся скорее рубцами – заживающими, но никак не зажившими, не способными затянуться.
Он смотрит поверх забора, вдаль, неверяще, щурясь, будто от слишком яркого солнца.
Элис подходит осторожно, шаг за шагом сокращая расстояние – как к опасному зверю, как учил отец. Она должна бы бояться, но страха нет – нет инстинктивного, резкого ужаса, какой должен бы, чувством детства, которое она начинает забывать. Зараженный выглядит человеком, и Элис приходится щуриться, чтобы рассмотреть цвет его глаз.Один голубой, второй черный – расширенным от болезни зрачком, заплывшим ударом, тенью или – очагом смертельной отравы.
Он спрашивает:
– Станция еще стоит?
***
Станция стоит столько, сколько Элис помнит себя, и сколько помнят себя все, кого она знает.
Говорят, когда-то её действительно не было, но для любого рассказы об этом похожи на легенду, миф, сошедший из учебника истории – сродни тем временам, когда люди жили в пещерах, тысячами убивали друг друга или поклонялись другим людям в золотых халатах ис чем-то блестящим на головах. Давно прошедшим временам.
Весь небольшой их мир строится вокруг Станции.
Мимо неё Элис ходит в школу и на рынок с матерью по выходным, дорогу к ней первой расчищают зимой и обновляют весной, её видно из любого уголка деревни. Станция в несколько раз выше всех других зданий, и её белые каменные стены уходят ввысь, огромные для возраста Элис. Её купол накрывает и цех переработки, и лаборатории, и корпус медиков, и реактор.
Её зал заполняет по праздникам вся деревня, её гонг отмеряет восход и закат каждого дня.
Гонг кричит об опасности, радуется свадьбам, детям и провожает умерших.
Чтобы работать на Станции, ходят в университет лучшие из учеников.
Через небольшой боковой вход попадает на работу её мать, надевает белый халат и до вечера помогает обслуживать реактор – самой почетной из возможных обязанностей. В стены Станции отец сдает шкуры зараженных зверей, пробравшихся через защиту.
Станция питает ограду с колючей проволокой, отделяющий их мир от всего остального, зараженного мира. Станция поддерживает барьер над деревней, защищая от болезни. В мире Станции они пасут скот, сеют зерно, собирают урожай, учатся, вырастают и работают, любят и умирают. Ничего не происходит во всем остальном мире. Не-живут зараженные.
Охотник не работа для девочки, но Элис слышала о нескольких женщинах-охотниках, и знает – отец всегда хотел научить её стрелять, хотя никогда не говорил вслух. Мать хотела бы, чтобы она стала инженером –настоящим инженером Станции, большим, чем младший научный сотрудник.
Лучшее, что ты только можешь пожелать ребенку.
Нарастить мощь реактора – сделать его больше, сильнее, перестроить атомы, подчинить болезнь – то, о чем мечтают с детского сада, по ночам представляя себя учеными, совершившими то самое открытие. Даже раньше, чем учатся читать, писать и запоминают законы Ньютона – нашедшими спасение.
Чтобы хватило на весь остальной мир.
У Элис еще восемь лет, чтобы определиться с профессией, и её оценок хватает и для будущего охотника, и для будущего инженера. Любая работа достойна, и в деревне уважают и трактористов, и доярок, и столяров – любая дорога лежит у ног старательного ребенка.
Любая дорога в итоге приведет её к огромным белым стенам.
Станция – единственное, что защищает их от заражения.
Когда-нибудь, она избавит от него насовсем.
***
Отец бы убил его – всегда учил стрелять быстрее, чем думать, знающий вкус опасности, и Элис не рассказывает родителям, хотя должна быть умнее. Зараженный не пытается укусить её, не рычит, брызгая слюной, и глаза его почти всегда светлого, серого цвета. Он приходит разным.
Иногда он совсем взрослый, взрослее папы, а иногда кажется старшеклассником – в возрасте Элис еще сложно определить, раны не делают его моложе. Иногда кожа его сходит полосками, тело гниет, а иногда только седина в волосах и редкие шрамы не дают забыть о его болезни.
Иногда он встречает её, как старую знакомую, а иногда – словно не узнает, увидев впервые.
Элис проще видеть его умирающим – к своим двенадцати она много раз видела его таким.
Умирающим он привычнее и пугает её куда меньше, чем человеком.
Осенью он лежит в её клумбе, среди поникших, осыпающихся алых цветов, и кровь его вновь пропитывает землю. Элис уже не бежит, увидев его издали, и знает – спешить нет смысла. Он появляется и исчезает даже ему самому неизвестным порядком, вихрем, который не изменить. Она спокойно подходит, садится на землю рядом с телом и всматривается в лицо – молодой он сегодня или старый, гниет или живой. На нем нет ран, но волосы седые, а глаза начинает затягивать темнота – лопнувшими капиллярами, слишком черной кровью, залившей белки. Он кажется ссохшимся, совсем стариком.
– У вас есть вода? – спрашивает он, и голос его, еле слышный, хрипит.
Вода есть, и Элис приносит ведро воды от колодца и несколько раз до краев наполняет кувшин. Он выпивает его дважды, прежде чем спрашивает:
– Можно пить вашу воду?
Элис не сразу понимает вопрос, но кивает, потому что воду из колодца пьют все, для того и существует вода. Зараженному подходит ответ, и он выпивает еще половину кувшина. Остатки он выливает на голову и вздыхает полной грудью – удовлетворенно и умиротворенно. Как будто давно успел отвыкнуть от вкуса воды, запаха её и чувства. За пределами мира Станции ничего нельзя касаться, нельзя вдыхать воздух, ходить по траве и – конечно, нельзя пить.
Он всё равно заражен.
Нельзя выходить за пределы деревни – простой истиной, усвоенной каждым даже раньше первого класса, естествознания и уроков ОБЖ. Элис наклоняется ближе, всматриваясь в его лицо, пытаясь найти отличия – от просто больного, от просто умирающего – и не может понять.
Зараженные не должны быть такими, какими бы они ни должны были быть.
– Как ты оказался здесь? – спрашивает она осторожно.
Зараженный хмурится, будто и сам не может понять – вспомнить, ухватить мысль. Кувшин он опускает на землю, и тот легко выскальзывает из его ослабших пальцев – но он не замечает. Сглатывает, несколько раз нервозно открывает было рот, закусывает губу, и выражение его лица растерянное, просящее и испуганное – какое могло бы быть у ребенка.
Как если бы пришел за чем-то очень важным.
Может, он вспоминает, что должен был её укусить.
– Спасибо, – говорит он.
Нужно представиться, но зараженный не спешит следовать приличиям, и Элис приходится из них двоих быть взрослой. Ей интересно о нём всё.
– Я Элис, – представляется она, но не протягивает ему ладони.
Он смотрит на её руку долго, но не спрашивает – чувствуя подвох, но не понимая, в чем именно. Это уже не пугает и не удивляет Элис. Она садится удобнее рядом с ним, подбирая под себя ноги –на землю, рядом со своей клумбой, и опавшие, алые лепестки тюльпанов накрывают его, как диковинное конфетти, как снег или как раны.
– Что это? – спрашивает он вместо имени.
Зараженный приходит не настолько часто, чтобы ей надоесть.
Он берет один из лепестков в руку и подносит к лицу, всматриваясь и щурясь – будто тот светится или жжется. Порыв ветра чуть не уносит лепесток, и зараженный дергано сжимает его в кулак – слишком грубо, комкая. Он двигает руку ближе к лицу медленно, с трудом – медленно и упрямо, преодолевая боль движения. Пальцы его дрожат – старостью, болезнью, истощением или волнением – ужасом или благоговением перед чудом.
Элис отводит взгляд, обернувшись на шум– ветер трещит сухими листьями крон. Вороны разлетаются, каркая – хотя Элис ни разу не видела в их огороде ворон. Когда она поворачивается – зараженного уже нет. Лепестки опадают, кружась, как листья, поднятые ветром.
Один из них мертвого, черного цвета.
Элис знает – она увидит зараженного еще; и еще теперь знает – страдают от жажды в его мире.
Всегда зараженный исчезает так, стоит упустить его из вида всего на несколько секунд, задержать на самом уголке зрения–частым трюком, и Элис так и не смогла понять, как же он появляется на её клумбе. Как появляется и как исчезает, и она уже умеет просто знать о некоторых вещах, не понимая – как не знала когда-то, почему восходит и садится солнце, сменяет зиму весна, почему горит огонь и затухает без воздуха, откуда появляются дети и куда пропадают старики.
Элис знает главное – она поймет со временем, как поймет законы физики и связи химических элементов. Всё можно понять со временем. Детским любопытством – она уже начинает ждать их следующей встречи. Им обоим нужно многое выяснить.
Когда он уходит, Элис камнем долбит кувшин в мелкое крошево и закапывает в клумбе с цветами.
Нельзя пить из одной посулы с зараженными.
Матери она говорит, что разбила.
***
Элис не готова, когда он приходит–никогда нельзя назвать её готовой, но – со временем она встречает его иначе, как взрослые – знакомого далекого детства, уже виденный сон, явь или воспоминание. Он стоит у клумбы и смотрит вдаль – поверх забора, дальше Станции, на другие крыши, небо или кромку леса. Иногда он тоже её узнает. Тоже ждёт, и в этот раз его взгляд задерживается на ней с узнаванием. Элис улыбается ему, и – не сразу, неуверенно – его губы тоже растягиваются в улыбку. С каждым разом ей всё сложнее вспоминать о его заражении – то ли потому, что он приходит всё целее, то ли потому, что она начинает привыкать.
По ногам её тянет осенним холодом от щелей.
Она болеет, одна осталась дома и должна бы лежать в постели -но любопытство опять пересиливает, и Элис машет ему рукой из окна своей комнаты, плотнее кутается в шаль и выходит из дома. Опять начинают опадать первые сухие листья, каждая их встреча кажется фантазией, повторением предыдущих – одним из тысячи вариантов событий, и на клумбе, под замерзающей землей, снова спят луковицы тюльпанов.
Раньше Элис хотела позвать родителей, показать им, спросить, что делать – потому что до сих пор не знает правильного ответа, но момент упущен, десятками неловких молчаний. Она не сделала этого – ни разу, и со временем мать перестала задавать вопросы и водить к врачам, а отец научил заряжать ружье. Проходят годы, и страх превращается в тайну.
У матери дежурство на Станции, отца срочно вызвали на охоту вместе с половиной бригады.
Говорят, пробрался целый олень, и Элис никогда не видела оленей, но волнуется за отца.
– Покажи мне деревню, – просит зараженный.
Элис подходит к нему ближе, уже не пугаясь, и от него пахнет гнилью и цветами – как и всегда, даже если внешне нет ран на его теле. Шерстяная шаль колет руки, на ногах её теплые для осени валенки, и Элис уже неделю сидит дома. Ей хотелось бы погулять.
Ходить с зараженным по деревне безумие.
Безумие его знать, как знают людей, но из всех объяснений Элис находит самое глупое.
– Нельзя. Нас могут увидеть.
В этот раз он выглядит совсем как человек – её зараженный друг, мог бы сойти за человека.
Все знают друг друга в деревне, нет и не может быть незнакомых людей.
– Охотники убьют тебя.
– Мне нужно. Так нужно увидеть.
Раньше он бросался на хлеб жадно, глотая кусками – изголодавший, похожий на зверя. Теперь он берет принесенный кусок благодарно, но не ест сразу, а прячет в карман ободранного плаща. Привык, как рано или поздно привыкают к чуду, как Элис привыкла к нему. Плащ его драный, давно потерявший цвет – как если бы он шел очень издалека.
– Что увидеть?
– Всё.
Элис скоро четырнадцать, праздничный ужин, малиновый торт, и её клумба обнесена аккуратными цветными камнями. Она ждет день рождения – как раньше, но очень иначе, и каждый её праздник теперь – воспоминание их первой встречи. Он обещал запомнить дату и однажды принести ей настоящий подарок – не оттуда, откуда появляется он, потому что ничего хорошего не может быть на зараженной земле.
– Что-то не так здесь. Что-то не то. Я должен найти-то кого-то, чтобы их спасти. Что-то сделать.
Когда-то она просила его остаться. Глупой маленькой девочкой, ставшей большой.
– Кого?
– Я не могу вспомнить.
Он снова хмурится – чудовищным, бессильным напряжением, пытаясь понять, и на мгновение Элис видится – чернота начинает заливать белки его глаз. Но он моргает, сдаваясь – и чернота отступает, притаившейся в глубине болезнью. Взрослый, больной и слабый, и Элис чувствует щемящую жалость, к которой уже научилась привыкать. Не из-за неё Элис соглашается вывести его за пределы участка, не потому, что он просит, хотя и поэтому – тоже.
Ей хочется увидеть оленя.
***
Элис старается вести его по краю деревни, где обычно не ходят люди – вдали от привычных дорог, у самой кромки леса. От леса тоже видны крыши домов, дым их труб и огромный купол Станции. Если дождаться заката, даже отсюда будет слышен гонг.
Он слышен из любого уголка деревни – до самой ограды.
Зараженный уже привык к виду купола. Не Станция интересна ему сейчас, другое, и он идет медленно, пытаясь успеть рассмотреть всё –поля, начинающиеся у дальних домов, разбитую дорогу окраины и каждое дерево, каждую травинку – как когда-то изучал растения в их саду. Он пытается поймать взглядом мух и запозднившихся бабочек, пытается сделать это не слишком заметно – смешной попыткой умирающего от голода есть по правилам этикета.
Он смотрит на живых с тоской, как об утраченном, почти забытом – и больше, чем жалости, Элис чувствует любопытства. Как когда-то поражали его вода и хлеб – взгляд его замирает на поле. Они подходят ближе, и с каждым шагом Элис убеждается, что верно угадала, что так его цепляет.
Аккуратные – грядки уходят вдаль, покрывая землю раскидистыми листьями, и мелкие белые цветы украшают зелень, как отражение облаков. Элис тоже нравится смотреть на поля.
Зараженный замедляет шаг, пока не останавливается совсем – зачарованный, и Элис не торопит его, как когда-то учил отец не пугать ёжиков и птиц.
– Картошка… – вспоминает он наконец, и протягивает руку к низким листьям.
– Не трогай!
Элис одергивает его прежде, чем он успевает коснуться. Зараженный послушно замирает, не понимая – ловя её взгляд, и от его растерянного, молчаливого вопроса Элис немного чувствует себя предателем – как если бы он действительно был живым.
– Ты думаешь, я заражен.
– Не трогай, – повторяет Элис упрямо, затыкая чувство вины, и он качает головой, но подчиняется.
Он не пытается её разубедить. Он совсем ей не помогает.
Зараженный идет по дороге медленнее, вдоль поля, больше не смеет протягивать руки или сходить с тропы – и от этого Элис ощущает себя только взрослей. Они доходят до самого леса, и Элис отлично знает леса – они могут пройти вперед еще не больше километра между деревьев.
Дальше их ждет ограда – колючая проволока, за которую ничто не может выйти и не должно войти. Особенно –войти; ограда отделяет мир их небольшой деревни от всего остального, зараженного мира. Ничто не-живое не должно попасть оттуда.
Станция питает проволоку ограды, защищая их, как питает всё самое главное в деревне. Как питает всё. Охотники были всегда. Всегда для них находилась работа.
Каждый зараженный несет в себе зерно болезни, каждое зерно прорастает, едва попав в почву.
Элис злит терпение и злит избегать прямых вопросов.
Она совсем скоро перестанет быть ребенком или не перестанет им быть никогда.
– Скажи как есть. Ты оттуда? Из внешнего мира?
– Я не знаю. Наверное.
Он не удивляется её настойчивости и не удивляется вопросу – то ли потому, что у зараженных нет чувств, то ли потому, что ждал его – высказанный, тайной, перестающей быть тайной между двоими. То ли –он помнит об их встречах больше, чем иногда показывает.
Элис не устраивают такие ответы.
– Как там? Там нет картофеля? Нет ржи, верно? Нет воды? Нет животных? – спрашивает Элис, вспоминая каждый из уроков естествознания в младших классах. – Воздух тяжелый и вязкий, давит к земле? Отравляет легкие хуже печного дыма? Ты не можешь долго идти, солнце жжется, как кислота? Кожа сходит с тебя, как пластилин. Скажи, сходит же. Я же видела.
Тысячи вопросов, картинок из учебника, рассказов старух– зараженный смотрит на неё, как смотрел всегда – с мукой, и Элис слишком устала от жалости и не произнесенных слов.
Отец говорил, из неё бы вышел хороший охотник.
Зараженный открывает было рот, чтобы ответить – вспоминая, признаваясь, сдаваясь, но – так и не произносит ни звука. Звук гонга оглушает их раньше его ответа.
Элис не заметила, как наступил вечер.
Мать уже должна была вернуться с работы и наверняка беспокоится о ней.
Гонг бьет тремя мерными, металлическими ударами, вибрацией разносящимися по небу.
Гонг бьет, как всегда, и любой житель деревни с детства привыкает к дрожи, к мурашкам, разбегающимся под кожей от каждого удара.
Необычен не звук гонга, а то, что есть больше, чем его звук. Трещат ветки в лесу, и, когда гонг замолкает, треск слышен отчетливо и резко – как никогда не бежал бы человек. Или бежал бы только раненый, обезумевший от боли или от страха. Как бежало бы животное.
Зверь выскакивает из леса на их тропинку, спотыкается о корягу и поднимается, упираясь тонкими своими ногами. Зверь огромен – выше неё, выше матери, выше взрослого мужчины. Глаза его черные и пустые, шкура – настолько черная, словно поглощает свет.
С рогов его комьями падает гниль.
Гниль стекает с его черной шкуры, кусками прожигая землю.
«Олень», – понимает Элис, и эта мысль наполняет её зачарованным предвкушением, хотя должна ужасать.
Он смотрит на неё всеми своими шестью глазами, не моргая.
Олень заражен.
Элис видела зараженных животных и раньше – иногда отец показывал ей пойманных белок или крыс – держа их за хвосты перчаткой от спец костюма. Ни одно из не было больше пары ладоней. Многие в классе завидовали папе-охотнику. Обычный человек заразится, столкнувшись с зараженным животным, обычный не знает, что делать и как спастись, ни одного из зараженных нельзя касаться. Охотник – другое дело. У отца, как у любого охотника, есть специальный защитный костюм, который он сдает на Станцию после каждой смены.
Есть противогаз, ружье и не дрожащие руки.
Отца вызвали на охоту, олень бежит, и, значит, охотники идут за ним.
Осознание этого пугает Элис куда больше зверя, и она отводит взгляд.
Отец не должен увидеть её с зараженным. Отец не должен его убить.
Только не сейчас, когда она начинает спрашивать.
Элис разворачивается и припускает к дому быстрее, чем успевает подумать, чего боится больше.
Ей приходится крепко сжать зараженного за руку, чтобы бежать быстрей.
***
В следующий раз Элис приходит туда одна.
Она могла бы дождаться зараженного или пойти с отцом – тот не отказал бы, хотя с каждым годом всё реже берет её на прогулки. В детстве они почти каждые выходные выбирались в лес, и отец показал ей звериные тропы и границы деревни – Элис видела проволочную ограду до самого северного края. Отец учил её отличать виды птиц, грибов и цветов, ставить капканы на мелкого зверя – хоть к такой охоте у нее нет таланта, и Элис знает лес вокруг деревни лучше любого другого школьника, хуже только охотников, и никогда не боялась ходить одна.
В этот раз она вздрагивает от шелеста листьев и шорохов птиц.
Разумом она понимает – оленя больше не может быть здесь, и своими глазами видела, подсмотрев из окна, как отец с другими охотниками тащил закрытую в черный мешок тушу к большой дороге, до машины. Она узнает отца даже в рабочем костюме, одинаковом для всех, закрывающем лицо – по фигуре, походке и жестам, как любой ребенок узнает родителя.
Элис всегда была скорее папиной дочкой.
Мешок терся о дорогу и мелкие камни, но даже ребенок знает – так просто не порвется мешок для ликвидации заражения. Она видела издалека, но даже сейчас по памяти может представить звук – тихий шелест и хруст – то ли костей, то ли попавших под подошву веток. Мешок для заражения рвется не извне – больше, чем просто тканью, как ограда их деревни – больше электричества и проволоки.
Туша дергается в пакете, будто живая – никогда не бывшая живой – и пытается встать. Один из охотников бьет тело прикладом ружья, но этим только раззадоривает заражение. Гниющие рога пропарывают пакет и задевают одного из других охотников – Элис не видит под костюмом, какого. Раздаются звуки выстрелов – еще, и еще раз, охотники стреляют в мешок, не целясь, среагировав мгновенно – как и должны специалисты, вот только выстрелы хаотичны, взметают с дороги пыль и мелкие камни. За последние тридцать лет никто не видел таких больших зверей.
Туша сражается еще несколько минут – пытаясь сохранить то, что никогда не было жизнью, то, что не должно существовать – и Элис рада, что мешок рвется с трудом, и она больше не видит множества его глаз. То, что могло бы быть оленем. Оно бросается на охотников, и Элис слышит протяжный, глухой вой, похожий на скрип, на скрежет, на шепот – на что угодно, кроме боли живого зверя. Туша задевает рогами еще одного охотника и метущейся массой толкает отца. Элис вздрагивает, но отец падает в сторону, и она даже рада, что тот не должен больше стрелять.
Элис подходила и смотрела после – как не должна бы – рытвины пуль, разорвавшие растоптанную землю, но никогда – не сами пули, не кровь зараженных. Только рытвины – тенью работы, следом следа. Отец выровнял их сапогом, возвращаясь.
Он пришел, чуть хромая.
Мать не спросила, он не стал объяснять и без того ясное, но к ужину она приготовила малиновый торт, как тот, что делает к дням рождения, и Элис слышала ночью тихий скрип половиц и плач.
Их дом самый близкий к лесу.
Она и сама не сразу понимает, что хочет найти в лесу.
Элис проходит мимо уже не различимых рытвин на дороге, мимо полей капусты, низких колючих кустарников и тонких берез. Она идет в самую чащу, сворачивая с проложенных троп. Элис добирается до самой ограды, и долго идет вдоль колючей проволоки, как если бы разбиралась в защите. Она не разбирается, и электрика никогда не была её любимым предметом.
Ограда отделяет их от зараженного мира. Она кажется обычной проволокой, колючей и начинающей ржаветь, и не видно её силы, как не видно барьера, не пускающего зараженный воздух в небо над деревней. Не на что там смотреть, и люди редко ходят к ограде. Даже если всмотреться – не увидишь разницы в траве по обе стороны проволоки.
За ней растут те же деревья, тот же ветер колышет кроны. Элис слышит перекличку птиц, и не может сказать наверняка – по какую сторону эти птицы. Иногда она видит мелкие голубоватые молнии, пробегающие по шипам ограды, и не уверена – признаком слабости или силы.
В ограде нет прорех.
Работники Станции реагируют быстро, и, так же быстро, как поймали зараженного оленя охотники, ликвидаторы должны были заделать дыры. Это совсем не удивительно, правильно, единственно верно – если они хотят выжить, нельзя допускать протечек.
И, всё же – ржавчина проволоки старая, насколько Элис может пройти.
Она изучает упрямо, после школы направившись к лесу – до самого вечернего гонга. Элис обдирает куртку, пробираясь через кустарники, и окончательно отбивает подошву у старых ботинок. Она не находит ничего, что могло бы быть прорехами, и, уже достаточно сообразительная, Элис понимает – многое она может не знать.
С вечерним гонгом пора возвращаться домой, и Элис замирает, вслушиваясь в мерные, успокаивающие удары. Звук знаком с детства, стабильностью, нерушимый – и она вдруг ощущает спокойствие, четче – ночную прохладу леса. Олень мог проникнуть не на их части, и глупо пытаться обойти всю деревню.
Элис закрывает глаза, выравнивая дыхание, забывая свои сомнения, и вспоминает бьющийся черный мешок. Больше, чем вспоминает – видит его ярко, ярко до слез, ярче, чем видела глазами. Мешок бьется, но медленно, словно пробиваясь через толщу воды – и его черные бока пульсируют, поднимаясь и опускаясь быстрей. Готовой треснуть скорлупой, пульсирующим оголенным сердцем, рождением.
Кажется, будто -вместо похожего на скрип воя – мешок скулит.
***
Станция стоит в середине деревни, если смотреть на карте – неровным центром, максимум, что смогли сделать проектировщики – когда-то давно, тогда же, когда была построена сама Станция.







