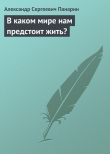Текст книги "Нанонауки. Невидимая революция"
Автор книги: Кристиан Жоаким
Соавторы: Лоранс Плевер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Если классический транзистор сделать меньше 20 нм, то в нем останется совсем мало «деятельных» электронов (тех, которые работают в транзисторе). Ну и что? А почему бы не сделать прерыватель (ключ) на одном-единственном электроне? Как только электрон проникает в классический транзистор, суммарная энергия внутри транзистора увеличивается. Электрон черпает эту энергию из тепловых флуктуаций в своей точке «отправления», и, поскольку приращение энергии ничтожно, оно теряется – «тонет» – в тепловых флуктуациях в точке «прибытия». Так что электроном больше или электроном меньше – транзистору («классическому»), в общем, все равно. А вот если транзистор занимает площадку в десяток нанометров и меньше, то такой микроскопической прибавкой энергии пренебречь не удастся. И никаких тепловых микроколебаний не хватит, чтобы замаскировать эту прибавку. Более того, попав в транзистор, электрон загородит дорогу другим электронам. Это явление называют «блокадой Кулона»: ни одному лишнему электрону просочиться не удастся, потому что энергии не хватит – уж очень она дорогая. Происходит так, как в шлюзе: как только он наполнен водой, новая вода прекращает в него поступать – просто места больше нет. «Блокаду Кулона» описали в 1951 году, но о том, что на этом эффекте можно построить транзистор с одиночным электроном, догадались только в 1985 году, а опробовали эту идею в эксперименте лишь двумя годами позже, применив очень изощренные методики электронной литографии.
Еще одна совсем иная электроника может родиться не из использования заряда электрона, а из работы с его элементарным магнитным моментом, который называется спином и истолковывается как вращательный момент, – так, словно бы электрон вращается вокруг своей оси (spinпо-английски значит «крутиться», «вращаться»). И, как маленький магнитик, этот спин производит магнитное поле, направленное вверх или вниз – соответственно направленности вращения электрона. Если вещество – не магнит, то ориентации спина (вращательного момента) будут случайными. Значит, в классическом транзисторе ориентация спина любого электрона может быть какой угодно и потому не влияет на свойства транзистора (разные спины компенсируют друг друга). Но если взять материал с выраженными магнитными свойствами (магнетик), то, напротив, количество электронов со спином, обращенным вверх, будет сильно отличаться от числа электронов со спином, ориентированным вниз, что и приводит к намагничиванию материала. Спины электронов, попадающих в магнитный материал, по необходимости взаимодействуют с магнитным моментом этого материала. Положим, что через ферромагнетик (это обычные магниты из железа, никеля или кобальта) течет электрический ток – поток электронов со спинами произвольной ориентации. В таком случае у тех электронов, спины которых ориентированы в одном направлении, больше шансов пройти свой путь, чем у прочих электронов (с разнонаправленными спинами). Получается, что ферромагнетик действует как фильтр, пропускающий электроны с некоторой – «предпочтительной» – ориентацией спина и сильно мешающий продвижению остальных электронов. Еще одно наблюдение: электрическому току (потоку электронов) по силам изменить магнитные моменты на тех участках магнитного материала, которые оказались по соседству с потоком электронов – иначе говоря, если сила тока достаточно велика, то есть движется множество электронов, то их поток поменяет ориентацию магнитного момента самого материала. Исследования подобных явлений стали называть «спинтроникой» [12]12
За работы в области спинтроники французский физик Альбер Фер получил в 2007 г. Нобелевскую премию по физике.
[Закрыть]. На переворачивание спинов уходит куда меньше времени и энергии, чем на переключение транзистора (из закрытого состояния в открытое или наоборот), уже потому, что электрону проще и быстрее опрокинуться, чем преодолеть некоторое расстояние. Вот почему спинтронная электроника в такой чести у многих исследователей.
Как бы то ни было, похоже, что полупроводниковый транзистор, уже уменьшившийся за годы миниатюризации донельзя, придется заменить каким-то другим устройством. И пока представляется, что в качестве возможных заменителей наиболее предпочтительны транзистор с одним электроном и спинтронный транзистор – потому что такие приборы могут изготавливаться посредством технологий, уже освоенных по ходу миниатюризации классических транзисторов. Во всяком случае, ясно одно: физики в новых приборах должны как-то использовать квантовые эффекты, а не пытаться обходить или как-то нивелировать эти неизбежные явления.
КРАСНАЯ НИТЬ
Нанотехнологическое предание повествует о прозорливости Фейнмана: мол, именно его якобы пророчества воплотились в отказе от сверхминиатюрных транзисторов в пользу волокон ДНК и микромеханики. На самом деле становление этих нанотехнологий происходило в ходе непрерывного развития обычных приемов, разработанных еще в конце 1950-х годов; достаточно назвать фотолитографию – правда, в приложении к формированию компонентов микроэлектроники и микромеханики, или электронную литографию – в приложении к мезоскопической физике. Такие нанотехнологии подчас имеют дело с предметами, размеры которых измеряются десятками и сотнями нанометров и лишь допуск точности исчисляется единицами нанометров. Тем не менее именно они вышли на передний план и сумели связать свои наименования с ярлыком «бесконечно малые»… тогда как совсем иная технология осталась в тени или скорее была задвинута в тень: речь о технологии действительно нанометрического масштаба, манипулирующей отдельными атомами и позволяющей создавать устройства с размерами в считаные нанометры при допуске точности порядка 0,1 нм. Об этой технологии мы поговорим в следующей главе.
Технологическая алчность побуждает втискивать как можно больше транзисторов в как можно меньшую полупроводниковую пластиночку – в этом и состоит экономический и практический интерес миниатюризации, однако в нашей жизни миниатюризация выводит еще и на некий путь, ведущий к вопросу метафизическому: а не удастся ли однажды смастерить такую машину, которая сможет думать? И этот вопрос красной нитью проходит во многих работах сегодняшних ученых.
Когда Паскаль воплощал в неживом веществе свою вычислительную машину, его «паскалина» не думала. Когда Джеймс Уатт изобретал маленькую паровую машину для своей лаборатории, он придумал для нее управляющую программу в виде трех дырочек, пробитых в жестяной пластинке. И эта пластинка с дырочками определяла очередность, в которой открывались и закрывались вентили и клапаны его машины. Паровая машина тоже не думала, кто спорит. Когда в 1820 году Чарльз Бэббидж задумал построить первую механическую вычислительную машину, она могла выполнять множество различных действий, но, конечно, при этом ни о чем не думала. В наши дни, когда инженеры втискивают в малюсенькую коробочку 100 млн транзисторов, такая шкатулочка, очевидно, тоже не мыслит. Да и вообще возможно ли собрать из шестеренок, трубок, вакуумных ламп или транзисторов мыслящую машину? В 1957 году Джон фон Нейман объявил, что для этого потребуется 100 000 транзисторов. Миниатюризация помогла преодолеть и этот рубеж, причем уже давно, а машины все еще так и не научились думать.
Глава 3
Оставаясь на дне
В конце концов, как бы ни хотелось миниатюризировать и миниатюризировать, приходит день, когда кусочек вещества становится слишком уж маленьким, чтобы втиснуть в него приборчик и тем более машину… В 1960-х годах думали, что миниатюризация наткнется на естественный предел тогда, когда выйдет на размеры молекул живого вещества – а это белки или ДНК, молекулы из тысяч атомов. Как раз в то время узнали о способности макромолекул накапливать информацию, транспортировать другие молекулы, вырабатывать энергию и общаться между собой. Так, есть энзимы [13]13
Энзимы (или ферменты) – макромолекулы, ускоряющие определенные химические реакции в живых системах в миллионы раз.
[Закрыть]с несколькими активными участками, и активность этих участков управляется другими молекулами – иначе говоря, такой энзим «срабатывает» по команде, которой может служить молекулярный или электрический сигнал – что немного похоже на срабатывание электронного реле. В 1970 году Жан Моно в своей работе о «Случайности и необходимости» [ Le Hasard et la Nécessité] писал, что вызов, брошенный физикам, состоит в том, что минимальная масса электронного реле примерно равна 10 -2г, а масса энзима, способного выполнять те же действия, что и реле, порядка 10 -17г, то есть в миллион миллиардов раз меньше! Тем самым подчеркивались возможности тогдашних сверхминиатюрных устройств, а им было далеко до тех чудес, которыми мы располагаем сегодня. В то время и думать никто не смел о машинах, по размеру меньших, чем макромолекулы. Да и сами макромолекулы казались чересчур крошечными, чтобы на их основе создавать какие-то работающие устройства. Моно бросил ученым вызов: он говорил, что вот есть молекула, она вполне материальна, устойчива во времени (существует достаточно долго) и имеет определенную протяженность в пространстве – перечисленных качеств довольно, чтобы эту молекулу превратить в машину. Но как? Идеи Моно казались абсолютно безосновательными. Но в 1990-е годы родилась иная мысль – почему бы не перевернуть порядок создания машины? То есть начинать не с большого объема вещества, из которого понемногу удаляют все лишнее, в итоге получая миниатюрную машину, а наоборот – взять несколько атомов и строить из них машину, добавляя по мере необходимости новые атомы. Вот на этой идее и строится некая новая технология – нанотехнология. Иначе этот перевернутый порядок формирования машины можно назвать «восходящим», и настоящая глава посвящена рассмотрению первого этапа создания двигателей и механизмов из молекулярных комплексов: мы с самого начала «остаемся на дне» шкалы величин, чтобы понять, как обращаться с одним-единственным атомом или молекулой, в которой не более считаных десятков атомов. Мы будем учиться манипулировать частицами много меньше биологических объектов.
Благо, что у нас есть орудие, открывающее врата в этот рай, да еще и предлагающее технические способы обычного технологического порядка, – это изобретенный в 1981 году туннельный микроскоп. Впервые изображение одиночной молекулы было получено в 1957 году, на электронном микроскопе ( см. Приложение I). Но туннельный микроскоп позволит не только вывести на экран изображение одной молекулы, но и прикоснуться к этой молекуле иглой микроскопа. Независимость молекулы, то есть ее существование в качестве самостоятельной материальной сущности, превратилась из умозрительного представления в факт, который можно использовать. С тех пор, собственно, и началось приключение по имени нанотехнология. Это она позволяет создавать устройства много меньших размеров, чем все то, что изготавливалось до сих пор: речь о приборах величиной порядка нанометра и допусках точности в десятые доли нанометра.
Нанотехнология, следовательно, – новый этап многовековой эпопеи, именуемой познанием материи или наукой о веществе, а не просто еще одна фаза развития материаловедения.
РОЖДЕНИЕ МОЛЕКУЛЫ
Прикосновение иглы туннельного микроскопа к молекуле превращает ее в самую малюсенькую машину из всех, какие только возможны. Однако с самого начала понятие молекулы предлагалось как ответ на задачу определения веществ. По определению, молекула есть самая маленькая частица соответствующего вещества. О том, что такое молекула, ученые всегда много и горячо спорили. Джованни Альфонсо Борелли (1608–1679) мыслил вещество – тот или иной его вид (металл, газ, жидкость) – как нагромождение «маленьких машин» ( machinulae), причем эти «машинки» то сближаются, то убегают друг от друга. Ученых XVII века мучили неудобства господствовавшего в то время учения Аристотеля, который учил, что все вещество состоит из четырех стихий ( лат.«элементы»): земли, воды, огня и воздуха. Среди тех, кого не устраивали идеи Аристотеля, был и нидерландский врач и математик Исаак Бекман, переписывавшийся со многими своими учеными современниками. А еще он регулярно вел научный дневник, который прилежно заполнял размышлениями и описаниями своих экспериментов. 14 сентября 1620 г. он записал, что после деления дозы лекарства пополам обе полудозы сохранили целебные свойства. Последующие деления показали то же, но, рассуждал Бекман, если делить дозу надвое вновь и вновь, наверное, настанет такое время, когда крошечный осколок утратит свои свойства. Бекман назвал эту мельчайшую частичку, сохраняющую целительные свойства, «минимумом». Этот «минимум» означал то же, что и нынешний термин «молекула». Бекман думал, что «минимум» состоит из атомов, которые сделаны из «первичного вещества», хотя и отличаются друг от друга своими «формами». Он при этом уточнил, что можно различить по крайней мере четыре типа атомов (что соответствует четырем стихиям), хотя их может быть и больше (сегодня мы знаем о ста восемнадцати элементах).
В 1621 году Себастьен Бассон пришел к сходным представлениям. Он был богословом, регентом коллегии в Дофине. Интересуясь происхождением и строением вещества, он поначалу изучал древние источники, предшествующие Аристотелю, стало быть, более близкие ко времени сотворения мира и, значит, заведомо более достоверные. Бассон изучил доводы атомистов, доказывавших, что материя непрерывна и состоит из атомов, и решил проверить эти утверждения на опыте, для чего влил тонкой струей немного вина в воду. Вино растворялось и постепенно расходилось по большому объему воды, что, по мнению атомистов, доказывало – вещество делится на частицы. Решив, что вещество состоит из первичных частиц, Бассон тоже заговорил о минимумах. Его минимумы, однако, состояли из тех же четырех стихий, и один минимум отличался от другого долей в его составе тех или иных стихий. Еще он решил, что минимумы собираются в частицы второго порядка, а те – в частицы третьего порядка, и т. д., и эти скопления частиц мало-помалу приобретают вид и размеры тех предметов, которые мы видим вокруг себя. Так родилось представление о молекуле – то есть о мельчайшей частице некоторого вещества, которая, однако, построена из других частиц (стихий или элементов). Правда, само слово «молекула» ( molecula) появилось много позже, в 1636 году, из-под пера Пьера Гассенди: этот французский священник присоединил суффикс – кулак слову «моль», означавшего тогда то, что теперь обозначается словом «масса», чтобы перевести слово «частица» в писаниях Диогена Лаэртского – того места, где Диоген рассказывает о философе-атомисте Эпикуре (но древнегреческая молекуласовсем не похожа на молекулу, которую мы знаем сегодня).
Молекулы, пусть тогда и бывшие чистым предположением, сильно разволновали ученых, занимавшихся наукой о материи. Антуан Лавуазье (1743–1794) показал, что вещество сохраняет свои свойства – он говорил о тождественности – в любом состоянии: парообразном, жидком или твердом. Водяной пар, вода и лед состоят из одного и того же вещества, только молекулы, которые его образуют, выстраиваются по-разному, в зависимости от конкретного физического состояния. Лавуазье был большим мастером «молекулизации мира»: [14]14
Kubbinga Н. L'Histoire du concept de molécule.Paris: Springer, 2002.
[Закрыть]концепция молекулы еще только развивалась и развертывалась, и лишь к концу XVIII века она утвердилась настолько, что ученые понемногу начали объяснять наблюдаемые явления, прибегая к понятию «молекула».
В XIX веке наука о материи продвигалась вперед так успешно, как никогда ранее. Англичанин Джон Дальтон догадался, что вещество состоит из атомов с разными массами и атомы объединяются в молекулы – так в первый раз прозвучало правильное описание материи. Итальянский химик Амедео Авогадро вскоре показал, что в двух герметичных сосудах одинаковой величины, если в них поддерживаются одно и то же давление и одинаковая температура, содержится одно и то же количество молекул (приблизительно 27 тысяч миллиардов миллиардов, 27 X 10 23, молекул на литр), какой бы газ ни содержался в сосуде: молекула приобрела телесность, вещественность, можно сказать, стала осязаемой. Но ученые по-прежнему говорили на разных языках. Так, Авогадро обсуждал свойства не атомов, а «элементарных молекул», зато Джон Дальтон называл молекулы «сложными атомами». В 1860 году в Карлсруэ собрался большой конгресс, чтобы прояснить ситуацию и договориться о терминологии. После ожесточенных споров химики все же согласились принять ряд основополагающих определений, которые почти в неизменном виде в ходу и поныне. Среди прочего было утверждено и различение между атомом и молекулой (группой атомов).
А КАК ОНА ВЕЛИКА, ЭТА МОЛЕКУЛА?
С этого времени умножились попытки определить физические размеры молекулы, само существование каковой, честно говоря, все еще оставалось чистой гипотезой. Австрийский ученый Йозеф Лошмидт (1821–1895) вычислил диаметр «молекулы воздуха»: получилось 9,69 x 10 -7мм, то есть 0,969 наших нынешних нанометров, что, конечно, совершенно замечательно… вот только нет никаких таких молекул воздуха [15]15
Воздух – это смесь молекул различных газов: азота, кислорода, водорода и др.
[Закрыть]. Английский физик лорд Кельвин (1824–1895), воспользовавшись иным методом, оценил размеры атомов цинка и меди в 0,1 нм. Порядок величины верен. Задолго до этого Бенджамин Франклин (1706–1790) предложил эксперимент, позволивший, пусть на сто с лишним лет позже, рассчитать размеры молекулы. Франклин, как и многие другие, заметил, что растительное масло не смешивается с водой, а образует на ее поверхности тонкую пленку. Положим, что толщина пленки – одна молекула, тогда разделив объем разлитого масла на площадь образовавшегося пятна пленки, получим размер молекулы масла – порядка нанометра (этот опыт и теперь показывают школьникам и студентам).
Однако на протяжении всего XIX века химиков сильно смущала одна загадка, с которой они то и дело сталкивались: некоторые вещества, состоявшие из, казалось бы, одинаковых молекул, выказывали совершенно разные свойства. Почему это? Что же это такое получается? Шведский химик Йенс Якоб Берцелиус предположил: «Быть может, в будущем эту [тайну] прояснит изучение пространственной формы [молекул]». И назвал эти ставящие в тупик химические соединения «изомерами». Его гипотеза оказалась верной: в 1875 году химики Якоб Ван Гофф и Жозеф Ле Бель обнаружили, что связи атома углерода направлены из центра атома к вершинам некоторого тетраэдра. Молекула оказалась трехмерной, то есть занимающей в пространстве определенный объем. Следовательно, две молекулы, составленные из одинаковых атомов, способны по-разному располагаться относительно друг друга, и, если конфигурации молекул различны, то и их свойства будут разными. Немецкий физик Рудольф Клаузиус показал, что архитектура молекулярных конфигураций не слишком жестка: атомы совершают небольшие колебания, даже в твердом теле. В 1890 году молодой немецкий химик Герман Заксе пошел дальше, обнаружив, что архитектура молекул еще и не так уж постоянна, она может искажаться, словно обладая «гибкостью» или пластичностью. В конце концов, на исходе XIX века, молекула обрела примерно тот облик, который мы приписываем ей и теперь: этакий скелетик из атомов, ответвления от которого, да и он сам, могут менять свое положение в пространстве, принимая те или иные формы.
Ученые наконец смогли понять множество наблюдаемых макроскопических явлений, объясняя происходящее поведением молекул. Но вот незадача: никто никогда не видел ни единой молекулы – уж слишком они малы, настолько, что ни в один микроскоп не углядишь. Так что по большому счету молекула оставалась гипотезой, и немало ученых людей, в том числе и самых прославленных, отказывались признавать саму концепцию молекулы. Например, несгибаемый Марселен Бертло, сильный человек, и не только выдающийся ученый, но еще и государственный муж, один из самых влиятельных деятелей своего времени (профессор Коллеж де Франс, член Академии наук, занимал посты министра просвещения и министра иностранных дел), считал само представление о молекуле вздорным измышлением и приклеил к нему ярлык «мистической концепции». Но после 1908 года отрицать молекулы стало неприлично, так как в том году французский физик Жан Перрен представил неоспоримые экспериментальные доказательства их существования.
ДЕМОН МАКСВЕЛЛА
В 1871 году британский физик Джеймс Клерк Максвелл вызвал настоящую культурную революцию, которая, правда, поначалу осталась незамеченной. Ученый придумал – или вообразил – некую сущность, или существо, или невесть что еще, но это что-то – или кто-то – умел измерять скорость каждой молекулы газа, заключенного в некотором сосуде. Значит, этот демон Максвелла, как его окрестили позднее, действительно должен быть очень маленьким. И ему по силам не только «следить» за молекулами, разбегающимися во все стороны, но и еще как-то сортировать их – по скорости: вялых в одну сторону, резвых – в другую. И если запустить этого чертенка в объем вещества, температура которого – комнатная, то он затолкает половину молекул, медленных, на одну сторону (там получится холодная сторона), а вторую половину молекул, горячих, – на другую (там будет раскаленный угол). Получается, что температура напрямую зависит от скорости молекул. Построения Максвелла – всего лишь мысленный эксперимент, грубо говоря, игра воображения, но, придумав своего «демона», ученый тем самым предложил новое понимание того, что творится на молекулярном уровне. В 1870-е годы молекула, можно сказать, обрела некий уже различимый облик. Понятно, что о каких-то молекулярных устройствах тогда и думать было нечего, и никто даже не заикался о проектировании, тем более производстве подобных приборов. Демон Максвелла никуда не делся, с ним охотно забавлялись творцы термодинамики, но естественно вытекающая из представления о демоне идея молекулярного двигателя была забыта – на добрые сто лет.
В течение XX века демоном Максвелла интересовались и биологи, в частности, Жак Моно. Они пробовали вывести Максвеллова чертика на чистую воду. Ученые, в поисках объяснения элементарных процессов, происходящих в живой природе, решили приглядеться к макромолекулам: одни большие молекулы обеспечивали незыблемость строения клетки, другие брались за иную работу. И вот в 1947 году американский биохимик Альберт Сент-Дьёрдьи – он еще открыл витамин С – предположил, что белки заставляют электрон двигаться вдоль своего атомного каркаса, примерно так, как это происходит в электрическом проводе. Молекула еще не сравнялась по сложности с двигателем, не уступающим в сложности демону Максвелла, но Сент-Дьёрдьи уже приписал ей способность проводить электрический ток и, значит, признал, что вовсе не обязательно сначала производить некоторый материал, а уже потом поручать ему проводить ток. Молекула, всего одна, способна исполнять очень точно конкретные обязанности в сложном процессе сборки. Молекуле в одиночку, как и предполагал Максвелл, по силам творить физику. Демон же продолжал бродить по естественно-научным пажитям и попал в конце концов в руки химиков.
Американский физикохимик Генри Таубе вспомнил идею Сент-Дьёрдьи и, чтобы ее проверить, поставил ряд экспериментов. К концу 1950-х годов он придумал и синтезировал продолговатые молекулы (около 1 нм в длину и диаметром 0,2 нм). Затем он исследовал их методами спектроскопии: пропустив луч света через объем раствора, содержащий миллиарды таких молекул, он обнаружил такое поглощение инфракрасного излучения, которое можно было объяснить только какими-то межмолекулярными взаимодействиями. Таубе показал, что энергия поглощенного излучения связана с перемещением – или передачей – электрона из одного места молекулы в другое. Тем самым он получил доказательства того, что электроны способны двигаться по молекуле по одному и один за другим – почти так же, как по электрическому проводу. Впервые удалось придумать – и создать – молекулу, в которой электроны могли перемещаться с одного ее края до противоположного.
В начале 1970-х годов под Нью-Йорком в исследовательских лабораториях Т. Дж. Уотсона, принадлежащих компании IBM,работал американский химик Ари Авирам. Как-то он встретился с Марком Ратнером из Университета штата Нью-Йорк, и после бурных обсуждений эти двое выдвинули идеи, которые было трудно воспринять любому физику того времени, даже весьма увлеченному электроникой и знакомому с новейшими достижениями в этой области. А дело в том, что Ратнер с Авирамом решили: вместо крошечного проводника куда разумнее приспособить к выпрямлению электрического тока молекулу, нужно только заставить ее проводить ток лишь в одном направлении. Для этого они придумали небольшую молекулу длиной 1,2 нм, состоявшую из двух разных частей: одна часть обогащена электронами, а другая – напротив, обеднена ими. Молекула, подключенная к двум электродам, по электроду на каждый край, работала как выпрямитель: электроны с электрода не могли пробиться через область, богатую электронами (те не пускали своих товарищей), но зато легко проскакивали через область, бедную электронами. Значит, электроны переносились через молекулу, то есть можно сказать, что через эту молекулу протекает электрический ток – но только в одну сторону.
Итак, столетием спустя после того, как Максвелл изобрел своего демона, Авирам и Ратнер описали молекулу, которая способна делать то же, что и максвелловский демон, но без всякой бесовщины. Такая молекула – сама по себе прибор. Сверхминиатюризованный. И ведет себя как демон Максвелла: в самом деле, молекула, как и чертик, сортирует частицы, но только не молекулы, а электроны, пропуская их лишь в одном направлении. Более того, эта молекула не смешивается с миллиардами миллиардов других молекул, потому что она может выполнять свое задание, а они – нет. Мысль о превращении одной, непохожей на другие, молекулы в электронный прибор ознаменовала рождение молекулярной электроники. Вот только тут возникла одна непростая задача: как к этой молекуле подсоединить макроскопические электрические провода?
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МОЛЕКУЛУ?
В середине 1980-х годов способов пропустить электрический ток через одну-единственную молекулу не существовало. И Авирам с Ратнером никак не могли доказать, что их молекула умеет выпрямлять ток. От них все только отмахивались: уж очень мала молекула, да и как к ней подвести провода? Других молекулярная электроника просто не интересовала: а зачем все это? Микроминиатюризация и без того движется вперед на всех парах. Мало-помалу сама идея молекулярной электроники выдыхалась.
В 1985 году, будучи молодым ученым, каковым я мог себя считать, поскольку уже написал диссертацию, я пришел к директору находящейся в Тулузе лаборатории оптики Национального научно-исследовательского центра ( CNRS), чтобы ознакомить его с решением задачи подключения, которое долго вынашивалось в моей голове. Мысль – проще некуда: сфокусировать пучок электронов электронного микроскопа на одной молекуле – а вдруг эта молекула пропустит несколько электронов? А потом их – эти проскользнувшие через молекулу электроны – попытаться собрать на электроде, подсоединенном к другому концу той же молекулы. Идея была очень уж наивная, и директор на пальцах растолковал мне, что молекула сразу же сгорит в высокоэнергетическом электронном пучке, так и не успев впустить в себя хоть парочку электронов.
Сам Авирам вел долгие разговоры по тому же поводу со знатоками электронной литографии из IBM.Он домогался от них ответа на такой вопрос: раз уж мы дожили до того, что методами электронной литографии удается формировать на поверхности кремния металлические проводки размером порядка 20 нм, то нельзя ли расщепить такой проводок, чтобы вставить в расщелину парочку-другую молекул? Специалисты, увы, его разочаровали: и проводок не разрезать – нечем и никак, а если бы это даже и удалось, то как добиться такой точности, которая нужна, чтобы щель получилась молекуле по размеру? Чтобы ей в щели было не тесно, но и не слишком просторно?
А между тем появилась совсем новая техника – туннельный микроскоп, изобретение европейских сотрудников IBM, которые работали в Цюрихе. Из Швейцарии новинка попала в другие исследовательские лаборатории IBMи даже в некоторые университетские лаборатории. В 1983 году туннельным микроскопом обзавелась и та лаборатория, в которой трудился Ари Авирам. Физики сразу же приспособили новый прибор к изучению полупроводниковых поверхностей: атомное разрешение (на изображении были различимы детали величиной с атом) позволяло не только лучше увидеть и понять структуру полупроводника, но и заметить ее дефекты. Авирама же эта задача оставила равнодушным – он возился с синтезом очередной новой молекулы.
А потом его осенило, как поменять форму молекулы таким образом, чтобы она работала выключателем – прерывателем электрического тока. Идея была такая: посадить молекулу на точку спайки, соединяющей два металлических электрода, а затем создать вокруг этой молекулы электрическое поле, которое заставит два атома водорода переместиться вдоль нее. Этот перенос атомов изменит ее электронную структуру, то есть распределение электронов внутри молекулы, и соответственно ее электропроводимость. Поскольку молекула теперь куда лучше проводит ток, чем в прежнем виде, то и ток во внешней электрической цепи должен увеличиться. А если гонять атомы водорода то в одну сторону, то в другую, молекула станет прерывателем электрического тока.
Но молекула-выключатель оставалась слишком уж крошечной, чтобы Авираму удалось убедить своих товарищей из IBMв том, что из его хлопот когда-то выйдет что-то путное, практичное.
Прошло время, и Авирам как-то все-таки обратил внимание на туннельный микроскоп, который уже три года работал в его лаборатории. Ари очень заинтересовала игла этого прибора – надо же, такая тонкая, кончик острия – всего несколько атомов! Вот он, тот самый ультраминиатюризованный электрод для подключения к одной-единственной молекуле, решил Авирам, и поспешил сплотить вокруг себя команду исследователей, сосредоточенных на одной цели: установить контакт между иглой и молекулой. Начали мы с подложки из золота. Потом рассыпали на золотой поверхности молекулы-выключатели, синтезированные Авирамом. Такая поверхность должна быть совершенно ровной, иначе любой заусенец можно принять за молекулу – нашу молекулу. Дело оказалось весьма непростым: иголка дергалась и из-за этого не задерживалась возле молекулы даже на секунду. Времени явно не хватало: даже если электроны и переберутся с иглы на молекулу, электронные схемы, управляющие туннельным микроскопом, просто не успеют засечь сигнал. Тогда мы перенастроили электронику микроскопа на самые скоротечные сигналы. И вспомнили все молитвы и все суеверия: надежда на успех, несмотря ни на что, жила в наших сердцах.