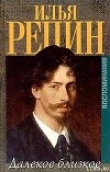Текст книги "Илья Репин"
Автор книги: Корней Чуковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В марте 1910 года Репин начал писать мой портрет, и тут я мог еще ближе всмотреться в процесс его творчества. Так как в качестве рефлектора передо мной было поставлено длинное зеркало, я видел свой портрет во всех стадиях его бытия.
Раньше всего Репин взял уголь и широко, размашисто, с необыкновенной легкостью, несколькими твердыми штрихами нарисовал меня в профиль от головы до колен.
Меня не в первый раз поразила молниеносная быстрота его стариковской руки.
Он вычертил контур с такой поспешностью, словно хотел поскорей отвязаться от угля, от всей этой неизбежной, но малоинтересной работы.
Так оно и было в действительности: ему не терпелось приняться за краски.
К масляным краскам он испытывал такое благодарное и нежное чувство, что каждое утро руки у него дрожали от радости, когда после ночного перерыва он снова принимался за палитру.
В масляных красках была вся его жизнь: уже лет пятьдесят, даже больше, они от утренней до вечерней зари давали ему столько счастья, что всякая разлука с ними, даже самая краткая, была для него нестерпима.
Он томился без них, как голодный без хлеба. Несколько раз я бывал с ним в Москве, в Выборге, в Хельсинках, в Ваммельсуу (у Леонида Андреева), и всякий раз он возвращался домой раньше, чем предполагалось вначале. Ибо существование вне мастерской, вне работы казалось ему совершенно бесцельным. Уже на второй день начинал тосковать и неожиданно для всех, прерывая разговор на полуслове, прерывая обед пли ужин, вскакивал из-за стола, торопливо прощался, и тут уже ничто не могло его удержать. Он даже становился невежлив, переставал улыбаться, сердито отмахивался от любезных хозяев, которые упрашивали его не спешить, и бежал без оглядки к поезду, чтобы возможно скорее приняться за краски. Так было при мне и в доме Марии Николаевны Муромцевой, и у драматурга Фальковского, и на даче у писателя Свирского.
Хотя он немало писал и акварелью, и гуашью, и сангиной, и тушью, но масляные краски были ему ближе всего. Они за его долгую жизнь стали как бы частью его существа, ибо ими он привык выражать с самых юных годов все свои чувства и мысли. И теперь, едва только был закончен набросок углем, он со знакомой мне нетерпеливой страстью быстро повесил себе на шею палитру, словно боясь опоздать; и через десять-пятнадцать минут на холсте уже возникли передо мной мои брови, мой лоб, мои волосы и тут же, заодно, мои руки. Все свои портреты Репин писал «враздробь», не соблюдая никакой очередности в изображении отдельных частей человеческого лица и фигуры, и той же кистью, которой только что создал мой глаз, вылепил одним ударом и пуговицу у меня на груди, и складку у меня на пиджаке.
И тут в сотый раз я заметил одну особенность его мастерства: он смешивал краски, даже не глядя на них. Он знал свою палитру наизусть и действовал кистями вслепую, не видя красок и не думая о них, как мы не думаем о буквах, когда пишем. Создавать портрет для него означало: пристально вглядываться в сидящего перед ним человека, интенсивно ощущать его духовную сущность, – и было похоже, что руки художника, независимо от его сознания, сами делают все, что надо.
Руки сами выхватывали нужную кисть, сами смешивали краски в должных пропорциях, а он и не замечал всей этой технологии творчества, так как она стала для него подсознательной.
По силе характеристики и по чисто живописным достоинствам мой портрет после двух первых сеансов оказался, вне всякого сравнения, лучшим из всех портретов, написанных Репиным в этот поздний период творчества. Но следующие три или четыре сеанса, к сожалению, так засушили портрет, что я, приходя в мастерскую позировать, всякий раз испытывал тяжелое чувство, которое не укрылось от его проницательных глаз. Впрочем, он и сам утверждал, что «душа из портрета ушла».
Летом мне случилось на короткое время покинуть Куоккалу, и, вернувшись домой 31 июля 1910 года, я получил от Репина такое письмо:
«Если Вы возвратились из Вашего веселого путешествия в Хельсинки… то не удосужитесь ли в понедельник 2 августа ко мне попозировать (очень необходимо: думаю, будет последний сеанс)… Отныне, то есть после Вашего затянувшегося портрета, я намереваюсь взять другую методу: писать только один сеанс– как выйдет, так и баста,а то все в разном настроении: затягивается и теряется свежесть и живописи и впечатление первоеот лица.
Так, если посчастливится писать с Короленко, – один сеанс,с Ре-Ми [46]46
Ре-Ми – псевдоним талантливого художника-карикатуриста из «Сатирикона» Николая Владимировича Ремизова. Репин восхищался его карикатурами на писателей – Ал. Блока, Федора Сологуба, М. Кузмина и других.
[Закрыть]– также. Это, пожалуй, будет интереснее и плодотворнее».
Конечно, он ошибся, полагая, что 2 августа будет последний сеанс. Я позировал ему до самой зимы, и кое-что удалось ему в моем портрете исправить. Но напрасно мечтал он вернуть ему первозданную свежесть: эта свежесть оказалась, по его выражению, «невозвратной, как молодость». И все же этот портрет, по словам репинского биографа, «производит чарующее впечатление… В нем есть одна черта, роднящая его с портретами Сурикова, Гаршина, Третьякова – он написан был с тем чувством влюбленности в модель, с каким художник создавал свои лучшие портреты.
Портрет очень красиво построен. Естественность и мягкость позы, какая-то особая плавность рисунка, всегда отличающая лучшие репинские вещи» [47]47
Пророкова С. Репин. М., «Молодая гвардия», 1958, с. 367.
[Закрыть].
Репин сам объясняет в вышеприведенном письме причину своих «неудач»: портрет, писание которого растянулось на несколько месяцев, пишется при разных настроениях, то есть при разных отношениях портретиста к тому, кого он пытается изобразить на портрете.
Между тем отношение Репина к вещам и людям было чрезвычайно изменчиво: об одном и том же предмете он мог на протяжении самого короткого времени высказывать с полной искренностью два диаметрально противоположных мнения.
Художник М. Ф. Шемякин вспоминает о нем: «Глядя на какое-нибудь вычурное произведение, он возмущался: „Зачем это? Зачем? Это сумасшествие!“ И вдруг, совершенно неожиданно: „Нет, нет, я беру слова обратно, глаза живые, живые, нет, нет, хорошо, хорошо, замечательно“» [48]48
«Художественное наследство». Репин, т. 2. М. – Л, Изд-во Академии наук СССР, 1949, с. 257.
[Закрыть].
Иногда для такой перемены бывало достаточно двух-трех минут. Бродский рассказывает в своих мемуарах, как, приехав к Репину в неурочное время, он был на первых порах встречен с самым сердечным радушием.
– Очень рад, подождите, я скоро спущусь! – крикнул ему Репин из глубины мастерской.
Но едва Репин спустился в прихожую, он с гневом обрушился на ошеломленного гостя:
«– Как вы смели сегодня приехать, вы ведь знаете, что я принимаю только по средам!.. Как вы смели приехать не в среду!» [49]49
Бродский И. И. Мой творческий путь, с. 77.
[Закрыть]
Такие внезапные перемены я наблюдал очень часто, а так как всякий репинский портрет есть раньше всего мнение Репина о данном человеке, о его нравственной личности, то, конечно, существенно важно, чтобы одно мнение не заглушалось другим, чтобы один приговор человеку не сталкивался с другим приговором, чтобы в портрете было выражено не пять или шесть разновременных и противоречивых оценок того или другого человека, а одна-единственная, пусть и сложная, но цельная, громкая, внятная для каждого зрителя.
Этим и сильны портреты Репина: объединением всех изобразительных средств для художественного воплощения какой-нибудь одной доминанты, определяющей всю суть человека. Таковы, например, портреты Мясоедова, Писемского, Фофанова, Фета, Микешина, Гаршина. В портрете Фофанова собраны десятки улик против мещанской души, симулирующей вдохновенную отрешенность от мира, в портрете Писемского каждый мазок – ипохондрик.
Это-то основноесвое впечатление он всегда выражал с виртуозной легкостью первыми же ударами кисти.
Но что было ему делать, если ко второму сеансу, уже через две недели, оно расплывалось, дробилось, теряло свою остроту и вытеснялось другими? В годы своего расцвета великий художник, очевидно, умел отметать от себя эти последующие наслоения чувств и оставался верен до конца своему первоначальному замыслу. А в те стариковские годы, когда мне довелось наблюдать его, он был совершенно бессилен бороться с изменчивостью своих впечатлений, и всякий новый сеанс уводил его все дальше и дальше от первоначального замысла, так что, в сущности, каждый написанный им в те годы портрет являлся как бы суммой многих портретов, из которых каждый последующий только мешал предыдущему.
Но страстная преданность искусству оставалась все та же.
Кроме общедоступной большой мастерской, занимавшей весь второй этаж его Пенатов, была еще одна мастерская, «секретная», и, проработав пять или шесть часов кряду в одной, он шел без всякой передышки в другую, к новым, «засекреченным» холстам. В этой «секретной» была очень любопытная дверь, которая сохранялась до 1907 года. Дверь массивная, тяжелая, глухая, и в ней небольшое окошечко. В это окошечко Репину подавали между часом и двумя скудный завтрак – редиску, морковь, яблоко и стакан его любимого чая. Всю эту снедь приносила ему Александровна, пожилая кухарка. Она стучала в окошечко, оно открывалось на миг и моментально захлопывалось.
Не покладая кистей Репин торопливо глотал принесенное и таким образом выгадывал для искусства те двадцать минут, которые потерял бы, если бы спустился в столовую.
Как уже сказано выше, такое изнурительное труженичество не однажды доводило его в старости до потери сознания.
На соседской даче жил садовник, по прозвищу Василий Щеголёк, статный чернобородый красавец. Он знал цену своей красоте и щеголял ею с необыкновенной грацией. На воскресниках Репина он был самым желанным гостем, так как умел артистически петь народные старорусские песни, аккомпанируя себе на гармонике. Репин бурно восхищался его даровитостью и вообще был дружески расположен к нему.
Этот Щеголёк как-то утром прибежал ко мне взволнованный и сообщил, что случилась беда: он только что позировал Репину в роли полуголого гребца-казака (для картины «Черноморская вольница»), Илья Ефимович по обыкновению оживленно беседовал с ним и вдруг как-то странно умолк, и, когда Щеголёк оглянулся, он увидел, что Репин сидит неподвижно на ступеньках стремянки, а голова его упала на палитру.
Василий выбежал и крикнул Александровну. Когда они оба вошли в мастерскую, Репин уже стоял на ногах, и они по глазам его поняли, что всякие разговоры о том, что случилось, будут ему неприятны.
Был вызван из Териок (или из Выборга) врач, который по наущению Натальи Борисовны приехал в ближайшую среду как будто в качестве гостя и в разговоре как будто случайно сказал Репину, что всякое чрезмерное напряжение сил грозит ему смертельной опасностью.
Репин выслушал его недоверчиво, но после нового обморока был вынужден подчиниться врачу. Тюремное окошечко в двери было вскоре заделано (тем же столяром-латышом, который сработал для Репина и знаменитый вертящийся стол и подвесную палитру). С этого времени Репин сократил свой рабочий день: работал в мастерской лишь до часу, а потом спускался вниз отдыхать, завтракал, полудремал на диване, читал корреспонденцию, только что принесенную с почты, разговаривал по телефону с Петербургом – и все же через два-три часа убегал обратно в мастерскую. Считалось, что по-настоящему он работает лишь по утрам, а предвечерние часы проводит в мастерской «просто так» – чистит палитру, готовит холсты и т. д. На самом же деле он тайком, воровски пробирался в «секретную», снова вешал себе на шею палитру и до сумерек отдавал свои силы «Черноморской вольнице», или «Поединку», или «Чудотворной иконе».
Даже по средам, которые считались у него днями отдыха, он пользовался всякой возможностью, чтобы не отрываться от любимой работы: то и дело зарисовывал в альбом приехавших к нему из Питера гостей. Если же в тот день приезжал к нему в гости кто-нибудь из художников – больших или малых, – Репин бодро и возбужденно кричал:
– А вы что же?! Отчего не присаживаетесь?
И те волей-неволей брались за карандаш или кисть. Илья Ефимович очень любил рисовать в компании с другими художниками, недаром в былые времена так охотно посещал он всевозможные «акварельные четверги» и «рисовальные пятницы». В его присутствии даже у самых ленивых, давно уже забросивших искусство, просыпалась тяга к рисованию, а некоторые, как, например, Юрий Анненков, Борис Григорьев, Василий Сварог, охотно включались в работу над общей моделью, не дожидаясь призыва.
Даже свою психически больную, безвольную дочь, оцепенелую Надежду Ильиничну он настойчиво побуждал к рисованию.
– Н а -д я ! – кричал он ей нежным и в то же время повелительным голосом, словно будя ее от непробудного сна. – Н а -д я !
Она покорно брала карандаш и с беспомощной улыбкой, вызывающей тоскливую жалость, начинала тонкими штрихами срисовывать то, что у нее перед глазами – край буфета, или угол стола, или узор на салфетке. Один из ее рисунков у меня сохранился – типичный рисунок душевнобольного, словно исполненный в психиатрической клинике.
Особенно спелся Репин в работе с Исааком Бродским, любимейшим своим учеником. Когда бы ни приезжал этот художник в Пенаты, Репин усаживал его за мольберт и начинал работать вместе с ним.
В те краткие периоды, когда у Репина бывало перемирие с сыном, жившим по соседству с Пенатами (а их размолвки длились порой годами, и вообще отношения у них были тяжелые), Илья Ефимович втягивал в работу и сына и очень радовался, когда тот соглашался прийти к нему в мастерскую со своей палитрой. Репин встречал его очень радушно, даже как будто заискивающе, и после первого же сеанса горячо одобрял его живопись, но Юрий Ильич выслушивал его в угрюмом молчании, не глядя ему в лицо, и норовил воспользоваться любой возможностью, чтобы ускользнуть из Пенатов и скрыться от отцовского глаза.
Дороже всего Репину были ранние часы, ибо высший творческий подъем бывал у него всегда по утрам. «Часы утра – лучшие часы моей жизни», – говорит он в замечательном письме к Владимиру Васильевичу Стасову, поэтически прославляя то счастье (и то страдание), которое дает ему живопись.
Письмо написано в 1899 году, когда дарование Репина было в зените. В этом письме с необычайной энергией выразилось то самозабвенное упоение творчеством, которое всегда было свойственно Репину.
«Я все так же, как с самой ранней юности, – говорит он в письме, – люблю свет, люблю истину, люблю добро и красоту как самые лучшие дары нашей жизни. И особенно искусство! И искусство я люблю… больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей. Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, неизлечимо… Где бы я ни был, чем бы ни развлекался, кем бы я ни восхищался, чем бы ни наслаждался… Оно, всегда и везде, в моей голове, в моем сердце, в моих желаниях лучших, сокровеннейших. Часы утра, ко[торые] я посвящаю ему, – лучшие часы моей жизни. И радости, и горести, радости до счастья, горести до смерти все в этих часах, кот[орые] лучами освещают или омрачают все эпизоды моей жизни» [50]50
И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. 3, с. 36.
[Закрыть].
И была еще одна черта в его творчестве, которая осталась в нем до конца его дней: это пытливое, научно-исследовательское отношение к сюжету. Когда он писал свою картину «Пушкин читает „Воспоминания в Царском Селе“», он для одной только фигуры Державина проштудировал и двухтомную гротовскую «Жизнь Державина», и обширные «Записки» поэта, и многотомное Собрание его сочинений. Приходя по воскресеньям ко мне, он просил читать ему Державина и готов был часами слушать и «Фелицу», и «Водопад», и «На взятие Измаила», и «Цирцею», и «Деву за арфою», и оду «Бог», и многое другое.
В ту пору у него в Пенатах стали часто бывать пушкинисты, особенно Семен Афанасьевич Венгеров и Николай Осипович Лернер, снабжавшие его грудами книг, и он по прошествии нескольких месяцев приобрел такую эрудицию во всем, что относится к лицейскому периоду биографии Пушкина, что, слушая его беседы с учеными, можно было счесть и его пушкинистом.
Вообще он так глубоко изучал материал для каждой своей картины, что иные из этих картин поистине можно назвать «университетами Репина». После того, например, как он написал «Запорожцев», на всю жизнь сохранились у него самые подробные сведения о повседневном быте украинской Сечи, и величайший авторитет в этой области, профессор Д. И. Яворницкий, не раз утверждал, что за время писания своих «Запорожцев» Репин приобрел столько знаний по истории украинского «лыцарства», что он, Яворницкий, уже ничего нового не может ему сообщить.
А сколько материала было изучено Репиным для «Ивана Грозного», для «Царевны Софьи» и прочих картин! Он счел бы себя опозоренным, если бы в его картине оказалось хоть малейшее отклонение от бытовой или исторической правды.
V. ЕГО РЕАЛИЗМ. ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ
После того как в печати появилась книга Репина «Далекое близкое» и вышли целые томы его замечательных писем (к Стасову, Васнецову, Третьякову, Мурашко, Жиркевичу и многим другим), мы наконец-то получили драгоценную возможность узнать с его собственных слов, в чем видел великий художник задачи и цели своего искусства.
Вот что писал он, например, об этих задачах и целях в статье о Валентине Серове, по поводу одной из его ранних работ:
«Мой главный принцип в живописи: материя как таковая. Мне нет дела до красок, мазков и виртуозности кисти, я всегда преследовал суть: тело так тело. В голове Васильева (написанной юным Серовым. – К. Ч.)главным предметом бросаются в глаза ловкие мазки и разные, не смешанные краски, долженствующие представлять „колорит“… Есть разные любители живописи, и многие в этих артистических до манерности мазках души не чают… Каюсь, я их никогда не любил: они мне мешали видеть суть предмета и наслаждаться гармонией общего» [51]51
Репин И. Далекое близкое, с. 351.
[Закрыть].
Эти слова характеризуют основные принципы творчества Репина.
Не живописность ради живописности, не щегольство удачными мазками, столь привлекательное для эстетствующих любителей живописи, а «суть предмета», «материя как таковая», точное воспроизведение зримого, без всякой похвальбы артистической техникой. Конечно, техника должна быть превосходной, но никогда, ни при каких обстоятельствах не следует выпячивать ее на первое место, так как задача ее чисто служебная: возможно рельефнее, живее, отчетливее выразить волнующее художника чувство, его отношение к предмету. Часто случалось мне видеть, как Репин уничтожает у себя на холсте именно такие детали, которые вызывали наибольшее восхищение ценителей, и уничтожает потому, что они показались ему затемняющими основную идею картины.
Помню плачущий голос Кустодиева, когда Репин замазал у нас на глазах одну из передних фигур своей «Вольницы»:
– Что вы делаете, Илья Ефимович?.. Ведь как чудесно была она вылеплена!
– Терпеть не могу виртуозничать, – сказал Репин не то сердито, не то виновато, затягивая всю картину драпировкой, и потом, когда мы шагали по куоккальским лужам до станции, Кустодиев с горестью рассказывал мне о нескольких подобных же случаях.
Еще в молодости Репин с презрением писал Стасову о «затхлых рутинерах», которые ценят великих мастеров только за их виртуозность. «О! Близорукие! – восклицал он в письме. – Они не знают, что виртуозность кисти есть верный признак манериста и ограниченной посредственности… Виртуозность кисти!.. Я просто презираю эту способность и бьюсь если, то уже, конечно, над другими, более важными вещами… Я всегда недоволен, всегда меняю и чаще всего уничтожаю эту вздорную виртуозность кисти, сгоряча нахватанные эффекты и тому подобные неважные вещи, вредящие общему впечатлению» [52]52
И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка, т. 1, с. 96–97.
[Закрыть].
«Мастерство такое, что не видать мастерства!» – похвалил одну из репинских картин Лев Толстой, и только такое мастерство было задачей Репина в течение всей его творческой жизни.
Мой портрет он написал вначале на фоне золотисто-желтого шелка, и, помню, художники, в том числе некий бельгийский живописец, посетивший в ту пору Пенаты, восхищались этим шелком чрезвычайно. Бельгиец говорил, что во всей Европе не знает мастера, который мог бы написать такой шелк.
– Это подлинный Ван Дейк, – повторял он.
Но когда через несколько дней я пришел в мастерскую Репина вновь позировать для этого портрета, от Ван Дейка ничего не осталось.
– Я попритушил этот шелк, – сказал Репин, – потому что к вашему характеру он не подходит. Характер у вас не шелковый.
Ему и здесь нужна была суть предмета. Характер так характер, а если ради «сути» приходилось жертвовать деталями, наиболее виртуозно написанными, он, не задумываясь, шел на эту жертву, так как согласно его суровой эстетике виртуозничанье для подлинного искусства – помеха.
О своем реализме Репин в книге выражался так:
«Будучи реалистом по своей простой природе, я обожал натуру до рабства…» [53]53
Репин И. Далекое близкое, с. 111.
[Закрыть].
И в другом месте снова подчеркивал, что его сугубый реализм составляет в нем, так сказать, «наследственность простонародности», отмечая тем самым демократическую сущность своего реализма. Этот «простонародный», беспощадно правдивый реализм был до такой степени свойствен ему, что проявлялся в нем даже вопреки его первоначальным намерениям. Его кисть была правдивее его самого. Он сам и в своей книге рассказывает, что, когда он задумал написать портрет Ге, он хотел придать ему черты той юношеской страстной восторженности, которая уже не была свойственна этому человеку в то время. Но кисть отказалась льстить и изобразила, к огорчению Репина, суровую, неподслащенную правду.
«…Я задался целью передать на полотно прежнего, восторженного Ге, но теперь это было почти невозможно… Чем больше я работал, тем ближе подходил к оригиналу… передо мною сидел мрачный, разочарованный, разбитый нравственно пессимист» [54]54
Там же, с. 311.
[Закрыть].
Он хотел изменить своему реализму, сфальшивить, прикрасить действительность, но для него это всегда было равносильно измене искусству.
Мне не раз приходилось наблюдать, как этот органический реализм шел наперекор сознательным намерениям Репина.
Был у Репина сосед, инженер, и была у этого инженера жена, особа замечательно пошлая. Она часто бывала в Пенатах и оказывала Репину, его дочери и Наталье Борисовне Нордман много мелких добрососедских услуг, так что Репин чувствовал себя чрезвычайно обязанным ей и решил из благодарности написать ее акварельный портрет. И вот она сидит в его стеклянной пристройке, он пишет ее и при этом несколько раз повторяет, какие у него к ней горячие чувства и какая она сердечная, добрая, а на картоне между тем получается мелкая, самодовольная женщина, тускло-хитроватая мещанка. Я указал ему на это обстоятельство, и он страшно на меня рассердился, повторяя, что это «ангельски добрая, прекрасная личность» и что я вношу в его портрет этой женщины свою собственную ненависть к ней. Но когда «ангельски добрая личность» сама увидела портрет, она обиделась чуть не до слез.
И Репин рассказал мне по этому случаю, как однажды его и художника Галкина пригласили во дворец написать царицу Александру Федоровну:
– И вот вышла к нам немка, беременная, выражение лица змеиное, сидит и кусает надменные тонкие губы. Я так и написал ее – злой и беременной. Подходит министр двора: «Что вы делаете? Посмотрите сюда!» – и показал мне портрет, который рядом со мной писал Галкин. У Галкина получилась голубоокая фея. «Простите, я так не умею», – сказал я смиренно и попросил с поклонами, чтобы меня отпустили домой.
Вот это-то свое качество – высшую правдивость таланта – Репин и назвал «обожанием натуры до рабства».
Бывало, в Куоккале стоит на морозе и восторженно смотрит вверх, словно слушает далекую музыку. Это он любуется дымом, который идет из трубы. И на лице у него умиление. «Какая фантазия – эти дымы из труб! – говорит он в одной статье. – Они так играют на солнце! Бесконечные варианты и в формах и в освещениях!»
Красками, тонами и формами зримого мира он часто восхищался, как музыкой. Вот его впечатления от Волги, от очертания ее берегов:
«Это запев „Камаринской“ Глинки… Характер берегов Волги на российском размахе ее протяжений дает образы для всех мотивов „Камаринской“, с той же разработкой деталей в своей оркестровке» [55]55
Репин И. Далекое близкое, с. 238.
[Закрыть].
И Рембрандта ощущал как музыку.
«…Рембрандт обожал свет. С особым счастьем купался он в прозрачных тенях своего воздуха, который неразлучен с ним всегда, как дивная музыка оркестра, его дрожащих и двигающихся во всех глубинах согласованных звуков» [56]56
Там же, с. 352.
[Закрыть]. «…Ни один художник в мире не сравнялся с ним в этой музыке тональностей» [57]57
Там же, с. 351.
[Закрыть].
И даже своего «сыноубийцу Ивана» написал под наитием музыки.
– Когда-то в Москве, – говорил он впоследствии, – я слышал новую вещь Римского-Корсакова. Она произвела на меня неотразимое впечатление, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки.
Отсюда, мне кажется, та музыкальность, которая присуща его лучшим картинам. Много раз я слышал от него, что, когда он писал «Дочь Иаира», он просил своего брата играть ему целыми часами на флейте, и, по его выражению, флейта была в полной гармонии с композицией и колоритом этой ранней картины.
Вообще всякий, кто хоть бегло перелистает его мемуары, увидит, что. кажется, ни один человек не умел так жарко, самозабвенно, неистово восхищаться материей, «физикой» окружающего реального мира. В своей замечательной статье о Крамском он вспоминает, что его товарищи-художники привезли как-то в коммунальную мастерскую натурщицу, лицо которой до такой степени полюбилось ему, что он буквально остолбенел от чрезмерного счастья.
«Я не помню, сколько сидело художников, – где тут помнить что-нибудь при виде такой очаровательной красоты! Я забыл даже, что и я мог бы тут же где-нибудь присесть с бумагой и карандашом… Голос Крамского заставил меня очнуться.
– Однако же и на вас как сильно действует красота! – сказал он…» [58]58
Репин И. Далекое близкое, с. 180.
[Закрыть].
Репин не был бы Репиным, если бы зримое не доставляло ему таких наслаждений. Еще когда он был ребенком, его мать говорила ему:
«Ну что это за срам, я со стыда сгорела в церкви: все люди, как люди, стоят, молятся, а ты, как дурак, разинул рот, поворачиваешься даже к иконостасу задом и все зеваешь по стенам на большие картины» [59]59
Там же, с. 83.
[Закрыть].
Тот ничего не поймет в Репине, кто не заметит в нем этой черты. Если бы он не был по натуре таким восторженным и ненасытным «эстетом», он никогда не поднялся бы так высоко над большинством передвижников. Недаром Крамской дал ему прозвище «язычника», «эллина».
Я уже говорил, что всякий раз, когда рисовал он с натуры или лепил кого-нибудь из глины, у него на лице появлялось выражение счастья. Он сам описывал это счастье такими словами:
«…Я – о блаженство, читатель! – я с дрожью удовольствия стал бегать карандашом по листку альбома, ловя характеры, формовки, движения маленьких фигурок, так прелестно сплетавшихся в полевой букет…» [60]60
Там же, с. 246.
[Закрыть].
Эта эллинская любовь к «предметам предметного мира» заставила его уже в предсмертные годы воскликнуть в письме к дочери:
«Какое счастье писать с натуры тело!» [61]61
Архив Русского музея, Ленинград.
[Закрыть]
Но значит ли это, что у него было эстетское восприятие жизни? Конечно, нет.
Мы уже видели на предыдущих страницах, с каким презрением Репин относился к эстетству, как ненавидел он акробатику кисти, живописность ради живописности. Он всегда с сочувствием цитировал ныне забытое изречение Крамского, что художник, совершенствуя форму, не должен растерять по дороге «драгоценнейшее качество художника – сердце».
И если Репин стал любимейшим художником многомиллионного народного зрителя, то именно потому, что его живопись была осердечена.
Мастерство и сердце – вот два равновеликих слагаемых, которые в своем сочетании и создали живопись Репина, как они создали романы Толстого, поэзию Лермонтова, музыку Мусоргского.
Уже его учитель Крамской понимал, что слагаемые эти равновелики.
«Без идеи нет искусства, – писал он, – но в то же время, и еще более того, без живописи живой и разительной (то есть без мастерства. – К. Ч.)нет картин, а есть благие намерения, и только» [62]62
Крамской И. Н. Письма, статьи, т. 2. М., «Искусство», 1966, с. 139. Письмо к Стасову от 30 апреля 1884 г.
[Закрыть].
Репин был вполне солидарен с Крамским и писал ему еще в 1874 году:
«…Наша задача – содержание… Краски у нас – орудие, они должны выражать наши мысли. Колорит наш – не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу, он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд в музыке. Мы должны хорошо рисовать» [63]63
И. Е. Репин и И. Н. Крамской. Переписка. М. – Л, «Искусство», 1949, с.72–73.
[Закрыть].
«Хорошо рисовать» – это и есть изощренная техника, но эта техника, по мнению Репина, должна существовать не сама по себе, а в сочетании с «сердцем», с «идеей».
Однако тут же, в этой самой книге, мы наталкиваемся на мысли, которые неожиданным образом резко противоречат утверждениям обоих художников о единой природе содержания и формы. Эти мысли можно было бы назвать антирепинскими – до такой степени враждебны они всей творческой практике Репина.
Очевидно, «обожание натуры», которое, как мы видели, было наиболее отличительным качеством Репина, захватывало его с такой силой, что ему в иные минуты казалось, будто, кроме восторженного поклонения «предметам предметного мира», ему, в сущности, ничего и не надо, что самый процесс удачливого и радостного перенесения на холст того или иного предмета есть начало и конец его живописи.
«Невольно, – писал он тогда, – возникают в таких случаях прежние требования критики и публики от психологии художника: что он думал, чем руководился в выборе сюжета, какой опыт или символ заключает в себе его идея?
Ничего! Весь мир забыт; ничего не нужно художнику, кроме этих живых форм; в них самих теперь для него весь смысл и весь интерес жизни. Счастливые минуты, упоения…» [64]64
Репин И. Далекое близкое, с. 246 (курсив мой, – К. Ч.).
[Закрыть].
Конечно, без этих счастливых минут упоениявообще не существует художника. Но Репин не был бы русским художником шестидесятых-семидесятых годов, если бы во всех его картинах эта страстная любовь к живой форме не сопрягалась со столь же страстной идейностью.
Правда, в жизни Репина был краткий период (1893–1898), когда он объявил этой идейности войну, словно стремясь уничтожить те самые принципы, которые лежат в основе всего его творчества, которые и сделали его автором «Не ждали», «Бурлаков», «Крестного хода», «Ареста».
Этих высказываний особенно много в его «Письмах об искусстве», «Заметках художника» и в статье «Николай Николаевич Ге и наши претензии к искусству», написанных в 1893–1894 годах.
Идейное содержание картин Репин в этих статьях пренебрежительно именует «публицистикой», «дидактикой», «литературщиной», «философией», «моралью». Русские художники, пишет он, «заедены» литературой.
«У нас нет горячей, детской любви к форме; а без этого художник будет сух и тяжел и мало плодовит. Наше спасение в форме, в живой красоте природы, а мы лезем в философию, в мораль – как это надоело» [65]65
Репин И. Е. Письма к Е. П. Тархановой-Антокольской и И. Р. Тарханову, с. 33.
[Закрыть].
«Да, у нас над всем господствует мораль. Все подчинила себе эта старая добродетельная дева и ничего не признает, кроме благодеяний публицистики».
«У нас же царят еще утилитаризм и литература в живописи».
«…Нельзя „порабощать“ великий дух художника „во имя гражданского долга“» [66]66
Репин И. Далекое близкое, с. 312, 322 и др.
[Закрыть].