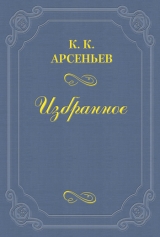
Текст книги "Дело Мясниковых"
Автор книги: Константин Арсеньев
Жанр:
Юриспруденция
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Прежде чем идти далее, я должен упомянуть об одном доказательстве, которое играет некоторую роль в речах моих противников, о той экспертизе, которая была вами выслушана. Я считаю себя тем более вправе выразить свой взгляд на экспертизу, как на доказательство, не имеющее никакого существенного значения, что недавно еще, когда дело о завещании Беляева производилось в гражданском суде, я высказал то же самое мнение, хотя экспертиза в то время склонялась в пользу действительности завещания. Я понимаю значение экспертизы там, где требуются специальные познания, где ни один из нас, людей, обладающих общим образованием, не может сказать утвердительно, как следует смотреть на дело. Но когда экспертиза касается предметов, доступных почти каждому из нас, когда она касается вопросов, которые этим путем разрешены быть не могут, то я полагаю, что значение ее самое ограниченное. Я полагаю, что при сличении почерков, очень часто совершенно против воли и незаметно для самих граждан экспертов, играет роль та обстановка, при которой приходится давать заключение, и вот почему в настоящем деле часто изменялись воззрения экспертов. Вот почему те самые лица, которые при предшествовавших исследованиях приходили к одному убеждению, теперь приходят к противному; а другие, оставшиеся верными своему взгляду, прежде взгляд этот мотивировали так, а теперь мотивируют его иначе. Не доказывает ли это, с одной стороны, что характер экспертизы соответствует характеру того момента, в который она производится, – повторяю, против воли граждан экспертов, – а с другой стороны, что она вся с начала до конца построена на самых шатких основаниях. Я не стану припоминать вам всех тех противоречий в разных экспертизах по настоящему делу, которые были мною своевременно указаны; припомню только одно: когда производилось сличение почерков на предварительном следствии в прошедшем году, эксперты, из которых многие явились сюда, показали, что подделка есть, но весьма грубая, плохая и те же самые эксперты в один голос в настоящем заседании объявили, что подделка должна быть признана очень искусной, и, следовательно, стали вразрез с тем мнением, которое было высказано ими ранее. Наконец, припомните показание эксперта Иванова, из которого видно, что хотя ответы и даны экспертами единогласно, но что один и тот же вывод построен разными экспертами на различных основаниях. Какие же основания имелись в настоящее время для признания подписи сомнительной? Эксперты объяснили, что одно из этих оснований – большая крупность букв в подписи на завещании. Обстоятельство это было только раз замечено при прежних экспертизах, и притом только теми экспертами, которые признали, что подпись похожа. Затем эксперты указали на некоторую нетвердость почерка. Эта нетвердость опять-таки была признана той же первой экспертизой, которая высказалась в пользу подлинности завещания. Притом нетвердость почерка или раздельность каждой черты, о которой говорили перед нами эксперты, разве не может быть объяснена болезненным состоянием Беляева? Когда человек пишет твердой здоровой рукой, он пишет большей частью связно, пишет свою фамилию обыкновенно одним размахом пера; но когда он пишет среди испытываемой им сильной боли, то нет ничего удивительного, что каждая буква им пишется отдельно, так как каждая черта, каждое движение стоят ему чрезвычайных усилий. Подпись, которую считают сделанной человеком больным, скорее тогда была бы сомнительной, если бы была сделана твердой рукой.
Сверх того, во время производства дела очень большую роль в отзывах экспертов играли разные вопросы, которые на суде совершенно устранены.
Те эксперты, которые признавали подпись сомнительной, говорили в подтверждение своего мнения, что Беляев подписывался без росчерка с буквой «ъ» или с росчерком, но без буквы «ъ»; в завещании же имеются и росчерк и буква «ъ». Это играло громадную роль при первых экспертизах. Теперь же, когда доказано, что есть несомненные подписи Беляева, такие же, как на завещании, естественно это обстоятельство теряет значение. То же самое следует сказать и о точке, которую Беляев будто бы всегда ставил после своей фамилии. Теперь утверждают только, что подпись Беляева без точки и с росчерком при «ъ», – как вы думаете, господа присяжные заседатели, что обыкновенно общее правило или исключение? Я полагаю, что никто не усомнится в том, что берется за образец подпись обыкновенная, чаще всего встречающаяся, а когда при этом имеется еще секрет, столь легко угадываемый, как точка, то каждый подделыватель непременно поставил бы эту точку.
Я обращу ваше внимание еще на одно весьма важное обстоятельство: в глазах обвинительной власти весьма большую роль играют все те внешние особенности завещания, выставляемые на вид экспертами, которые должны убедить вас в фальшивости завещания. Но где же находилось завещание во время производства дела? Хранилось ли оно в таком месте, откуда Мясниковы или Беляевы, при всем своем желании, не могли добыть его и уничтожить? Нет. Завещание весьма часто возвращалось в руки Беляевой, даже после того, как производилось первое следствие по настоящему делу. Чего стоило бы человеку, сознающему свою преступность, истребить завещание и вместе с ним материальное доказательство преступления? Троекратное представление завещания к делу, в последний раз в 1870 году, является, по моему мнению, гораздо более важным, чем та шаткая, смутная экспертиза, на которую ссылается перед вами обвинительная власть.
Затем вам представляется со стороны обвинения целый ряд соображений, касающихся способа появления завещания на свет, как оно было передано Беляевым своей жене, как было принято ею и представлено к засвидетельствованию. Вот те вопросы, которые обсуждаются поверенным гражданского истца и представителем обвинительной власти с весьма большой подробностью. Прежде чем перейти к этому, я должен возвратиться несколько назад и показать оборотную сторону вопроса о подложности завещания.
Вам представлялись, господа присяжные, разные доводы, говорящие в пользу подложности завещания. Я уже указывал вам на личность свидетелей, подписавшихся на завещании, как на аргумент в пользу действительности завещания; но посмотрим, в самом завещании нет ли еще указаний на то, что оно не подложно. Во-первых, на чем преимущественно основывают мои противники свой спор о подлоге? На том, что Беляев в мае месяце был человеком довольно крепким, ездил на торги, писал разные бумаги и, следовательно, должен был написать завещание сам. Но представьте себе, что завещание было бы помечено 23 сентября, днем, предшествовавшим смерти Беляева. Тогда все эти соображения пали бы безвозвратно. Самые ярые ревнители аккуратности Беляева должны были бы сознаться, что Беляев накануне смерти был настолько слаб, что не мог написать завещания сам и не мог даже подписать его с полным означением своего звания; но этого нет: на завещании выставлено 10 мая. Кто составляет подложный документ, и в особенности так обдуманно, так тонко, как составлено в данном случае завещание, по словам поверенного гражданского истца, тот не мог обойти такого простого вопроса, почему же именно выбрано 10 мая? Что за странность! Ведь, таким образом, составитель завещания добровольно окружает себя опасностями, дает не только повод утверждать, что в этот день Беляев был здоров, но и возможность доказать, что он не был дома, возможность сличать подпись Беляева на завещании с почерком его в дневнике того же числа, словом, без всякой надобности усложняет задачу и затрудняет успех задуманного дела. Что могло помешать пометить завещание 23 сентября?
Мы знаем, что Целебровский был в это время в Петербурге, Отто лечил больного, а Сицилийский приходил к нему в самый день смерти. Стало быть, подписи их могли быть отнесены к этому числу. Наконец, если подпись была сделана Карагановым на белом листе бумаги и нужно было подгонять текст к этой подписи, то не проще ли было призвать Караганова и приказать ему сделать еще подпись, и Караганов еще с большей легкостью тотчас бы сделал новую подпись, быть может, еще лучшую, чем первая. Что же было стесняться с Карагановым? Раз заручившись помощью его, можно было написать завещание совершенно спокойно, на досуге, не торопясь, со всеми подробностями и формальностями, и, быть может, Караганов изловчился бы так, что подписал бы полным титулом Беляева, если уже с первого раза он дошел до такой степени совершенства.
Прежде чем покончить с завещанием, я должен указать один несомненный факт, имеющийся в деле, – намерение Беляева сделать завещание. Факт этот не оспаривается даже и обвинением; но, тем не менее, я считаю долгом напомнить те указания, которые мы имеем по этому предмету. Во-первых, это доказывается обрывком, написанным рукой Беляева и найденным при обыске у Мясникова, а во-вторых, показаниями свидетельницы Сицилийской, которая говорит, что в присутствии ее шла речь о каком-то лице, умершем без завещания, и Беляев сказал, что с ним этого не случится. Что этот разговор был, в этом, конечно, нельзя сомневаться. Думаю, что Сицилийская, женщина пожилая и почтенная, произвела на вас такое впечатление, что вы не заподозрите ее в желании показывать фальшиво для того, чтобы прибавить один слабый довод ко всем другим основаниям защиты. Затем вы слышали показание свидетельницы Ивановой. Если бы оно было обдумано, подготовлено, как на то намекали, то оно, конечно, было бы дано иначе. Если бы Иванова сговорилась с Беляевой, то она, разумеется, не сказала бы, что слыхала, будто Беляевой сделано было завещание в пользу мужа, между тем как Беляева объяснила уже по выслушании показания Ивановой, что она такого завещания никогда не составляла. Говорят еще, как могла Иванова слышать подобный разговор в 1857 или 1858 году по поводу смерти Громовой, когда Громова умерла в 1856 году, но неужели разговор об отсутствии завещания может идти только сейчас после смерти известного лица? Быть может, была какая-нибудь тяжба, какие-нибудь семейные несогласия, и по этому поводу возник разговор о завещании. Следовательно, одно из двух – или завещание Беляева в то время было составлено, или же выражалось такое твердое намерение его составить, от которого до исполнения один шаг, задерживавшийся, может быть, боязнью смерти, но совершившийся, наконец, под влиянием болезненных припадков, заставлявших Беляева опасаться внезапной кончины. Поверенный гражданского истца, с помощью исторических фактов, результатов и своих собственных разговоров с кавказским генералом утверждает, что совершению всякого события предшествует смутный говор и что такой говор предшествовал появлению завещания, но здесь поверенный гражданского истца снова возвращается к той массе показаний, которые мы откинули уже по общему согласию. Где же доказательства тех слухов и толков, на которые ссылается поверенный? Нет ни одного добросовестного свидетеля, заслуживающего доверия, который бы говорил об этом. Поверенный гражданских истцов сослался только на свидетеля Китаева, того самого, все показания которого исполнены противоречий и который объяснял их невнимательностью своею у судебного следователя. Слух о подложности завещания мог появиться среди дворни, недовольной тем, что в завещании ей не было ничего оставлено, и вследствие этого заподозрившей его подлинность; но это было уже после открытия самого завещания. Слух распространился, когда Красильников поехал к Ракееву заявить о подложности завещания. Замечу мимоходом, что Красильников старался набросить тень на Сицилийского; но вы также слышали, что показал по этому поводу Ракеев, Пущенный, таким образом, слух, конечно тотчас был подхвачен. Как известно, в некоторых слоях нашего общества весьма рады подхватить всякую скандальную историю и в особенности такую, где замешана богатая фамилия Мясниковых; но о появлении завещания, повторяю, никаких слухов, никаких толков не было.
Поверенный гражданского истца говорит, что в первое время после смерти Беляева сама Беляева говорила и другие лица тоже показывали, что завещания нет. В этом отношении он основывается опять на тех же показаниях устраненных свидетелей, и вот является на сцену забытый нами Штеммер, который отыскивает свидетельницу Синцову в Измайловском полку и тащит ее против воли давать показание, Штеммер, который не признает на суде своих собственных писем, Штеммер, который ездил уговаривать Авдотью Кемпе пойти по этому делу в свидетельницы и показать, что ее сын, служивший когда-то у Мясниковых, слышал о подложности завещания. Вот кто должен появиться на сцену, если захотят доказать, что Беляева, Целебровский и Отто говорили, что завещания нет. Я полагаю, что можно совершенно спокойно устранить таких свидетелей и никогда более не возвращаться к ним.
Затем перехожу к разбору показания Беляевой, показания, конечно, весьма существенного в настоящем деле. Прежде всего я не могу не заметить разницы в отношениях к Беляевой обвинительной власти и поверенного гражданского истца. Обвинительная власть признает возможным совершенно откинуть показание, данное Беляевой в 1871 году на втором следствии, показание, данное Беляевой, по ее словам, под влиянием испуга. Поверенный гражданского истца опирается в особенности именно на это показание Беляевой и останавливается на вопросе, можно ли верить испугу Беляевой?. Не знаю, трепетная ли лань Беляева, но во всяком случае знаю, что она боязливая женщина. На это есть два указания: во-первых, свидетель Погожев показал, что она боялась не только дела о завещании, но и всяких пустяков; во-вторых, ее образ действий в нашем присутствии подтверждает это. На вопрос прокурора в начале заседания, когда она была очень смущена, она даже отвечала, что ее никогда не вызывали к судебному следователю, тогда как через несколько времени подробно объяснила, когда давала показание и как давала его. Говорят, что перед вами, перед торжественным судом вашим, она должна была более смутиться, чем у судебного следователя; носам поверенный гражданского истца напоминает вам, что она теперь освобождена от обвинения, а тогда она могла ожидать привлечения к делу и потом действительно была привлечена к нему в качестве обвиняемой. Затем был ли для Беляевой внешний повод к испугу? Полагаю, что был. Поверенный гражданского истца передал слова Беляевой таким образом, будто бы беспрестанные звонки расстраивали ее нервы; но это перетолкование слов ее не заставит вас забыть истинного их смысла. Дело в том, что над домом Беляевой висела туча, заметная для нее самой. Было замечено, что агенты сыскной полиции слишком искусны, чтоб прямо идти в дом, звонить и открыто наводить свои справки. Но есть различные приемы действий, соответствующие разным обстоятельствам. Пока сведения собирались, нужно было действовать осторожно, но когда дело вступило в новый период, когда Караганов был привезен в Петербург и дал свое показание, тогда можно было действовать решительнее, чтоб повлиять на впечатлительную личность. Я не счел бы себя вправе говорить о таких догадках, если б неожиданно явившееся показание свидетеля Петрова, вызванного обвинительной властью и отвечавшего на ее вопросы, а не на вопросы защиты. Хотя Петров и не признал, что Ижболдин подкупал его, но здесь, на суде, он передал такие обстоятельства, которые легко могут дать повод предположить, что, может быть, он в пьяном виде рассказывал, что его подкупили. Этот рассказ мог дойти до Беляевой, она могла подумать, что окружена опасностями, что за ней следят, что вся прислуга готова изменить ей, и, конечно, могла испугаться. Прежде чем пойду далее, я обращу ваше внимание на одно обстоятельство, которое в моих глазах имеет весьма важное значение и как нельзя более содействует объяснению неопределенности и противоречий, замечаемых в показаниях Беляевой. Источник их заключается в событиях 1865 и 1866 годов, о которых так много говорил прокурор. В это время она поссорилась с Мясниковыми. Поводом к ссоре были два дела: споры по условию 22 декабря 1858 г. и спор по опеке Шишкина. В это время она подает в Управу благочиния прошение, в котором отзывается о Мясниковых весьма дурно. Отсюда враждебное расположение, которое поддерживается поверенным Беляевой Чевакинским. Он везде говорит, что сомневается в подлинности завещания; он ограждает безопасность своей доверительницы ранее, чем кто-нибудь угрожает этой безопасности; он готов взять расписку от Ижболдина, что тот ее преследовать не будет; он хочет заключить условие с Ижболдиным и быть двадцатым или тридцатым поверенным Ижболдина по этому делу. После такого эпизода понятно, что Беляева на следствии могла быть поставлена в не совсем ловкое положение. Она сожалела о том, что увлеклась враждебным расположением к Мясниковым, и этим можно объяснить некоторую неопределенность ее ответов. Но еще важнее другое объяснение, как нельзя более простое, вытекающее из самого положения дела. Беляева спрошена в первый раз через 10 лет после составления завещания; затем, почти через 14 лет явилась свидетельницей на суде; она женщина далеко не молодая. О чем же ее спрашивают? О таких вещах, которые большая часть из нас, людей еще не старых, забывает весьма легко. Представьте себе, что вам передают какую-нибудь бумагу и просят ее спрятать; проходит несколько месяцев, и вы ее возвращаете; потом через несколько лет вас спрашивают, в каком помещении вашей квартиры вы ее хранили? Я думаю, что в девяти случаях из десяти никто не будет в состоянии дать положительный ответ на этот вопрос, за исключением разве лиц, которые заранее приготовились дать ответ на всякий вопрос, которые, сознавая себя виновными, приняли заранее меры, чтоб не говорить ни одного слова, которое могло бы повредить им, и не умалчивать о том, что может послужить в их пользу. Следовательно, когда Беляеву спрашивают, куда вы положили завещание, неужели вы будете удивляться, что она отвечает: «не помню»? Неужели вы заподозрите из-за этого правдивость ее ответов? Затем ее спрашивают: прочли ли вы завещание? Раз она говорит, что только посмотрела его, раз – что не дочитала, раз – что пробежала начало и конец. Неужели к этому можно придираться? Неужели можно требовать, чтоб Беляева через 14 лет помнила все подробности тяжелой для нее минуты, когда она узнала, как близок конец любимого ею мужа? Будь она участницей в преступлении, будь завещание фальшивое, она бы нашлась, дала бы определенный ответ, и потому неопределенность показания ни в каком случае против нее обращена быть не может. Что она показала на втором предварительном следствии? Есть ли тут такое громадное разноречие, та открытая дверь, о которой говорил поверенный гражданского истца? Она сказала: «Да, я передала завещание Мясникову, но то ли самое, которое он привез назад, не знаю». Нельзя же предполагать, что завещание в ее пользу было обращено в другое завещание в ее пользу. Если подложно то завещание, которое ей привез Мясников, подложно и то, которое она передала Мясникову, и никакая открытая в этом смысле дверь ей не поможет. Затем вас спрашивали, как могла Беляева обратить внимание не на то, что ей оставлено, а на подписи свидетелей? Но разве она сказала, что обратила внимание на подписи? Она сказала только, что прочла их. Когда человек убит горем, он обращает внимание на то, что первое попадается ему на глаза, а не на то, что для него важнее. Если бы она подготовлялась к показанию заранее, то не сказала бы, что Сицилийский и Отто подписались на завещании одним только своим именем. Ведь завещание было у ней в руках в течение 10 лет; неужели она не могла изучить его достаточно, чтобы помнить, как оно было подписано, и не отвечать разноречиво в вашем присутствии. Вся совокупность ответов Беляевой показывает, что она отвечала неопределенно под влиянием весьма понятного смущения. Нам говорят, что она давала раздражительным тоном ответ «да», «нет». Но можно ли оставаться хладнокровным, когда лицо, не уполномоченное к тому законом, прежде начала допроса просит о записке в протоколе ее показаний на случай возбуждения вопроса о лжесвидетельстве? Если бы это сделал прокурор – и тогда Беляева не могла бы остаться к этому равнодушной; но если это делает лицо, имеющее только гражданский интерес в деле, то является не только смутное состояние беспокойства, но и весьма понятное раздражение, и если это раздражение слышалось в ответах Беляевой поверенному гражданского истца, то это совершенно естественно. Затем прокурор опять задается целым рядом вопросов: отчего не было того, отчего не было другого, отчего то или другое было сделано так или иначе? Посмотрим, могут ли нас привести к чему-нибудь подобные вопросы.
Прокурор говорит: странное дело, зачем Беляев передал завещание на сохранение жене, зачем не сделал этого раньше, зачем не внес завещания в какое-нибудь присутственное место, не передал его для хранения какому-нибудь должностному или частному лицу? Но опять, повторяю, можно ли требовать таким образом отчета от человека, зачем он поступил так, а не иначе? Каждый человек может поступать различно, хуже или лучше, осторожнее или неосторожнее. Если он избирает средство, которое кажется нам менее целесообразным, неужели из этого можно выводить, что он вовсе того или другого не сделал? Беляев мог раньше не передавать завещания жене, потому что считал возможным его изменить и думал, когда соберется с силами, написать другое завещание; затем увидев, что здоровье его все больше и больше расстраивается, он мог решиться оставить завещание как оно есть и передает его жене. Что же тут удивительного? Бездна завещаний пропадает, может быть, от непринятия завещателями предосторожностей, но как бы то ни было, завещания далеко не всегда вносятся для хранения в присутственное место; притом этот обряд особенно полезен только тогда, когда исполнен лично завещателем, а в последние недели перед смертью Беляев, как известно, не выезжал.
Беляев передал завещание жене потому, что ему хотелось, чтобы во избежание забот оно заблаговременно было в руках ее. Он не говорит ей, что это за бумага. Но ведь передача какой-нибудь бумаги в торжественную минуту жизни достаточна, чтобы обратить на нее внимание получающего. Еще спрашивают: зачем он не сказал жене, что именно оставил ей? Но к чему было такое перечисление? Естественно ли ожидать такого разговора между мужем и женой, которые друг друга любят, если притом не имеют детей и жена сама по себе достаточно обеспечена. Понятно, что человек нежный, каким был Беляев, каким он является в своих письмах и был выставлен прокурором, понятно, что такой человек избегает подобного разговора. Прокурор идет далее, он говорит: почему Беляева не спросила мужа, сколько и что он ей оставил? Такой вопрос совершенно немыслим при той обстановке, которая господствовала в семействе Беляевых, тем более что для Беляевой вопрос, сколько оставил ей муж, не был вопросом жизни или смерти: она женщина не бедная, имела свои винокуренные заводы и прекрасные дома и знала, что после смерти мужа останется во всяком случае в хорошем материальном положении. Вот все эти соображения и несомненное горе Беляевой, в котором только поверенному гражданского истца угодно было сомневаться, показывают ясно: почему и в первое время после смерти Беляева она не торопилась раскрыть завещание и не тотчас приняла меры к его засвидетельствованию. Говорят, что она держала его 40 дней в безгласности. Нет, она так показала, но это одна из неточностей, которые составляют главный признак искренности. Она представила завещание к засвидетельствованию на 23-й день. Беляев умер 24 сентября, а завещание внесено в Палату 16 октября. Говорят, зачем она не успокоила несчастную заболевшую Ремянникову, не сказала тотчас, что ей оставлено 4000 рублей? Но что такое 4000 рублей для женщины старой, одинокой, которая привыкла к хорошей материальной обстановке? Для нее гораздо важнее было знать, оставит ли ее свояченица у себя на прежнем положении. Может быть, она сначала в этом сомневалась и просила помощи Мясникова? Но что показывала здесь на суде Беляева? Она показала, что успокоила Ремянникову, обещала ей не оставлять ее. Затем, уж безразлично когда, она сказала ей, что именно ей завещано. Следовательно, предположение, что болезнь Ремянниковой зависела от неопределенности ее положения, совершенно не выдерживает критики. Затем прокурор говорит о негодовании Шмелева, который считал себя вправе думать, что ему что-нибудь оставлено, и удивлялся, как же этого в завещании нет. Но где доказательства, что о негодовании его было известно Беляевой? Притом о негодовании Шмелева нам известно из источника очень подозрительного. Одним словом, как ни посмотреть на дело, совершенно понятно, что Беляева могла первые дни после смерти мужа не говорить о завещании, не представлять его к явке. Но говорят, есть доверенность, которой Беляева еще в сентябре уполномочила Мясниковых вести все свои дела. Но, во-первых, в этой доверенности нет ничего о завещании, и, во-вторых, она написана неизвестно кем, неизвестно по чьему приказанию; может быть, по распоряжению Мясникова или другого лица, может быть, управляющего конторой. Такая доверенность на всякий случай была приготовлена, но дело в том, что она никогда не была выдаваема, следовательно, вывод, что в конце сентября Беляева хотела распоряжаться делами и дать ход завещанию, ни на чем не основан. Во всяком случае эта доверенность не говорит ничего ни в пользу, ни против подлинности завещания. Наконец, остается еще одно, кажется, последнее соображение, касающееся завещания. Говорят, как можно допустить, чтобы Беляев, любивший свою жену, оставил завещание, которое могло только поставить ее в затруднение? Можно ли допустить, что Беляев, зная, что у него есть деньги, оставил жене достояние, обремененное долгами, чуть ли не свыше стоимости его? Этот вопрос более относится к последнему вопросу – о величине состояния Беляева; но допустим, что мы уже доказали, что состояние было небольшое, обремененное долгами. Не забудьте, что Беляев составил завещание 10 мая, в то время, когда не знал, какой оборот примут его дела, и мог думать, что в момент его смерти положение их будет весьма благоприятно. Он мог надеяться, что проживет еще долго, так как его болезнь принадлежала к числу тех, которые могут и быстро окончиться, и продолжаться очень долго. Наконец, Беляева и на самом деле получила по условию 22 декабря независимо от всех ее собственных имений 120 000 рублей капитала, то есть разницу между сохранной распиской и ценностью уступленного Мясникавым имения Беляева. Сверх того Беляева получила в свою пользу такое имущество ее мужа, которое не было уступлено Мясниковым по условию 22 декабря. На это есть одно указание: как видно из сведений, доставленных Олонецкой Казенной Палатой, Беляева после смерти мужа и скончания расчетов, по олонецкому откупу, получила половину оставшейся суммы за вино, именно 9000 рублей, а другая половина пошла Красильникову. Может быть, она получила и другие суммы; ведь по условию 22 декабря к Мясниковым перешли только одни предприятия Беляева, а у него, как видно из счета 10 сентября 1857 г., были должники, которые, может быть, заплатили Беляевой. Итак, составление такого завещания с любовью Беляева к жене, не подлежащей никакому сомнению, нисколько в противоречии не находится.
Прежде чем продолжать речь, я просил бы на основании состоявшегося вчера определения суда предъявить счеты присяжным заседателям. (Счеты предъявляются).
Обращаюсь теперь к самому существенному вопросу: не имел ли кто-нибудь, и кто именно, интереса составить подложное завещание? Этот вопрос находится в тесной связи с вопросом о состоянии Беляева. Я должен просить извинения, что буду утруждать вас цифрами, но это необходимо для разъяснения дела. В этом отношении существует некоторое разногласие между моими противниками. Прокурор и отчасти один из поверенных гражданского истца придают значение этому вопросу; они понимают, что в таком деле, как настоящее, нельзя обойти вопроса, был ли какой-нибудь интерес составить подложное завещание, что нельзя относиться свысока к вопросу, как велико было состояние Беляева. Другой поверенный гражданского истца настойчиво указывает, что этот вопрос не имеет значения, даже возражал против единственного средства, которое мы имеем, чтоб познакомить вас с этой стороной дела, именно против предъявления счетов. Полагаю, что все заранее поняли, как важен этот вопрос в настоящем деле. Прежде всего я должен заявить, что вполне согласен с той характеристикой Беляева, которую сделал прокурор. Он отнесся к личности Беляева с уважением, и, мне кажется, иначе отнестись к ней нельзя. Беляев действительно принадлежал к числу тех усердных и ревностных слуг, которые интересы своих хозяев ставят выше своих собственных. После этой характеристики, мне кажется, я могу только вкратце указать на тот прискорбный вопрос, который был сделан одному из свидетелей поверенным гражданского истца. Он спросил вчера одного из свидетелей: как вы полагаете, если бы Беляев захотел употребить во зло доверие И. Ф. Мясникова, то мог ли он обогатиться? Я полагаю, что этот вопрос не может возникнуть в настоящем деле, потому что как обвинительная власть, так и защита вполне признают, что о неправильном происхождении состояния Беляева не может быть речи. Затем нам надобно условиться насчет того, что следует понимать под именем больших капиталистов и малых и в какой степени следует при этом руководствоваться показаниями свидетелей. Прокурор по этому поводу высказал теорию, с которой едва ли можно согласиться. Он полагает, что после 1858 года понятия общества о большом и малом капиталах изменились сообразно с изменившимся распределением собственности в разных руках. По мнению прокурора, при существовании откупов, при возможности быстрого, почти внезапного обогащения понятие о больших капиталах 14 лет тому назад было другое, чем теперь. Тогда большим капиталистом считался тот, который, подобно Воронину, Кокореву, Бенардаки – откупным царькам, располагал громадными средствами; маленьким же тот, который, подобно Беляеву, как понимает обвинительная власть, обладал капиталом в 400 000–600 000 рублей. Замечу мимоходом, что здесь в первый раз настоящее дело является низведенным хотя до чего-нибудь подходящего к его настоящему значению. Не говоря уже о слухах и о заявлениях гражданских истцов, ценивших состояние Беляева в несколько миллионов, даже запрещение по настоящему делу при предварительном следствии было наложено в сумме 1 300 000 рублей. Теперь уже капитал Беляева определяют совершенно иначе, но все-таки остается еще весьма многое сделать, чтобы восстановить истину. Итак, я возвращаюсь к вопросу о состоянии Беляева и говорю, что если теперь не существует откупа, то существуют другие, незнакомые прежде средства такого же быстрого, внезапного обогащения, не всегда соответствующего труду и силам, для того употребленным; если прежде были откупа, теперь есть концессии; если прежде был торг вином, в настоящее время есть постройка железных дорог; если тогда слыли за больших капиталистов Воронин или Коншин, то в настоящее время такими же капиталистами слывут Поляков и многие другие, которых незачем называть. Относительное значение понятий о большом и малом капитале не изменилось. Затем спрашивается, в какой степени мы можем руководствоваться при определении состояния Беляева показаниями свидетелей? Это, по моему мнению, зависит от того, что они показывают. Некоторые из них говорят, что считали Беляева за человека богатого, считали его капитал в 300 000, 400 000, даже в 500 000 рублей. На этом они останавливаются, не дают точных сведений о его делах и предприятиях. Таким показаниям можно давать веру относительно их добросовестности, но серьезных выводов из них делать нельзя. Гораздо большее значение имеют те свидетели, которые определяют с точностью дела умершего и знают даже, на чем он имел барыш, на чем убыток. К первой категории свидетелей принадлежат Гротен, Молво, Перозио; ко второй – Бенардаки и Ненюков. Затем я расхожусь с обвинительной властью по одному предмету: обвинительная власть настаивает на различии между официальными документами и неофициальными бумагами, которые имеются в настоящем деле. Обвинительная власть говорит, что нужно руководствоваться отношением обер-прокурора 1 Департамента Сената, сведениями, полученными из Сената, из Казенных Палат и т. п., а что счеты Беляева, его расписки, домовая расходная тетрадь не имеют существенного значения. В этом отношении я стою на точке зрения совершенно противоположной. Представим себе, например, что, руководствуясь одними официальными сведениями, мы определили бы участие Беляева в херсонском откупе в 25-ти паях. После некоторых данных, представленных защитою вчера, обвинительная власть признала херсонский откуп почти не принадлежащим Беляеву, то есть принадлежащим ему только в пяти паях, которыми он почти не пользовался. Руководствуясь одними официальными документами, мы пришли бы, следовательно, к фальшивому заключению о состоянии Беляева. Поэтому, чтобы составить правильное заключение, нет другого средства, как обратиться к пренебрегаемым обвинительной властью, а по моему мнению, очень важным, домашним распискам и счетам. Притом так ли они не важны, как кажется с первого взгляда? Если известное торговое лицо ведет книги по строгим правилам бухгалтерии, тогда частные его записи особого значения не имеют. Но разве Беляев вел торговые книги? Разве есть другие основания доказывать величину его состояния, основания более точные, чем, например, отчет Беляева пред Мясниковыми? Правда, свидетель Красильников перечислял подробно все книги Беляева, но ведь Красильников один из устраненных свидетелей. Что касается Китаева, то, несмотря на пристрастие его в ту же самую сторону, как Красильников, он на предварительном следствии показал, что в конторе книг не велось. Лучшим доказательством, что их не было, служит исходящая тетрадь, в которой записывается расписка в 272 000 рублей. Итак, я думаю, что записки и счеты Беляева имеют важное значение, потому что все писаны собственноручно; я не предполагаю, чтобы могло быть оспорено значение этого доказательства.








