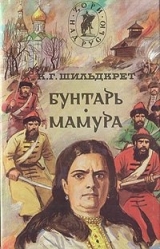
Текст книги "Бунтарь. Мамура"
Автор книги: Константин Шильдкрет
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 43 страниц)
«СОБОРНАЯ ВОЛЯ»
Пальцы Феодора Алексеевича нащупали прохладный овал одного из зеркалец, разбросанных на постели. Учёный монах Сильвестр Медведев [47]47
Медведев Сильвестр (до пострижения в монахи Агафонников Симеон) (1641 – 1691) – публицист, историк.
[Закрыть]помог государю поднести зеркальце к лицу.
– Пригож. – шевельнул царь усами и исказил лицо в больной, безнадёжной усмешке.
Над умирающим склонились Софья и Василий Васильевич.
Дыхание Феодора становилось все реже, отрывистей. В опустившихся, как у старца, уголках губ закипала пена и ползла по подбородку, скручивая в липкие косички реденькую русую бородёнку.
Монах услужливо вытирал ладонью уголки царёвых губ и размазывал слюни по своей шёлковой рясе.
У окна, размахивая руками, не стесняясь присутствием царя, почти вслух спорили о чём-то князь Иван Андреевич Хованский [48]48
Хованский Иван Андреевич (по прозвищу Тараруй, то есть болтун) (161? – 1682) – стольник с 1636 г , смоленский и псковский полковой воевода. Прославился крайней самонадеянностью, в результате которой в период войны с Польшей его войска терпели сильные поражения, чередуемые, впрочем, с не менее яркими победами.
[Закрыть]с Иваном Михайловичем Милославским.
Вдруг они испуганно замолчали. По полу, ребячьим смехом, рассыпались осколки обронённого государем зеркальца.
Пальцы царя шевельнулись в воздухе, как будто искали чего-то, и медленно сжались в кулак. Грудь в последний раз поднялась легко и ровно. Разгладившиеся у глаз лучики и плотно сжатые губы придали лицу выражение глубокой сосредоточенности.
Лекарь Гаден пощупал руку Феодора Алексеевича и приник ухом к умолкнувшему сердцу.
– Почил! – с таким убитым видом объявил он, точно был посредственным виновником смерти царя.
Три удара в большой соборный колокол, долгие и мрачные, как осенние московские ночи, возвестили столице о смерти Феодора Алексеевича.
Софья с сёстрами своими Евдокией, Марфой, Екатериной и Марьей заперлась в светлице и никого из мужчин не допускала к себе.
Царевна Марья, простоволосая, заплаканная, сидела на ковре и не переставала причитать.
– Отстань! – топнула на неё раздражённая Софья. – И без тебя тошно.
Но Марья Алексеевна не унималась.
– Что же нам делать осталось! – заламывала она руки и выла. – На кого ж ты спокинул нас, кормилец-братец! Сызнов запрут нас злые люди под запоры под крепкие.
Евдокия, Марфа и Екатерина без особой охоты, подчиняясь обычаю, лениво подвывали сестре. В светлицу постучалась Родимица.
– Царевнушка! – едва переступив порог, упала она на колени. – Выручи! Нарышкины собор собирают!
– И пущай! – стукнула Софья по столу кулаком. – Пущай собирают! Пущай всем володеют!
Чем убедительнее доказывала постельница о необходимости сейчас же, не упуская времени, вступить в борьбу с Нарышкиными, тем упрямее и гневнее становилась царевна. И только когда Федора, уходя, словно невзначай обронила, будто князь Василий решил отстраниться от государственности и собирается с женой, сыном и внуками ехать в подмосковное своё имение, Софья сразу стала уступчивее и мягче…
Причитанья и слёзы понемногу стихали. Одна за другой, подчиняясь немым знакам Родимицы, царевны оставили светлицу.
Тяжело пыхтя, Софья опустилась на колени перед киотом. Откинутый край летника оголил короткие ноги.
Сложив молитвенно руки, царевна в великой скорби уставилась на образа.
Бесшумно открыв дверь, постельница втолкнула в светлицу Василия Васильевича и исчезла.
Голицын подошёл к Софье и, опустившись на корточки, приник к её плечу.
– Ты? – вспыхнула царевна и, позабыв обо всём, крепко обняла князя.
Так просидели они до тех пор, пока не услышали чей-то кашель в сенях.
– Иван Михайлович! – догадалась Софья.
Князь Василий поднялся.
– Прощай, горличка моя ласковая! – И закрыл руками лицо. – Было время, когда жил я в радостях да в любви подле тебя, а ныне… – он попробовал всхлипнуть, но только поперхнулся, – а ныне придётся, видно, остаться мне сиротиною… без тебя… без ласки и радости…
Софья, как перепуганный ребёнок, припала всем телом к князю.
В дверь постучались.
– Чего ему надо? – раздражённо крикнула царевна. – Сказала же я, что не до сидений мне!
Василий Васильевич помог Софье сесть на лавку и стал на колени.
– Так бы мне до конца дней и быть подле светика моего, – прошептал он мечтательно. И вдруг вскочил. – Не узнаю я тебя, царевна! Куда подевался превеликий твой ум? – Эти слова произнёс он без всякой лести. – Либо сейчас, а либо никогда действовать надо. Малое промедление – и на стол царёв сядет Пётр-царевич.
Стук повторился. Голицын открыл дверь. В светлицу, не спросясь, ввалились Милославский, Хованский и Сильвестр Медведев.
– Быть тебе царицею всея Руси, – с места в карьер объявил монах ошеломлённой царевне. – Минувшею ночью зрел я в небе знаменье чудное: оторвались звезды от Иерусалим – дороги [49]49
Иерусалим – дорога – Млечный Путь.
[Закрыть]и венцом легли на главу некоей девы херувимоподобной.
Милославский лихо тряхнул головой.
– А инако и быть не могло. Не зря же Господь даровал ум великий племяннице моей царственной. То ли не чудом сотворено? Не предзнаменованьем ли Божьим?
Широкая и волнистая, как жиры на затылке Софьи, борода Хованского запрыгала в самодовольном смешке.
– А и по тому же персту Господню ни за кем иным, как за мной, пойдут стрельцы и в огонь и в воду. Не зря они и батюшкой своим меня величают.
Он хвастливо поднял голову и свысока оглядел всех. Милославский спрятал усмешку в усах, но не удержался, чтобы не шепнуть Василию Васильевичу:
– Тараруй [50]50
Тараруй – болтун.
[Закрыть]. Не зря глагол сей шествует про него ещё от государя Алексея Михайловича.
Поставив на дозоре Родимицу, заговорщики уселись на скамью и приступили к тайному сидению.
– Добро бы кликнуть и братца Иванушку, – неуверенно предложила Софья.
Милославский услужливо побежал за царевичем.
Иоанн молился у себя в терему. Увидев дядьку, он дружелюбиво кивнул ему, но тотчас же, точно позабыв о госте, уставился гноящимися глазами в молитвенник.
– Бьёт тебе сестрица челом, племянничек мой любезный, – опустил Иван Михайлович руку на худое полудетское плечо Иоанна, – не покажешь ли милость, не пожалуешь ли на сидение к ней.
Царевич широко раскрыл рот и принялся пощипывать рыжий пушок на подбородке.
– Не любы сидения мне, – проглотил он слюну – Да и недосуг – время уж и в оконце глазеть. – Он блаженно улыбнулся и показал рукой на окно. – Там и пташки летают, и людишки хаживают… А уж облачка! Что тебе кюншты [51]51
Кюншты – картины.
[Закрыть]немецкие… Таково диковинно на облака глазеть и не помышлять ни о чём…
Милославский, не дав досказать царевичу, взял его за руку и без слов повёл за собой.
Дозорные недоумённо глядели на отбивающегося от дядьки Иоанна, кланялись ему в пояс и потом усердно крестились.
– Юродивый, прости, Господи, прегрешенья мои. Как есть юродивый, а не царевич.
Милославские и приверженцы их были ненавистны патриарху Иоакиму [52]52
Иоаким (Иван Савёлов) (1620 – 1690) – архимандрит Чудова монастыря, затем митрополит новгородский, с 1674 г патриарх Московский и всея Руси. Прославился фанатичной борьбой со староверами.
[Закрыть]потому, что он видел в них людей, искавших сближения с Римскою церковью.
– Какого добра можно ждать от учеников Симеона Полоцкого [53]53
Полоцкий (Ситнианович-Петровский) Симеон (1629 – 1680) – учитель монастырской школы в Полоцке, в Москве с 1667 г учитель в царской семье, поэт, переводчик.
[Закрыть], насаждавшего в Спасском училище римские мудрости, – безнадёжно отмахивался он, когда ближайшие друзья заговаривали с ним о царевне Софье.
Про себя же Иоаким твёрдо знал, что лишится патриаршего стола, едва победят Милославские и царём будет поставлен «слабый очами, языком и главою» Иоанн-царевич.
Но более тяжко, чем лишиться прибыльной высшей церковной власти, было сознание того, что место его займёт монах Сильвестр Медведев. Иоаким был ярым сторонником греческого образования; Сильвестр – западник, такой же непоколебимый защитник римских «премудростей», не стеснявшийся открыто поносить прошлое и зло порицать русских грамотеев за безусловную веру их в греков.
– И эта тля замест меня на стол патриарший сядет?! Не будет! – слушая доклад о смерти царя, ожесточённо затопал Иоаким ногами и в то же время часто закрестился. – Не будет! Не будет! Раздавлю гадину! В монастыре студёной земли сгною!..
Пока в светлице Софьи происходило сидение, Нарышкины все приготовили к созыву собора.
На площадке, у Передней палаты дворца, подле церкви Спаса, что на Бору, собрались патриарх, высшее духовенство, боярская дума, выборные от служилых чинов и от посадских торговых людей.
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! – перекрестился патриарх и благословил собор – горсточку заранее подобранных людей. – Великое испытание послано ныне отечеству нашему Богоспасаемому. Остались сиротинами русские люди…
Он смахнул пальцами набежавшую слезу и снова перекрестился. За ним, с глубоким поклоном, перекрестился «земский собор».
– Земля без государя, – строго повёл патриарх бровями, – что дни лета без солнечного луча, что церковь без образов и креста, что христианин без причастия.
Надтреснутый его голос напрягся, звучала в нём не то угроза, не то сиротливая мольба. Жёсткий взгляд больших серых глаз скользил над головами людей, стремился ввысь, точно искал чего-то в далёком невозмутимом небе.
– Горе земле без помазанника Господня! – крикнул из толпы Тихон Никитич. – Едина надежда на Бога. Авось развеет он нашу тугу и благословит на царство единого достойного володеть нами, преславного царевича Петра Алексеевича!
К патриарху протолкался дворянин Максим Исаев сын Сумбулов.
– Хулит Стрешнев Бога! Ибо, коли по-Божьи, то не Петру, но старшому царевичу вместно на стол сести московский!
Князь Борис зажал Сумбулову рот и погрозил кинжалом.
– Изрыгни-ко ещё едино слово, мятежник!
– Петра! – крикнул князь Ромодановский.
– Петра! – точно по команде, стройно, заученно повторил за ним «собор».
Сумбулов попытался вырваться из крепких рук Бориса Алексеевича, но появившиеся откуда-то люди набросились на него и поволокли к Константиновскому застенку.
По Москве поскакали гонцы с вестью об «избрании милостию Божиею, патриаршим благословением и волей собора» на царство царевича Петра Алексеевича.
Затосковал Пётр. Душно ему в мрачных кремлёвских хороминах. Хочется на волю, в Преображенское. Добро бы собрать верных «робяток», мчаться, задрав окоревшие от грязи штанишки, по звонким лужам, потешаться битвой или, взобравшись на загривок к Андрейке Матвееву, лихо колотить в барабан до тех пор, пока не измочалится кожа.
– Пожалуй, матушка, отпусти на село, – не раз с кошачьей лаской льнул он к матери. – Лихо мне тут.
Но царица была неумолима.
– Неразумен ты, млад, сын мой и государь. Нешто можно тебе из Кремля идти? Едино тут место во спасение нас от козней злых, что чинятся безбожными Милославскими.
Она подробно посвящала царя в замыслы Софьи и, как могла, старалась всем сердцем пропитывать душу Петра ненавистью к Милославским.
Царь плохо слушал, капризно надувал губы и упрямо твердил своё:
– А на кой ляд мне и царство, коли не волен я стал себе. Ни конька со мной нету, ни на Крым не иду.
– Дитё! Что сотворишь ты с дитёю! – разводила руками царица и уходила, расстроенная, к себе.
Неспокойно стало на Москве. То и дело собирались стрелецкие круги. Родимица с верными Софье людьми сеяла по слободам возбуждающие тёмные слухи. Из подполья выползли на улицы староверческие учители-«пророки». С суеверным страхом слушали их людишки московские.
– Грядёт антихрист! Шествуют уже по земли православной пророки его, немцы, в доспехи русского воинства обряженные…
– Артамон Матвеев из ссылки жалует! – зло передавалось из уст в уста. – Сказывает Цыклер-полковник, слыхивал-де Хованский князь, Матвеев-де замыслил немцами стрельцов заменить.
Стрельцы слушали изветчиков, скрежеща зубами, и хмелели от жгучей ненависти к нарышкинцам, которым ещё так недавно верили, как людям, могущим «стоять за правду», освободить народ от окружавших «боярского царя» Феодора Алексеевича разнуздавшихся насильников – начальных людей.
Но узнав, что Языков, особенно ненавистный за непрестанные укрывательства злоупотреблений стрелецких полковников, и Лихачёвы [54]54
Имеются в виду братья Лихачёвы: Алексей Тимофеевич (163? – после 1724) – путный ключник царя Алексея, постельничий царя Федора. После стрелецкого бунта сослан в Калязин. При Петре – начальник Приказа рудокопных дел, библиофил; и Михаил (Филимон) Тимофеевич (? – 1706) – окольничий, затем управляющий Оружейной палатой.
[Закрыть]столковались с Нарышкиными, снова вершат делами государственности и что со дня на день ожидается приезд заступника мздоимцев и иноземцев боярина Артамона Матвеева, стрельцы поняли, что от воцарения Петра добра им ждать нечего. И недавние надежды сменились напряжённым состоянием, предвещавшим несомненную грозу.
В день, когда стрельцы должны были присягнуть Петру, полковник Цыклер сам пошёл к полку Александрова приказа.
Стрельцы собрались у съезжей избы на круг. Вооружённые бердышами, пищалями, пиками, потянулись к кругу из разных слобод и другие полки. Притаившиеся тревожно улицы запестрели алыми, синими, малиновыми, голубыми, зелёными с золотыми перевязями кафтанами. Откинутые набекрень бархатные шапки с меховою опушкою выглядели как-то по-особенному дерзко и вызывающе. Обутые в жёлтые сапоги ноги переступали нетерпеливо, возбуждённо, резко отражая внутреннее состояние шагавших людей.
Первыми отказались целовать крест на верность Петру карандеевские стрельцы. Остальные полки стояли потупившись, ещё не смея решиться на что-либо смелое. Этим воспользовался окольничий князь Щербатов [55]55
Скорее всего, имеется в виду Щербатов Константин Осипович (? – 1696) – боярин, окольничий.
[Закрыть]. Его горячая речь в защиту Петра привела к тому, что часть отколовшихся стрельцов, несмотря на издёвы товарищей, приняла присягу. Однако Щербатов вернулся в Кремль с тревогой.
– Быть лиху, – буркнул он Стрешневу. – Гораздо замутили стрельцы… Того и жди, взбесятся.
Когда гроб с телом Феодора Алексеевича внесли в Архангельский собор, Наталья Кирилловна, крепко прижимая к себе Петра, отдала покойнику последнее целование и, окружённая сильным отрядом верных солдат, поспешно вернулась в палаты. Узнав о том, что царица не осталась в соборе, Софья решилась на неслыханное дотоле дело. Одна, без зова, с откинутым от лица на плечо покрывалом, она с дикими стенаньями, точно обезумевшая, побежала в собор так стремительно, как только позволяло её тучное тело.
Встречавшиеся люди с ужасом шарахались в разные стороны, закрывали глаза, чтоб «не принять на душу непрощёный грех», не увидеть «лика жены царских кровей».
А какие-то никому не известные люди, монахи и юродивые, уже сновали в толпе, рвали на себе волосы, царапали в кровь лицо и исступлённо били себя в грудь кулаком.
– На Нарышкиных сей грех непрощёный! То они довели до сорому такого царевну нашу благочестивую и непорочную!..
Вечерело, когда охрипшая от рёва Софья вышла из собора. Стискивая пальцами горло и колотясь головою о стену храма, она в смертельной тоске уставилась в небеса.
– Вы узрели, как брат наш, в Бозе почивший государь Феодор Алексеевич, нежданно отошёл от мира сего: отравили его вороги зложелательные. Умилосердитесь над нами, сиротин…
Новый приступ рыданий не дал ей договорить. Она вдруг зашаталась и рухнула на руки подоспевшей Родимицы.
– Голубица моя непорочная! – взвыла Федора. – Бога для да для нас, сиротинушек русских, воспрянь духом, царевна!
Собрав последние силы, Софья вцепилась пальцами в свои волосы.
– Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата… Старший брат наш Иоанн не выбран на царство…
– Сжалься, царевна… не надрывай скорбное сердце своё… – ползала на коленях постельница и больно колотилась о паперть лбом. – Сжалься над нами, убогими!..
Со всех сторон ей вторили плачущие монахи и юродивые:
– Христа для… пожалей сиротинушек!
Переведя дух, Софья неожиданно гордо выпрямилась. Вспухшие от слёз глаза зажглись властными искорками. Голос окреп, зазвучали в нём холодные нотки царственного величия.
– А коль мы перед боярами провинились в том, что высокородных не жалуем, – последние слова она произнесла с презрением, граничащим с ненавистью, – местничество отменили, в туге извелись за стрельцов забижаемых, то отпустите нас живых в чужие земли, к королям христианским! Пущай без нас неправдотворствуют! Не хотим мы, чтобы очи наши зрели бесчинства!
Сияющую Софью встретили у порога светлицы князь Хованский и Милославский.
– Знал я, что могутного ума племянница моя, – восхищённо припал Иван Михайлович к руке царевны, – одначе не чаял, что таится в ней такой чудесный дар лицедейства!
А Хованский прыгал вокруг царевны, хлопал в ладоши и расплёскивал в воздухе серебристо-бронзовые волны дремучей бороды.
– Рыдали стрельцы! Матушка-царевна, пойми ты, пойми словеса сии чудные: стрель-цы ры-дали! Стрельцы-ы!
Софья переступила порог и шлёпнулась устало на лавку.
– Отсель я воеводство беру над вами! – Она сжала в кулак судорожно скрюченные пальцы и перекосила лицо. – Погоди ужо, всея Русии Пётр со всеми Нарышкины! Готовлю я вам потеху!
Глава 12ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Едва престол был отдан Петру, высокородные сторонники Нарышкиных тотчас же захватили всю власть в свои руки. Правда, сами они почти не занимались государственностью, – упоённые лёгкой победой, предались разгульным пирам, – но посадили за себя в приказы испытанных людей, верных своих споручников Языкова и Лихачёвых.
Милославские приняли все предосторожности к тому, чтобы их не заподозрили в каких-либо недобрых замыслах. Они сами отстранились от дел, нигде не показывались, как будто примирились с судьбой.
Софья только тем и занималась, что с утра до вечера служила заупокойные моленья по умершем брате. Дозорные стрельцы и стремянные с чувством глубокого сострадания вслушивались в стенанья и слёзы, доносившиеся то из Крестовой, то из светлицы царевны. И тем ненавистней становились для них неумолчный гул, хмельные песни, звон чар и разудалые скоморошьи пляски, нарушавшие с недавнего времени тихий покой Кремля.
Изредка Милославские собирались у царевича Иоанна. Худой, бледный, с воспалёнными, почти невидящими глазами, сидел ёжившийся царевич у окна и то с блаженной улыбкой, то объятый неожиданным страхом, беспрестанно озирался по сторонам. Иногда он вставлял в общий разговор два-три слова, поражая всех остротой своей мысли, но тотчас же забывал сказанное и снова целиком погружался в свои бессвязные думки. Софья заботилась о здоровье брата с самоотверженьем матери, Гаден ни на мгновение не отлучался от царевича и трижды в день докладывал Софье о его самочувствии. Малейшая простуда, насморк повергали сестру Иоанна в самый неподдельный ужас. Однако не любовью к Иоанну руководилась царевна. В иное время она не пришла бы к нему с помощью даже в том случае, если бы ему грозили большие опасности. Ничто не связывало её с братом, не было меж ней, жаждавшей кипучей деятельности, умной, властной, и им, беспомощным, почти блаженным, ничего общего. Жил где-то на мужской половине какой-то больной человек, который назывался её братом, и всё. Но так было до смерти Феодора Алексеевича. С той же минуты, когда Софья твёрдо решила вести непримиримую борьбу с Нарышкиными, с «медведицей» Натальей Кирилловной, всё изменилось. Царевна понимала, что, если умрёт хилый Иоанн прежде, чем укрепится положение её в Кремле, все пойдёт прахом и уделом её будет одинокая монастырская келья.
Потому такой нежной стала к брату царевна и с такой материнской заботой ходила за ним…
Со слезами умиления рассказывали полковники Иван Цыклер и Иван Озеров тайным выборным стрелецким Борису Одинцову, Обросиму Петрову и Кузьме Черемному о Софье, «единой во всём Кремле заступнице единого истинного наследника престола московского – царевича Иоанна».
Скрываясь за спиной дядьки, обряженный в новенький стрелецкий кафтан, чистенький и прилизанный, внимательно и с большим почтением слушал полковников Фомка.
С тех пор как Кузьме удалось записать племянника в грибоедовский полк, Фомка стал другим человеком. Хлопотливая Москва, обилие всякого чина и звания людей, волнения среди стрельцов не только не пугали его, но становились чем-то необходимым для его существа.
Он не пропускал ни одного круга и знал обо всём, что делается в полках. Нарышкинцы представлялись ему какими-то страшными зверями, на которых, если вглядеться внимательно, несомненно можно найти печать антихриста.
И чем больше росло его зло к Нарышкиным, тем одухотворённее любил он Софью и царевича Иоанна. Фомка считал их униженными «неправедно» сиротинами, «носящими крест во искупление грехов русской земли». Нарышкины были для него слугами Вельзевула [56]56
То есть дьявола.
[Закрыть], Милославские – стойкими поборниками Христовой правды. Так говорили все, с кем он бы в дружбе, и стрельцы и раскольники, так думал и он. И потому, когда начётчики, которых он любил слушать, доходили до слов: «В мире будете иметь скорбь» – в груди его пробуждалась такая преданность к Иоанну и Софье, что, казалось, по одному их слову он, не задумываясь, ринется в бой на богомерзких Нарышкиных.
Питаемый слухами, Фомка создал себе сказку о благочестивых и грешных царях, благодетельствующих и обижающих подданных, и верил этой сказке всеми силами не искушённой ещё в делах государственности души.
Горя жаждой подвигов, молодой стрелец принимал на себя самые опасные поручения и под конец стал необходимым споручником для заговорщиков. Нужно ли было расклеить по городу «прелестные письма» [57]57
Прелестные письма – прокламации.
[Закрыть], нарочито ли вызвать на свару начальных людей, или обвинить иноземца-офицера в кощунстве, Фомка был тут как тут. И если уж придумывал какую-нибудь небылицу, не отступался от неё ни за что.
По его извету вельможи вынуждены были разжаловать и посадить в застенок двух полковников-немцев. Он с лёгким сердцем целовал крест на том, что видел, как «супостаты» изрубили образ Богородицы-троеручицы и напустили порчу на Яузу. Всё это делалось охотно потому, что сулило погибель Нарышкиным, затеявшим якобы изничтожить «христолюбивое стрелецкое воинство» и заменить его «басурманскими ратями».
Противоборствовать же иноземцам-служилым и иным неугодным для стрельцов начальникам, державшим руку Нарышкиных, становилось всё легче и легче. Это заметили стрельцы ещё с первого дня вступления на царство Петра.
Новая власть была кичлива, напыщенна, но в то же время чувствовала себя как-то неуверенно и неловко. Нарышкины видели, что главная опора их державной мощи – стрельцы – почти открыто идут против них. Поэтому они, чтобы не усугубить свары, многое спускали крамольникам и даже уступали их явно неправым требованиям.
Так случилось и под первое мая. Ещё стоял Кремль на утренней молитве, когда в Спасские ворота толпой ворвались стрельцы с челобитною.
К челобитчикам вышел Иван Нарышкин. Трусливо прижимаясь к стене и скаля в заискивающей улыбочке зубы, он первый поклонился стрельцам.
– Бо-я-рин! – зло расхохотались выборные. – Усы-то, что у мыша новорождённого, а тож бо-я-рин! – И взмахнули бердышами.
Нарышкин бочком отодвинулся к двери и юркнул в сени.
Всё, что происходило на дворе, до мельчайшей подробности видели из окна ближние государя.
– Быть лиху! – крестились они. – Быть неминучему лиху!
И на коротком сидении порешили, что надо сейчас же выслушать челобитчиков и, если возможно, исполнить по челобитной.
Стрешнев отправился на двор.
– Челобитчики? – спросил он без особой лести, но и без строгости.
– Так, Тихон Никитич. Челобитчики.
– Сказывайте про нужды про ваши.
Один из стрельцов выступил наперёд.
– А пришли мы с челобитною на полковников и пятидесятных: на Матвея Кривкова, на Никифора Колобова, Володимира Воробина, да ещё на того же, на набольшого ворога, на Грибоедова…
– Да на Вешнякова Матвея, – перебивая товарища, охваченный вдруг злобой, продолжал Фомка. – Да на Ивана Нелидова с Иваном Полтевым.
Стрельцы заговорили все сразу. Посыпался град имён.
– Погоди! Постой! – замахал руками Тихон Никитич. – Да этак вы всех начальных людей переберёте.
Выслушав челобитную, он подумал немного и неуверенно огляделся по сторонам.
– Добро! Грядите с миром в полки, а мы дело сие разберём да ныне же через приказ ответ вам дадим.
– Ан не уйдём! – ухватились выборные за бердыши. – Будет! Учёны!
Стрешнев, ничего не ответив, повернул в хоромы.
Перебивая всех и плеская бородой в лицо бояр, Хованский горячо убеждал Наталью Кирилловну не испытывать долготерпенья стрельцов и исполнить по их челобитной.
– Слыхивал я от верных людей, – дробно барабанил он, – что все полки обетование дали идти на Кремль, ежели ни с чем уйдут челобитчики. А уступишь – сразу обретёшь верных холопей. Не скупись. Отдай с головой обидчиков. Иных найдёшь, токмо клич кликнешь… Стрельцов же не обретёшь по щучьему велению, царица!
Сидевший в дальнем углу Пётр вмешался неожиданно в спор.
– А и вправду сказывает Иван Андреевич. На кой нам те полковники да пятидесятники? Неужто без них не обойдёмся?
Наталья Кирилловна погрозила пальцем царю.
– Млад ты дела государственности вершить. Сиди да учись покель у матери.
Пётр надул губы.
– Не уразумею я что-то слов твоих, матушка. В Преображенское когда идти хочу, к «робяткам» своим, – в те поры царь я, негоже в те поры потехами-де тешиться мне, а в государственность войду – молчать велишь, млад-де и неразумен я.
Он выглянул осторожно в окно и неожиданно так заверещал и захлопал в ладоши, что поверг всех в смертельный испуг.
– Что ты? Христос с тобой! – обняла его мать.
– Ты погляди! Эвона, матушка! – И, показав на одного из стрельцов, поразившего его необычайною тучностью, с трогательною простотою ребёнка спросил: – А что? Он взаправду такой?
Хованский продолжал настаивать на своём и наговорил столько страхов, что царица решила сдаться.
Утром первого мая, под отвратную ругань и свист, вывели стрелецких начальников из темницы и погнали на площадь, что перед Судным приказом, на правёж.
– Нуте-ко, кормильцы наши, подайте-ко двадцать тысящ денег, жалованья стрелецкого уворованного! – размахнулись с плеча стрельцы и ударили батогами по голым икрам полковников.
Деловито, размеренно били стрельцы колодников, во всём подражали опытным катам и строго в уме держали счёт При каждом ударе они сочно покрякивали, словно после чары доброго тройного вина.
Полковники, стиснув до судорог зубы, молчали, ни единым движением не выдавая ни боли, ни возмущения. Икры взбухали, покрывались багрово-палевыми желваками, алым струйками сползала на землю кровь.
Фомка не участвовал в правеже, но и не уходил ни на мгновение с площади. Если бы кто из колодников застонал, взмолил о пощаде, он, несомненно, почувствовал бы, что какая-то неловкость спала с его души. Но это выражение холодных лиц и немигающих глаз ложилось на него невольным укором, беспокоило, сводило на нет ту радость, которую испытывал он, когда узников выводили из темницы.
Фомка не выдержал наконец и схватил батог:
– Молви же хоть словечко! – почти молитвенно вырвалось у него – Молви же! – И изо всей мочи полоснул полковника по пяте.
Избиваемый исподлобья поглядел на стрельца.
– Добро. Уважу А глагол мой таков: убей, а не попусти чтобы полковник издёву терпел от тебя, кутёнка поганого!
– А, изволь! – чувствуя, как мутится от оскорбления рассудок, крикнул Фомка и впился всеми пальцами в рукоятку бердыша.
Товарищи дружески оттеснили его:
– Поприбереги гостинчик. Не время ещё.
На площади, перекидываясь весёлыми шутками, разгуливали хозяевами работные люди, гулящие, крестьяне, кое-какие холопи и староверческие «пророки».
Несмотря на голод, мучивший их с утра, они чувствовали себя отлично. Для такой диковинной, небывалой потехи, которую выпало на их долю увидеть в тот день, стоило поголодать, позабыть суетные обычные заботы свои о корке хлеба и пустых непросоленных щах.
– Статочное ль дело! – восхищённо, с кичливою гордостью причмокивали они. – Пол-ков-ни-ки на правеже! Да по чьему хотенью? По стре-лец-ко-му!
Обугленными корягами чернели ноги колодников, не выдерживали уже тяжести господарского тела, вихлялись из стороны в сторону, подкашивались. Каты, помогавшие стрельцам, заботливо трудились подле избиваемых, накрепко прикручивали их к вкопанным в землю столбам.
– Так-то, милостивцы, гораздей вам будет. Хоть пущай убивают, а вы в ноженьки не упадёте. Гораздо держат вас путы.
– Не давит ли? – ядовито ухмылялись стрельцы. – А казной не давился стрелецкой? У-у, вор!
Правёж прекратился, вопреки обычаю, не к минуте, когда заблаговестили перед чтением Евангелия в церквах, а далеко за полдень.
Узники не выдержали нечеловеческих пыток, покаялись в воровстве и внесли в круг утаённое жалованье. Родичи развезли их в тележках по домам.
Когда правёж прекратился, Фомка от нечего делать побрёл по городу. В Листах он встретил случайно Родимицу. Она шла с каким-то гулящим и весело судачила с ним.
Стрельца почему-то передёрнуло. Непонятная злоба охватила его.
Федора не раз видела Фомку. Молодой стрелец, видимо, был ей по мыслям, и она обрадовалась случаю ближе познакомиться с ним.
– Прохлаждаешься, Аника-воин? – шлёпнула она Фомку о животу и не то с оттенком насмешки, не то заигрывающе улыбнулась ему.
Рассмеялся и гулящий.
Фомка вспыхнул и, не отдавая себе отчёта, ткнул спутника Федоры в грудь кулаком.
Предвкушая потеху, прохожие остановились подле окрысившихся друг на друга стрельца и гулящего.
Подзадоренный науськиваниями, Фомка пригнул по-бычьи голову и ринулся на противника. Но Родимица не допустила до драки. Одного её слова, произнесённого с полным спокойствием, было достаточно для того, чтобы враги немедленно разошлись в разные стороны.
Постояв мгновение, Федора окликнула стрельца и увела его с собой.
Прохожие разочарованно пошли своею дорогою.
– Из-за бабы сцепились, – бросил кто-то вдогонку гулящему, – да по бабьему же веленью враз и прокисли!
– А тот, воин-то, – подмигнули с другой стороны улицы, – так и норовит с бердышом и сапогами под подол мырнуть! Штучка!
– И то сказать! – облизнулся сидевший на перекрёстке сапожник. – Баба – что печка! Медовая баба!
Фомка, потупившись, виновато шагал за постельницей. Свернув в переулок, Родимица остановилась и, сложив горсточкой пальцы, приподняла за подбородок голову стрельца:
– А не обскажешь ли, паренёк, чем изобидел тебя гулящий?
Растерявшийся от неожиданного вопроса, Фомка хотел было придумать что-либо в своё оправдание, но, встретившись с лукавым и точно постигшим истинную сущность его поведения взглядом, вдруг зарделся весь и позорно, как мальчишка, побежал прочь от Родимицы.








