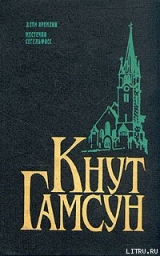
Текст книги "Дети времени (Дети века)"
Автор книги: Кнут Гамсун
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
В это время господину Хольменгро показалось, что он на сегодняшний вечер достаточно наслушался разговоров двух порядочных и образованных молодых людей.
Казалось, он перестал обращать на них внимание и говорил то, что ему хотелось говорить:
– Мой булочник? вы ведь думаете о том, что я имею большую власть, вы смотрите на мою цепь и воображаете, что она настоящая. Она, конечно, ненастоящая. К чему такая расточительность? Для этого я еще недостаточно могуществен. Цепочка позолочена, она крепче золота, она блестит как золото. Или нет, по-вашему?
Может быть, господину Хольменгро опять хотелось поразить своих гостей? Или ему из тщеславия опять хотелось воскресить свою сказочную славу? Он помолчал немного, потом проговорил, как бы в похвалу своим гостям:
– У меня есть сын, Феликс. Я мечтал сделать из него образованного человека, как вы, господа. Но он не хочет учиться. Приходится отослать его обратно в Мексику.
– Есть у него кто-нибудь в Мексике? Я думал…
– Я могу поручить его кому-нибудь. Да впрочем, у него есть там и родственники. Например, его мать.
Молчание. Адвокат и доктор до крайности удивлены.
– Я думал… Мне говорили, что вы вдовец. Господин Хольменгро равнодушно смотрит на доктора, и опять как будто не обращает на него внимания, а говорит то, что ему хочется.
– Здесь из Феликса ничего не выйдет. Он хочет вернуться к своему племени. Но Марианна, моя дочь, останется со мной.
Когда господин Хольменгро вечером провожал своих гостей, он был как раз настолько пьян, чтобы свернуть на запретный путь. Был вечер. Гости хорошо поели и немало выпили; на угощение нельзя было жаловаться. Но доктор Мус говорил адвокату, что когда господин Хольменгро возражал ему, в его глазах горел огонь ненависти низших, необразованных классов по отношению к высшему и образованному, к которому принадлежали они с адвокатом. Адвокат сказал, что он тоже заметил это.
Но этим вечером закончились чудачества господина Хольменгро. На другой день он был уже самим собой и господином всех. Он делал приготовления к похоронам, телеграфировал, чтобы выслали венок для гроба фру Адельгейд. В то время, когда пароход заворачивал в фиорд, он велел усыпать всю пристань и дорогу еловыми ветками. Отчего он бросил свои чудачества? Из уважения к поручику? Или он устыдился самого себя? Как бы то ни было, а за эти две недели он наделал столько глупостей, что другой на его месте долго не мог бы опомниться. Но господин Хольменгро опомнился сразу. Он был вообще удивительный человек, от него можно было ожидать всего.
На погребение приехал и Фредерик Кольдевин с женой, он давным-давно не был в Сегельфоссе. И старики Кольдевины приехали со своего острова. Они стали оба маленькими седыми чудаками, у них уже голоса не было. Они были похожи на детей-альбиносов. Полковник фон Платц из Ганновера прислал представителя и цветы, которые, впрочем, пришли на целую неделю позже.
Даже и при этом случае поручик вел себя странно и самобытно. Он по телеграфу приказал, чтобы на похороны привезли соседнего пастора. И как он только мог это сделать! Уж, кажется, глубоко и сильно задело его горе. Нет! он продолжал поступать по-своему. Но вечером, накануне похорон, посланный вернулся с отказом: пастор извинялся, произошла неожиданная задержка. На самом деле он просто не хотел обижать своего коллегу Лассена, который пользовался расположением епископа. Поручик улыбнулся и сказал своему сыну:
– Придется взять Ларса. Да, впрочем, это ведь безразлично. Твоя мать не услышит его. Скажи Мартину, чтобы он сходил завтра утром за Ларсом.
Когда пастор пришел, консулу Фредерику пришлось быть посредником между ним и поручиком. Поручик не желал слышать речи Ларса, но пастор не мог согласиться на это. Он обещал из уважения к поручику говорить как можно короче и отказался ждать тела у ворот кладбища.
Поручик сказал:
– Тогда я останусь дома.
Консул Фредерик сделал вид, что он согласен, чтобы не раздражать друга, но он не сомневался в том, что это невозможное дело.
– Конечно, это выход, – сказал он, кивнув головой.– Только бы ты сам потом в этом не раскаялся.
– Да, без сомнения.
– Так, пожалуй, лучше будет потерпеть час, чем потом раскаиваться всю жизнь.
Поручик решил, что он пойдет. Он оделся в парадную форму с эполетами, шпагой и золотыми аксельбантами и надел плащ. Он был великолепнее, чем когда-либо. Юный Виллац был в новом черном костюме с крепом на цилиндре. Оба, и отец и сын, были в белых перчатках, но без черной каймы.
Все рабочие господина Хольменгро были отпущены; мельница стояла, все арендаторы собрались у кладбища, площадь перед церковью кишела народом, как в большой праздник. Гроб был совершенно закрыт цветами, – тут были венки из Англии, из Германии, от Хольменгро, от Кольдевинов, от торговцев из Бергена.
В землю опустили точно гигантскую охапку цветов.
Потом началась речь. Пастор Лассен был не вполне уверен в себе. Слишком жаль было упускать случай пространно поговорить о духовных вещах, и он вернулся к своему прежнему намерению сказать длинную речь. Всякий другой человек в своем горе был бы благодарен ему за слова утешения, но поручик был по-прежнему верен себе. Он, казалось, даже не слушал. Когда речь продолжалась уже полчаса, ему надоело ждать. Он взял у кистера маленькую деревянную лопаточку и подал ее пастору. Он даже не потрудился повернуть ее ручкой к нему.
Пастору пришлось остановиться. Он взглянул на поручика и понял, что пора кончать. Он взял лопаточку и три раза бросил на цветы песку.
Потом могилу зарыли.
Люди, которые видели проделку поручика с лопаточкой, осудили его: Ларс Мануэльсен осудил его и Пер-лавочник осудил его; они никогда в жизни не видели такой бесцеремонности по отношению к говорящему представителю Бога, каким был Ларс в данную минуту.
Но пастор, конечно, лучше знал, как следовало поступить, потому что он был образованный человек. И он доказал это до конца. Когда церемония была окончена, он решил сказать несколько частных слов утешения родственникам покойной, как это принято делать. Но так как он был не особенно твердо уверен в себе, то обратился сначала к юному Виллацу, который стоял рядом с ним. Пастор Лассен протянул мальчику руку и сказал:
– Ты понес большую утрату, но Бог поможет тебе нести ее!
– О, да, пусть Бог сделает это, скажите ему это пастор Лассен!
В это время послышался голос поручика, и пастор увидел пару серых глаз, полных леденящего спокойствия:
– Что ты там ноешь, сын мой? Перестань! И поручик вернулся домой с похорон.
Старики Кольдевины остались только на два дня, потом уехали в своем ковчеге. Старики чувствовали себя очень странно.
– Здесь прежде не было дороги, – говорили они, – а там не стоял дом.
Они качали головами и не узнавали старых мест; им казалось, что это был вовсе не Сегельфосс. Они уехали домой, не побывав в молодой роще, и почти ничего не говорили.
Консул Фредерик с женой оставались четыре дня; потом пришел пароход, отправлявшийся на юг, и они уехали. Консул Фредерик тоже сильно изменился; он поседел и под глазами у него были мешки. Жена его потолстела, и стала увлекаться благотворительностью. Она уехала вместе с мужем.
– Поручику не до людей, – говорила она, – его горе так велико, так ужасно велико. Никто, конечно, не ожидал, что он перестанет спать от того, что потерял Адельгейд: он потерял ее гораздо раньше.
Консулу все время было не по себе, и он не мог дождаться, когда пройдут эти четыре дня.
Они, по обыкновению, сидели по вечерам вдвоем за стаканом вина, но говорили очень мало. Консулу Фредерику не пришлось ни разу заговорить о своем взгляде на жизнь. Они даже ни словом не обмолвились обо всех переменах в усадьбе. Когда консул намекнул на то, что он явился отчасти виновником этих перемен, поручик быстро перебил его:
– Да, да, я благодарю тебя; все эти перемены произошли не без твоего участия.
Консул попробовал заговорить о юном Виллаце, о том, останется ли он в Берлине.
– Конечно, останется, – ответил поручик, – Он поедет на юг с тем же пароходом, что и ты.
– Моя дочь Tea, – сказал консул, – ты помнишь ее? Она приняла предложение штурмана.
– И очень хорошо сделала.
– Он назначен капитаном.
– Ну вот, видишь!
– Да! капитаном парохода «Клегг», двести пятьдесят футов длины. Но что толку?
Молчание.
Консул попробовал завести разговор на более веселую тему.
– Ты говорил о том, что по твоей вине у вас в городе стало меньше рыбаков?
– Да, я сожалею об этом, из-за них.
– Что же мне делать? Ты помнишь, как несколько лет тому назад у нас в городе родился ребенок-мулат. Я не понимаю, каким образом, но ответственность за него возлагали на меня. Ты слышал что-нибудь подобное?! Говорили, что между ним и празднеством в моем саду была какая-то связь. Хехе-хе! Ну, потом это мне надоело, и я отослал ребенка. Он теперь в торговой школе в Филадельфии.
– Твоя вина, в таком случае, меньше моей.
Как скучно стало говорить теперь с другом. Консул сожалел уже, что приехал на похороны. По правде сказать, он так втянулся в жизнь маленького городка, что стал находить ее приятной. Да и на самом деле, разве дело его шло нехорошо? Разве перья не скрипели в его конторе? Разве он не вращался в кругу лучших семейств городка? В городском клубе случалось немало занимательных историй. Например, недавно дочь домовладельца Боммен дотанцевалась до смерти на балу на немецком военном судне, стоявшем в гавани. Хе-хе! Безумное дитя!
Но консул Фредерик, который говорил так весело и так охотно смеялся, впадал иногда в задумчивость и уходил в свою комнату. Может быть, он стыдился самого себя? Один раз, когда ему некуда было уединиться, он вошел в спальню фру Адельгейд и остановился. Он выглядел усталым и изнуренным; мешки под глазами были заметнее обычного. Он взял гребень, который лежал в кучке других украшений, должно быть, гребень был красив, потому что он долго смотрел на него. Потом ему вдруг показалось, что здесь нельзя остаться для того, чтобы посидеть и подумать спокойно, и он опять вышел.
Он ушел в оранжерею. Сюда нужно было прийти с самого начала, здесь было пусто и хорошо. Но что это? Он взял гребень с собой? Смешно! Но это такая мелочь, с которой не стоит приставать к поручику. От гребня как будто пахло чем-то, ее волосами? Воображение! просто пахнет черепахой. А если бы она вдруг запела у себя наверху, запела бы этим цветам? Она иногда давала волю своей страсти и становилась доброй и безумной. Бедная Адельгейд! Бедные все!
Консул Фредерик счел своим долгом поболтать на прощание с экономкой иомфру Сальвезен. Но ему удалось только через два дня, как бы случайно, очутиться у окна кладовой; он знал, что жена была у фру Иргенс.
– Это вы? – сказала иомфру Сальвезен.
– Более или менее я, иомфру.
Иомфру Сальвезен, связанная горем, поразившим дом, давно не открывала рта для веселой шутки. По тону голоса консула она поняла, что можно сбросить серьезность на некоторое время.
– Вы пришли, вероятно, чтобы покончить с этим, господин консул?
Консул надувается, надувается и произносит, наконец:
– Иомфру Сальвезен, я слышал все!
– Все!
– Да, вы, может быть, можете рассказать еще что-нибудь?
– Нет, я не хочу доводить вас опять до сумасшествия.
– Женщина! Вы обещали себя двум другим прежде меня! Знают ли они, иомфру, как вы поступили со мной?
Но шутка показалась иомфру Сальвезен слишком тяжеловесной, и она ответила:
– Я скажу это своему жениху, адвокату Раш. Консул Фредерик серьезно заинтересовался. Это было, пожалуй, поинтереснее истории с иомфру Боммен, которая дотанцевалась до смерти. Он спросил, высоко поднимая брови:
– Можно позавидовать? Правда?
– Да, я думаю, что можно, – улыбаясь, ответила иомфру.
– Это превесело! Интересная новость! Вы, значит, выходите замуж?
– Не знаю еще. Может быть, через год.
– А кто же будет у поручика?
– Другая. Я не уеду прежде, чем он найдет другую.
– А вы будете жить здесь?
– Да, некоторое время, во всяком случае. У Раша здесь большое дело. Он хочет со временем подыскать себе место на юге.
– Так вы еще, может быть, приедете в наши края, иомфру Сальвезен? Не забудьте тогда побывать у меня.
– Очень благодарна за любезность, консул Кольдевин.
– Я очень ценю образованных людей, я собираю их. Нет, на самом деле, это чудесная новость! Могу я пожать вам руку, иомфру Сальвезен?
– Да, подождите немного, – отвечает иомфру Сальвезен и вытирает руку.
Но, взяв руку иомфру, консулу опять захотелось пошутить и он начал речь:
– Теперь, когда я держу эту руку в последний раз…
– Ха-ха-ха!
– Я говорю, хотя вы и невинны, я говорю, хотя мы и оба невинны… Да, так теперь, когда я держу эту руку, которую я не получил…
– Отпустите, господин консул!
– Которая не была мне дана… Нет ли у вас бокала или чего-нибудь, чтобы выпить, иомфру?
– Нет, серьезно, – говорит иомфру и оглядывается.– Пустите меня, тогда я принесу чего-нибудь из столовой.
– О, нет, благодарю вас, уж лучше не нужно. Но, иомфру, вы говорите, что я пришел, чтобы покончить с этим? Нет. Я хочу вам сказать только, что я нашел форму. Но это по-настоящему нужно было бы спеть: в ту минуту, когда пастор Лассен произнесет благословение над вами и адвокатом Рашем, меня найдут с веревкой в руке, ищущим крюка.
– Ха-ха! Нет, это невозможно!
– Вы знаете, что должно скоро случиться?
– Вон фру идет! – говорит вдруг иомфру Сальвезен. Консул Фредерик выпустил ее руку.
Он отлично знал свою жену, он прямо пошел ей навстречу и рассказал, что иомфру Сальвезен выходит замуж за адвоката Раша, и он только что поздравил ее.
– Тебе нужно было держать ее за руку для этого? – сказала жена.
Консул Фредерик ответил:
– Я хотел быть вежливым. Она будет теперь совершенно в другом положении. Может быть, она со временем будет бывать у нас.
Юный Виллац мучился угрызениями совести. Он перестал писать письма Марианне. Как это случилось? Отчасти потому, что у него было так много дел. А потом, он в своем блаженстве доверился однажды матери, и она очень обеспокоилась этим и запретила писать. Когда он уверял ее, что любит Марианну сильнее жизни, она сказала: «Подожди лет десять, тогда увидим. Сначала ты должен стать чем-нибудь дельным и обрадовать отца».
Но когда он увиделся с Марианной на мосту и потом на кладбище, он не мог, чтобы не протянуть ей руку. Она посмотрела ему прямо в глаза, притянула его к себе и стояла, чуть не прижимаясь к нему и смотря на него. Она была так необузданно нежна.
Они встретились перед отъездом; юный Виллац пошел прогуляться. Марианна стояла на дороге. Около моста росли ивы, и они остановились под ними. Юный Виллац был одет по дорожному и ждал только прихода парохода. Но несмотря на то, что времени оставалось так мало, он не говорил ничего. Куда девались все слова из его сердца и головы? Марианна тоже молчала. Они стояли оба и щипали ветви ивы.
– Я сегодня уеду, – сказал он.
– Да.
– Уже скоро!
– Феликс тоже уедет, – ответила она на это.– Он уедет в Мексику.
– Неужели?
– Да. Он не хочет учиться. И я тоже уеду, в Христианию, – сказала Марианна. – Мне и хочется и не хочется.
– Христиания это не Берлин. Бояться нечего.
– Ты больше не можешь писать мне, – сказала она.
– Могу. Но у меня не будет времени. Мама сказала, что нужно трудиться, чтобы быть чем-нибудь.
Марианна нагнулась к нему, и он обнял ее и, потеряв всякое самообладание, она попросила его писать по воскресеньям. В воскресенье вечером, объяснила она.
– Да нет, я не могу.
– Я написала тебе много писем. Я писала вчера и сегодня. Вот посмотри!
И она подала ему несколько писем.
– Вот!
И Виллац протянул руку, взял письма и спрятал их в карман. Он был нем от счастья и стыда.
Бог знает, как это случилось, – она была такая большая и такая милая, со своими индейскими волосами, висевшими на спине и медно-красным цветом лица, – Марианна нагнулась к нему, и он обнял ее и не знал сам, что делал. Они стояли обнявшись. Наконец он сказал:
– Позволь мне поцеловать тебя за письма, если ты думаешь, что это можно.
Она не ответила, но сделала движение, которое он принял за согласие. И губы их слились, и они оба закрыли глаза.
Но после этого они вскоре расстались. Они больше не могли смотреть друг на друга и говорить друг с другом. Они оба смотрели в землю.
– Прощай, – сказал он.
– Прощай, – ответила она.
Когда юный Виллац вернулся домой, Готфрид повел его в комнату отца. Старый согнувшийся поручик был очень серьезен.
– Я ждал тебя, – сказал он торжественно.
– Прости, я…
– Все прощаю. Гм… Тебя зовут Виллац Вильгельм Мориц фон Плац-Хольмсен.
– Да? – сказал сын.
– Да, – подтвердил отец. Так тебя зовут. Гм… А Виллац – твое сокращенное имя.
– Да?
– Ты можешь звать себя и Морицем, если тебе это нравится.
– Нет, зачем же?
– Я говорю, если тебе нравится.
– Да, но мне это не нравится.
– Разве, живя в Германии, не удобнее называться Морицем? Твоя мать… Мы должны чтить ее память…
– Но я уже записан именем Виллац, – возразил сын.
– Твоя мать называла тебя Морицем.
– Я не помню, чтобы слышал это когда-нибудь.
– Когда ты был маленький.
– А в последнее время никогда.
– Хорошо. Так нечего и говорить об этом, Гм… Ты извинишь, что я не пригласят никого к обеду сегодня?
– Конечно.
– Мы не могли сделать этого.
– А что, если бы ты поехал сегодня со мной, отец.
– Некогда, дитя. Впрочем, ведь ты теперь взрослый. Веди себя хорошо, Виллац. И счастливого пути.
ГЛАВА XVII
Если бы все было, как в старину, поручик поставил бы памятник на могилу фру Адельгейд; а что ему было делать теперь? Он, правда, заказал большую красивую бронзовую плиту, но это разве был памятник? Он, наверное, подарил бы церкви золотую чашу, если бы у него хватило средств на это? Итак, у него не хватало средств?
Но могло ли быть иначе? Ему уже пришлось отказаться от органа. Ему не удалось даже заказать портретов Адельгейд для галереи своих предков! Это глубоко оскорбляло его. И потом тут был маленький Готфрид – надо было сделать что-нибудь для него. А Паулина? И ее нельзя было обидеть.
А лопарь Петер, он ведь был когда-то рейткнехтом фру Адельгейд!
Ах, да! хорошо, что Адельгейд вовремя умерла. Она не вынесла бы этого; ее пение умолкло бы. Бывают несчастья в семьях, которые превращаются в настоящее благословение. Небо оказывает милосердие, отнимая у людей тех, кто им дорог.
Так говорят гуманисты.
Но когда консул Фредерик спросил, вернется ли юный Виллац в Берлин, это было уже смешно.
Куда же ему было деваться, не оставаться же дома, чтобы любоваться несчастьем отца? Бедному Фредерику не повезло в жизни. Он не мог понять даже того, что дело шло о молодом Виллаце Хольмсене, который жил заграницей и только изредка приезжал домой.
Но поручик никогда не жаловался. Он молчал из гордости, как подобает воину и светскому человеку с твердой волей.
Может быть, поручику не было никакого дела до жизни! О, тогда он не думал бы об этом целые дни и не ворочался бы в своей постели целые ночи. Траурный год еще не прошел, как он уже начал заводить свои порядки; его терпению пришел конец. Он решил опять устраивать литературные вечера.
Маленькая Паулина была у него горничной, кто-нибудь должен же был быть горничной, а она была такая милая и тихая, и у нее были такие хорошие голубые глаза. Поручику для перемены опять захотелось быть пашой; он позвал Давердану.
Она явилась не скоро; он лежал на диване и с удовольствием думал, что она теперь моет руки. Она вошла, сильно раскачивая на ходу бедрами и пробудила в нем самые опасные надежды. Он лежал, засунув обе руки в карманы, грубый и злой. Она хотела уйти и принести книгу, потом вернулась и все раскачивала бедрами.
Настал светлый летний вечер, он начал озираться в комнате, смотреть на мебель и картины, и увидел большой портрет Адельгейд, азбуку и игрушки юного Виллаца, – все старые вещи… Ушло время.
Ушло.
Он разжал кулаки в карманах и стал думать о том времени, которое ушло. Сколько лет проживет он еще? Он стал такой сухой и костлявый!
Когда он услышал, что Давердана вернулась, он вскочил и встал прямо и гордо. Что он с ума сошел? Его прежняя горячность овладела им, он стоял прямо и неподвижно. Когда Давердана вошла, он сказал ей, что она ловкая девушка, что она всегда была ловкой девушкой, одним словом, гм…
Его припадок прошел, и он кончил тем, что сказал:
– Подожди немного, останься здесь!
И поискав в столе, он вынул кредитную бумажку и дал ей.
Давердана покраснела, поклонилась и поблагодарила. Всякое слово поручика, – похвала или порицание, – имели свой вес. Давердана была так удивлена, что продолжала стоять после того, как он уже кивнул ей. Разве не нужно было читать или играть в шашки? И поручику опять пришлось кивнуть и сказать:
– Больше ничего. Дело было сделано.
Как однажды он решил по отношению к жене: «Это будет в последний раз! – так решил он теперь о своей жизни. Отчего все его зрелые годы были так пусты? Он мог сделать единственное, что остается сделать старику, чтобы не быть в тягость себе и другим: он мог стоять прямо и гордо. Стоило ли браться за дело теперь и устраивать себе нищенский обед за большим столом? Он был гостем, которого изгнали, но он не хотел ссориться со слугами из-за остатков пира, он ушел прямо и гордо. Он не хотел добиваться теперь того, чего он не получил раньше. Была ли это месть самому себе? Да, месть – себе и всем, и всему – прямо и гордо. Это было в последний раз.
Маленькая Паулина осталась горничной. Но так как у поручика была потребность тратить деньги при всяком удобном случае, то и Паулина получила такую же бумажку, как Давердана. Это была одна из тех новеньких бумажек, которые ему было почти стыдно отдавать.
– Неужели ты так довольна? – сказал он Паулине. Поручик иногда разговаривал с ней.
– Да, благодарю, – отвечала Паулина.
– Хочешь еще такую же?
– Нет, благодарю, нет.
И он продолжал говорить с ней о том, чему она будет учиться.
– Подумала ты об этом? Хочешь учиться шить, например?
Нет, Паулина предпочитала стать экономкой.
– Ты хочешь? Экономкой? Так! Так этому тебя может поучить иомфру Сальвезен, это очень неплохая мысль. Я поговорю с иомфру Сальвезен.
Подобные же разговоры он вел с телеграфистом Бардсеном о маленьком Готфриде; он думал о том, не учить ли мальчика телеграфному ремеслу. Он был такой маленький, из него не могло выйти порядочного рыбака. А фру так хорошо выучила его языкам…
Телеграфист Бардсен был замечательный человек. Он сидел и играл на почерневшей звонкой виолончели, когда вошел поручик.
Тогда он встал и поклонился. Когда он услышал, зачем поручик пришел, он ответил:
– Непременно, господин поручик, если вы этого желаете.
Это была не ирония, а вежливость, как будто бы поручик по-прежнему был важной персоной в Сегельфоссе.
Поручик был совершенно так же вежлив и сказал, что он был очень благодарен.
Когда поручик вышел, телеграфист подошел к полке с занавеской, выпил несколько глотков прямо из горлышка и опять взялся за виолончель. Его широкие плечи так и ходили во время игры.
Дни протекали. Поручик старел и старел, однако, держался гордо. Но какое горе заставляло седеть волосы господина Хольменгро, у которого не случилось никакого несчастья? Это было странно. Хлопоты похорон не могли утомить его так, а смерть фру Адельгейд не касалась его, она была не его жена.
Феликс уехал. Феликс не хотел ничему учиться, объяснял отец, поэтому он должен был вернуться к своим родным в Мексику. Жаль было смотреть, как господин Хольменгро седел от огорчения. По правде говоря, никому в Сегельфоссе не было сладко жить. Даже Давердана ходила с опущенной головой и начинала скучать. Даже Давердана со своей юностью и рыжими волосами. Она стояла один раз у колодца за постройками. И тут же стоял почему-то господин Хольменгро, и Давердана плакала.
Экономка иомфру Сальвезен подошла к ним и видела это.
«Что же это, свет, что ли, перевернулся?» – подумала она. Потом вдруг сообразила: «А как легко могло бы случиться, что и я стояла бы перед господином Хольменгро и плакала!»
Да, всем жилось несладко. У Пера-лавочника сделался удар. У того самого Пера-лавочника, который постоянно взвешивался и боялся похудеть. У него одна сторона тела отнялась, и окружной врач Мус объявил, что следующий удар убьет его окончательно. Да, так сказал окружной врач Мус. Перу-лавочнику казалось тоже, что свет перевернулся. Он ничего не мог понять. Одна половина его тела, которая лежала тут же на его кровати, умерла? Он всю жизнь работал и не мог представить себе жизнь без работы. Он был, так сказать, в полном расцвете сил; он никогда не умел так хорошо считать, как теперь. Он никогда не торговал так хорошо шелковыми платками, машинными чулками, висячими лампами с подвесками… Неужели это конец? Никому не нужно было самому работать по вечерам. Все можно было купить у Пералавочника! Он продавал готовые грабли, топорища, жженый и молотый кофе в красивой упаковке, продавал масло в жестянках из Америки. В старину приходилось самому резать табак – Пер-лавочник и этому помог. Он продавал готовый резаный табак. А сапоги? Приходил, бывало, Нильс-сапожник в усадьбу и на весь год нашивал сапог на всю семью. И сам дубил кожу, и сам смолил нитки, и чего он только не делал, этот Нильс-сапожник? Теперь Пер-лавочник торговал городскими сапогами; они были тонки, как сукно, и блестели как зеркало.
Поэтому нельзя сказать, что Пер-лавочник не делает ничего. Он работал все время и вот вдруг слег в постель. Впрочем, он продолжал вести свою торговлю через жену и детей. Он властно распоряжался ей в своей постели, и дело не стояло.
Когда он был здоров, он умел внушить к себе почтение. Он и теперь поступал так же. Когда ему нужно было кого-нибудь, он стучал палкой в пол. Он приглашал доктора, приглашал знахарей и знахарок, он пил рыбий жир и оподельдок, накладывал холодные компрессы – это было, впрочем, хуже всего – и вот, наконец, он постучал палкой и приказал позвать пастора, – не поможет ли это?
– Со мной случилась неприятность, хуже которой на свете нет.
Пастор Лассен утешал его тем, что одна половина у него осталась здоровой и что он остался жив.
– Жив? Не-ет. Видите вот эту палку? Я столько же жив, сколько она.
Чтобы смягчить его, пастор Лассен говорил ему о Христе и его страданиях, что была его болезнь в сравнении с этим! Он должен был благодарить Бога за здоровую половину.
– Да что вы все время говорите о здоровой половине? – рассердился больной. – Я вам скажу, что и она у меня теперь не вполне здорова.
И Пер из Буа указал на недостатки своей здоровой половины.
– А посмотрите на это?
И он взял онемевшую руку и швырнул ее об стену, чтобы пастор убедился в том, что она ничего не чувствует.
– Вот об этой-то половине я и говорю. Вот она лежит тут, а если бы я не видел ее, я не знал бы, что она у меня есть. Какой толк в ней? Даром только хлеб ест.
Он поднял неподвижную руку, дергал ее, вертел.
– Это называется рукой? Тьфу! Прости мое согрешение! И он опять бросил ее об стену.
Пастор Лассен опять утешал его и чтобы доставить ему удовольствие, называл его Иенсен.
– Видите ли, милейший Иенсен, вы не можете жаловаться, чтобы вам не везло в жизни. Вам всегда везло. Надо потерпеть теперь немного. У всех бывают неприятности.
Больной терпеливо повернулся и спросил:
– Нет, вы, кажется, не можете мне помочь? Неужели вы не знаете никакого средства? Вы, пасторы, знаете то, что мы, простые смертные, не знаем.
– Конечно, конечно, – ответил пастор, – средство есть.
И он решил исповедать Пера-лавочника, в действительности и просто для того, чтобы узнать, что это был за человек в глубине души.
Он встал, тщательно запер дверь и вернулся к больному. Пер-лавочник думал, что это приготовление к какому-нибудь таинственному заклинанию и терпеливо ждал. Пастор пристально смотрел ему в глаза.
– Я спрашиваю вас, Иенсен, как духовник, не согрешили ли вы когда-нибудь этой больной рукой?
Пер-лавочник смотрел на него разинув рот.
– Согрешил? Рукой?
– Может быть, вы обвесили или обмеряли кого-нибудь. Я спрашиваю вас, Иенсен, как духовник.
Рот Пера-лавочника закрылся сам собой, напряженное ожидание перешло в ярость, он схватил палку.
– Обвешивал! Обмеривал! – закричал он.– Что? Так вот зачем ты пришел? Убирайся домой и говори там речи своему отцу и своим людям. Ты, кажется, с ума сошел!
Он так разозлился на духовника и господина Лассена, что называл его Ларсом и говорил ему ты. Пастор ушел. Но больной крикнул ему вслед.
– Кланяйся отцу, да скажи ему, чтоб он долги свои платил!
Пастор Лассен вошел в комнату родителей и устроил им небольшую сцену.
– Что же будет с Даверданой? Сколько времени она станет все откладывать свою свадьбу? А ты что сам будешь делать, скажи пожалуйста? Все так и будешь сидеть на этом участке и отдалживаться всем и каждому? Пер-лавочник требует деньги!
– Ты должен устроить это сам! – продолжал он. У меня нет денег, чтобы помочь тебе, иначе я тебе все отдал бы. Но все, что я зарабатываю, идет на книги и учение. Ищи выхода сам.
– Да, конечно, – сказал отец.– Но это не так просто. Где же я возьму денег? Поручик не хочет продавать мне участок. Приходится оставаться арендатором.
– Ты его спрашивал?
– Я спрашивал господина Хольменгро. Молание. Сын раздумывал.
– Это Хольменгро вряд ли сделает. Во всяком случае, я не хочу, чтобы вы портили мне карьеру здесь.
– Конечно, ты не хочешь этого. Чего это ты не хочешь, чтобы мы портили?
– Моей карьеры.
– Конечно, конечно. Я пойду сегодня же к Хольменгро и поговорю с ним.
Поручик перестал ездить верхом на свою утреннюю прогулку. Он ходит теперь пешком. Это удивляет всех, кроме него самого. Ведь лошади по-прежнему стоят у него в конюшне, а лопарь Петер ездит на них каждый день для того, чтобы они не застаивались. Отчего поручику не ездить лучше самому?
Это опять были выдумки. Он, наверное, хотел заранее привыкнуть обходиться без лошадей. Он страдал бессонницей и тоской.
Он часто ходил вниз к кирпичному заводу и шагал там одиноко, разговаривая сам с собой. Потом по несколько дней не появлялся там, брал грабли и лопату и пересаживал цветы в саду. Он копал клумбы на таких местах, что люди с удивлением смотрели на него.
– Неужели и третий Виллац Хольмсен принимается искать в саду клад предков?
Вот до чего дошел этот гордый и самоуверенный человек. Может быть, бессонница довела его до этого? Но зачем эти цветочные горшки из оранжереи, которые он носил с собой всюду, где он рыл, и которые, конечно, были только для вида…
Во внешности его нельзя было заметить ничего особенного. Если он страдал, то он отлично скрывал это. С тех пор, как старый рыцарь стал ходить пешком, кривизна его ног стала еще заметнее. Он казался сгорбленным оттого, что всегда смотрел вниз. Но был ли он вял и слаб? Он?! – Как сталь!!








