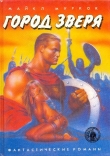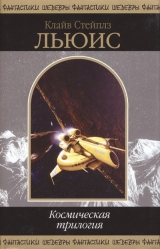
Текст книги "Космическая трилогия (сборник)"
Автор книги: Клайв Стейплз Льюис
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
XIX
Когда процессия приблизилась, Рэнсом увидел, что идущие впереди несут на головах три длинные узкие ноши, каждую по четыре хросса. За ними следовали другие, с гарпунами, и вели за собой двух существ, которых Рэнсом не узнал. Когда они показались в дальнем конце аллеи, свет бил им в спину. Они были намного короче всех известных Рэнсому малакандрийских животных и, по всей видимости, двуногие, хотя нижние конечности, толстые, как сардельки, ногами можно было назвать лишь с натяжкой. Тела слегка сужались кверху, что придавало им сходство с грушей, а голова была не круглой, как у хроссов, и не вытянутой, как у сорнов, а почти квадратной. Они топали узкими, увесистыми ступнями, вдавливая их в землю с какой-то излишней силой. Наконец стали видны их лица – неровно окрашенные куски плоти в буграх и складках, обрамленные темной щетиной. И вдруг с неописуемым волнением Рэнсом понял, что это люди. Да, пленниками были Уэстон и Дивайн, и ему было дано на одно мгновение увидеть человека глазами малакандрийца.
Идущие впереди приблизились к Уарсе на расстояние нескольких ярдов и опустили свою ношу на землю. Тут Рэнсом увидел, что носилки – из неизвестного ему металла, а на них – три мертвых хросса; они лежали на спине и застывшим взглядом (им не закрыли глаза, как принято делать на Земле) недоуменно смотрели на высокий золотой купол рощи. Рэнсом скорее угадал, что один из них – Хьои, но сразу узнал его брата Хьяхи в хроссе, который отделился от толпы и, почтительно приветствовав Уарсу, начал говорить.
Поначалу Рэнсом не слушал – его внимание было приковано к Уэстону и Дивайну. Безоружные, они стояли под бдительной охраной вооруженных хроссов. Оба, как и сам Рэнсом, не брились со дня высадки, оба были бледными и изможденными. Уэстон стоял, скрестив руки на груди, и всем своим видом изображал безысходное отчаяние. Дивайн засунул руки в карманы с мрачной яростью на лице. Конечно, оба считали, что у них есть все основания для страха, и, надо отдать им должное, не спасовали перед опасностью. Окруженные стражей, они были поглощены происходящим и не заметили Рэнсома.
До него наконец стали доходить слова Хьяхи:
– Может быть, Уарса, смерть этих двоих и можно простить челховекам – ведь они очень испугались, когда мы ночью напали на них. Скажем, это была охота и двое погибли, как в битве с хнакрой. Но Хьои не сделал им ничего плохого и не пугал их, а они убили его издалека, оружием трусов. И вот он лежит здесь, а ведь он – хнакрапунт и замечательный поэт. Я говорю так не потому, что он был мне братом, – это знает весь хандрамит.
И тогда пленники впервые услышали голос Уарсы.
– Почему вы убили моих хнау? – спросил он.
Уэстон и Дивайн стали тревожно озираться.
– Господи! – воскликнул по-английски Дивайн. – Ни за что не поверю, что у них тут громкоговоритель.
– Чревовещание, – ответил Уэстон хриплым шепотом. – Сплошь и рядом среди дикарей. Колдун-врачеватель или знахарь делает вид, что впал в транс. Определим, кто знахарь, и будем обращаться все время к нему. Он поймет, что мы его раскусили, и собьется. Попытайтесь понять, кто из этих тварей в трансе… Черт меня дери, засек!
Нельзя отказать Уэстону в проницательности – он обратил внимание на единственного, кто не стоял в благоговейной позе, а сидел на корточках, прикрыв глаза. Это был пожилой хросс прямо рядом с ним. Шагнув к нему, Уэстон вызывающе прокричал (язык он знал очень плохо):
– Зачем отбирали наш пиф-паф? Мы очень сердиться. Мы не бояться.
Он думал, что это произведет большое впечатление. К несчастью, теорию его никто не разделял. Старик – его прекрасно знали все, не исключая и Рэнсома, – прибыл не с траурной процессией, а гораздо раньше. Разумеется, он и не думал выказывать неуважение к Уарсе; просто еще до начала церемонии он плохо себя почувствовал, что в этом возрасте обычно для всех хнау, а теперь, когда приступ миновал, наслаждался глубоким сном. От крика у него только дернулся ус, но глаза он не открыл.
Снова раздался голос Уарсы.
– Почему ты обращаешься к нему? – сказал он. – Это я спрашиваю, почему вы убили моих хнау.
– Отпускай нас, потом отвечать, – ревел Уэстон над спящим хроссом. – Ты думать, мы без силы! Думать, ты делать, что хотеть. Ты не мочь. Большой сильный человек с неба нас посылать. Ты не делать, что мы хотеть, – он приходить, всех вас убивать. Пиф! Паф!
– Я не понимаю, что значит «пиф-паф», – сказал голос. – Почему ты убил моих хнау?
– Скажите, что это вышло нечаянно, – зашептал Дивайн по-английски.
– Я же вам говорил, – ответил ему Уэстон, – с туземцами так нельзя. Стоит проявить слабость – тут же горло перегрызут. Они понимают только угрозы.
– Ладно, валяйте, – пробурчал Дивайн. Он явно терял доверие к своему компаньону.
Уэстон прочистил горло и снова напустился на старого хросса.
– Мы его убивать! – надрывался он. – Показывать, что мы мочь! Кто не делать, что мы говорить, мы его убивать! Пиф-паф! Вы делать, что мы говорить, а мы вам давать красивый вещь. Смотри! Смотри! – И, к вящему ужасу Рэнсома, Уэстон выхватил из кармана дешевые разноцветные бусы и принялся размахивать ими перед носом своих стражей, медленно кружа на месте и вопя: – Хорош! Хорош! Смотри! Смотри!
Результаты превзошли все его ожидания. Целая буря звуков, которых и не слышало ухо человека, взорвала тишину священного места и разбудила эхо далеких гор. Хроссы лаяли, пфифльтригги пищали, сорны гудели, и в воздухе слабо, но явственно звенели голоса эльдилов. К чести Уэстона надо сказать, что он, хотя и побледнел, самообладания не утратил.
– Вы не кричать на меня! – загремел он. – Не запугать! Я вас не бояться!
– Не обижайся на них, – сказал Уарса, и даже голос его стал иным. – Они не кричат на тебя, они смеются.
Но Уэстон не знал, как по-малакандрийски «смеяться»; впрочем, он и на любом языке не вполне понимал смысл этого слова. Рэнсом, сгорая от стыда, готов был молиться, чтобы он прекратил эксперимент, – но он плохо знал Уэстона. Тот ждал, чтобы шум улегся. Он знал, что в точности следует правилам обращения с дикарями – запугать, потом уластить, – и был не из тех, у кого опустятся руки от одной-двух неудач. Поэтому он снова завертелся на месте, как детский волчок при замедленной съемке, вытирая левой рукой пот со лба, – в правой были бусы. Зрителей охватил новый приступ хохота, совершенно заглушивший его увещевания, и лишь по движению губ можно было догадаться, что он все орет: «Хорош! Хорош!» Вдруг смех стал чуть ли не вдвое громче. Сами звезды были против Уэстона. В его ученой голове всплыло туманное воспоминание, как давным-давно он развлекал годовалую племянницу – и, наклонив голову набок, он стал выделывать странные, почти танцевальные па. Насколько Рэнсом слышал, приговаривал он что-то вроде: «У-тю-тю-тю!»
Наконец крупнейший физик изнемог и остановился. Такого представления Малакандра еще не видела и встретила шумным восторгом. Когда все умолкли, Рэнсом услышал, что Дивайн говорит по-английски:
– Уэстон, ради бога, перестаньте корчить шута. Сами видите – ничего не выйдет.
– Да, что-то не выходит, – признал Уэстон. – Вероятно, они тупее, чем мы предполагали. Как вы думаете, стоит еще раз попробовать? А может, теперь вы?
– А, черт! – простонал Дивайн, отвернулся, уселся прямо на землю, достал портсигар и закурил.
– Дам-ка я это колдуну, – сказал Уэстон и, воспользовавшись тем, что все завороженно следили за действиями Дивайна, беспрепятственно приблизился к пожилому хроссу, чтобы надеть ему бусы на шею. Но и это ему не удалось – голова у хросса была слишком велика, так что они застряли и получился какой-то венец набекрень. Хросс повел головой, как собака, потревоженная мухой, немного всхрапнул и не проснулся.
Тогда голос Уарсы обратился к Рэнсому:
– Может быть, твои собратья обделены рассудком, Рэнсом с Тулкандры, или слишком боятся меня?
– Нет, Уарса, – сказал Рэнсом. – По-моему, они не могут поверить, что ты здесь, и думают, что все эти хнау – маленькие дети. Толстый человек пытается их напугать, а потом задобрить подарками.
Услышав Рэнсома, пленники разом обернулись. Уэстон открыл было рот, но Рэнсом опередил его и сказал по-английски:
– Уэстон, это не обман. Это голос реального существа, оно стоит там, где, если присмотришься, виден свет или что-то вроде света. Оно не менее разумно, чем мы, люди, и, кажется, живет невероятно долго. Перестаньте вести себя с ним как с ребенком, отвечайте ему. Я бы вам посоветовал не лгать и не орать.
– Похоже, у этих тварей хватило ума, чтобы спеться с вами, – пробурчал Уэстон. Тем не менее, когда он снова обратился к спящему хроссу, не в силах расстаться со своей навязчивой идеей, голос его звучал иначе.
– Мы не хотеть убивать, – сказал он, указывая на Хьои. – Да, да, не хотеть. Сорны нам велеть приводить человек, его дать для большая голова. Мы уходить назад в небо. Он приходить, – тут оратор указал на Рэнсома, – с нами. Он очень порченый, он убегать, не слушать сорнов, как мы. Мы за ним бежать, приводить сорнам – пусть делать, что мы говорить, что сорны говорить, ясно? Он нас не слушать. Убегать, убегать. Мы бежать за ним, видеть большой черный, думать он нас убивать, мы его убивать – пиф-паф! Все порченый человек. Он не убегать, хороший быть – мы за ним не бежать, черного не убивать! Вы порченый брать – он делать беду – вы его брать, нас отпускать. Он вас бояться, мы не бояться. Слушай…
В этот момент непрерывные вопли Уэстона произвели наконец тот эффект, которого он так упорно добивался. Спящий открыл глаза и кротко посмотрел на него в некотором замешательстве. Потом, постепенно осознав свою вину, медленно выпрямился, отвесил Уарсе почтительный поклон и заковылял прочь, так и не заметив сползшего на ухо венца. А Уэстон все еще с открытым ртом провожал растерянным взглядом удаляющуюся фигуру, пока она не скрылась между стеблей рощи.
И снова голос Уарсы прервал тишину:
– Мы достаточно повеселились. Пора услышать правдивые ответы на все вопросы. У тебя что-то не в порядке с головой, хнау с Тулкандры. В ней слишком много крови. Здесь ли Фирикитекила?
– Здесь, Уарса, – отозвался один пфифльтригг.
– У тебя есть в цистернах вода, в которую впущен холод?
– Да, Уарса.
– Пусть тогда этого плотного хнау отведут в гостиницу и опустят его голову в холодную воду. Много раз, и побольше воды. Потом приведите его назад. А мы тем временем позаботимся о мертвых хроссах.
Уэстон не совсем понял, что говорит голос, – он все еще пытался определить его источник. Но когда его подхватили и повлекли куда-то сильные руки хроссов, он испытал настоящий ужас. Рэнсом хотел крикнуть ему вслед что-нибудь ободряющее, но Уэстон вопил так, что ничего бы не услышал. Он смешивал английский с малакандрийским, и последнее, что донеслось до Рэнсома, был пронзительный крик:
– Поплатитесь за это… пиф-паф!.. Рэнсом, ради бога… Рэнсом! Рэнсом!
– А теперь, – сказал Уарса, когда настала тишина, – давайте почтим моих мертвых хнау.
При этих словах десять хроссов вышли вперед к носилкам. Они подняли головы и, хотя никто не подавал им знака, запели.
Когда впервые знакомишься с новым искусством, то, что вначале казалось бессмысленным, в какой-то миг вдруг приподнимает край завесы над тайной, и один краткий взгляд на скрытые внутри неистощимые возможности повергает вас в восторг, с каким не сравнится никакое последующее, сколь угодно искушенное понимание частностей.
И для Рэнсома настал такой момент, когда он слушал малакандрийское пение; он понял, что эти ритмы порождены иною кровью, чем наша, быстрее бьющимся сердцем и большим жаром. Узнав и полюбив этот народ, теперь он хоть немного услышал их музыку их ушами. С первыми тактами гортанной песни перед ним возникли огромные глыбы, мчащиеся на немыслимой скорости, пляшущие великаны, вечная скорбь, вечное утешение и еще что-то неясное, но бесконечно близкое. Душа его исполнилась благоговения, словно райские врата открылись перед ним.
– Пусть уйдет тело, – пели хроссы. – Пусть уйдет, растворится, и не станет его. Урони, освободи, вырони тихо, как пальцы склонившегося над водой роняют камень. Дай ему упасть, утонуть, исчезнуть. Там, под покровом, ничто ему не помешает, ибо в воде нет слоев, она едина и нераздельна. Отправь его в путь, из которого нет возврата. Дай ему опуститься, из него поднимутся хнау. Это – вторая жизнь, другое начало. Откройся, о пестрый мир, неведомый, безбрежный! Ты – второй, и лучший; этот, первый, – немощен. Когда внутри миров был жар, в них рождалась жизнь, но то были бледные цветы, темные цветы. Мы видим их детей – они растут вдали от солнца, в местах печальных. Потом небеса породили другие миры, в них – дерзновенные вьюны, ярковолосые леса, ланиты цветов. Первое – темней, второе – ярче. Первое – от миров, второе – от солнца.
Вот примерно то, что Рэнсому удалось запомнить и перевести. Когда песнь кончилась, Уарса сказал:
– Рассыпем движения, которые были их телами. Так рассеет и Малельдил все миры, когда истощится первое, немощное.
Он дал знак одному из пфифльтриггов, тот поднялся и подошел к покойным. Хроссы, отступив шагов на десять, опять запели, но тихо, почти неслышно. Пфифльтригг дотронулся до каждого из мертвых небольшим стеклянным то ли хрустальным предметом, потом по-лягушечьи отпрыгнул. От ослепительного света Рэнсом зажмурился, в лицо ему будто ударил сильный ветер, но лишь на долю секунды. Потом все стихло, гробы оказались пустыми.
– Господи, как бы эта штука пригодилась на Земле! – сказал Дивайн Рэнсому. – Представляете, убийце и думать не надо, куда девать труп!
Рэнсом думал о Хьои и не ответил ему. Он бы и не успел ничего сказать – показались стражи, ведущие злосчастного Уэстона, и все обернулись к ним.
XX
Хросс, возглавлявший процессию, был совестлив и сразу начал беспокойно оправдываться.
– Надеюсь, мы поступили правильно, Уарса, – сказал он. – Но мы не уверены. Мы окунали его головой в холодную воду, а на седьмой раз с головы что-то упало. Мы подумали, это верхушка головы, но тут увидели, что это покрышка из чьей-то кожи. Одни стали говорить, что мы уже исполнили твою волю, окунули семь раз, а другие говорили – нет. Тогда мы еще семь раз окунули. Надеемся, все правильно. Оно много разговаривало, особенно перед вторыми погружениями, но мы ничего не поняли.
– Вы сделали очень хорошо, Хноо, – сказал Уарса. – Отойдите, чтобы я его видел. Я буду говорить с ним.
Стражники распались на обе стороны. Бледное лицо Уэстона покраснело от холодной воды, как спелый помидор, а волосы, не стриженные с тех пор, как он прибыл на Малакандру, прямыми гладкими прядями прилепились ко лбу. С носа и ушей стекала вода. Зрители, не знающие земной физиогномики, не поняли, что выражает это лицо, но именно так выглядел бы храбрец, который очень страдает за великое дело и скорее стремится к самому худшему, чем боится его. Чтобы объяснить его поведение, вспомним, что в это утро он уже вынес все ужасы приготовления к мученичеству и четырнадцать холодных душей. Дивайн знал своего приятеля и прокричал по-английски:
– Спокойно, Уэстон. Эти черти способны расщепить атом, если не хуже того. Говорите с ними осторожно, не порите ерунды.
– Ха! – сказал Уэстон. – Вы теперь у них за своего?
– Тихо, – раздался голос Уарсы. – Ты, Плотный, ничего не рассказал мне о себе, и я сам тебе расскажу. В своем мире ты хорошо разобрался в телах и смог сделать корабль, способный пересечь небеса; но во всем остальном у тебя ум животного. Когда ты в первый раз пришел сюда, я послал за тобою, чтобы оказать тебе честь. Ты же испугался, ибо ты темен и невежествен, и решил, что я желаю тебе зла, и пошел как зверь против зверя другой породы, и поймал в ловушку этого Рэнсома. Ты собрался предать его злу, которого боялся сам. Увидев его здесь, ты хотел второй раз отдать его мне, чтобы спасти себя. Вот как ты поступаешь со своим собратом. А что ты предназначил моему народу? Нескольких ты уже убил. Пришел ты, чтобы убить всех. Для тебя все равно, хнау это или нет. Сперва я думал, что тебя заботит только, есть ли у существа тело, подобное твоему; но у Рэнсома оно есть, а ты готов убить и его так же легко, как моих хнау. Я не знал, что Порченый столько натворил в вашем мире, и до сих пор не могу этого понять. Будь ты моим, я бы развоплотил тебя, здесь, сейчас. Не безрассудствуй; моею рукой Малельдил творит и большее, и я могу развоплотить тебя даже там, на самой границе твоего мира. Но пока я еще не решил. Говори. Я хочу увидеть, есть ли у тебя хоть что-нибудь, кроме страха, и смерти, и страсти.
Уэстон обернулся к Рэнсому.
– Вижу, – сказал он, – что для своего предательства вы выбрали самый ответственный момент в истории человечества.
Затем он повернулся к голосу.
– Знаю, ты убить нас, – сказал он. – Мне не страх. Другие идут, делают этот мир наш.
Дивайн вскочил и перебил его.
– Нет, нет, Уарса! – закричал он. – Не слушать его. Он очень глупый, он бред. Мы маленькие люди, только хотим кровь капли Солнца. Ты дать нам много кровь капли Солнца, мы уйти в небо, ты нас видеть никогда. И все. Ясно?
– Тихо, – сказал Уарса.
Почти неуловимо изменился свет, если можно назвать светом то, откуда шел голос, и Дивайн съежился и снова упал на землю. Когда он опять сел, он был бледен и дышал тяжело.
– Продолжай, – сказал Уарса Уэстону.
– Мне нет… нет… – начал Уэстон по-малакандрийски, но запнулся. – Ничего не могу сказать на их проклятом языке!
– Говори Рэнсому, он переложит на наш язык, – сказал Уарса.
Уэстон сразу согласился. Он был уверен, что настал его смертный час, и твердо решил высказать все, что всерьез занимало его помимо науки. Он прочистил горло, встал в позу оратора и начал:
– Быть может, я кажусь тебе просто разбойником, но на моих плечах судьбы будущих поколений. Ваша первобытная, общинная жизнь, орудия каменного века, хижины-ульи, примитивные лодки и неразвитая социальная структура не идут ни в какое сравнение с нашей цивилизацией – с нашей наукой, медициной и юриспруденцией, нашей армией, нашей архитектурой, нашей торговлей и нашей транспортной системой, которая стремительно уничтожает пространство и время. Мы вправе вытеснить вас – это право высшего по отношению к низшему. Жизнь…
– Минутку, – сказал Рэнсом по-английски. – Я больше не смогу в один прием.
Повернувшись к Уарсе, он стал переводить как мог. Ему было трудно, получалось плохо, примерно так:
– У нас, Уарса, есть такие хнау, которые забирают еду и… и вещи у других хнау, когда те не видят. Он говорит, что он – не такой. Он говорит, то, что он сейчас делает, изменит жизнь тем нашим людям, которые еще не родились. Он говорит, что у вас хнау одного рода живут все вместе, а у хроссов копья, которые у нас были очень давно, а хижины у вас маленькие и круглые, а лодки маленькие и легкие, как у нас раньше, и у вас только один правитель. Он говорит, что у нас по-другому. Он говорит, что мы много знаем. Он говорит, что в нашем мире тело живого существа ощущает боль и слабеет, и мы иногда знаем, как это остановить. Он говорит, что у нас много порченых людей, и мы их убиваем или запираем в хижины, и у нас есть люди, которые улаживают ссоры между порчеными хнау из-за хижин, или подруг, или вещей. Он говорит, что мы знаем много способов, которыми хнау одной страны могут убивать хнау другой страны, и некоторые специально этому учатся. Он говорит, что мы строим очень большие и крепкие хижины – как пфифльтригги. Еще он говорит, что мы обмениваемся вещами и можем перевозить тяжелые грузы очень быстро и далеко. Вот почему, говорит он, если наши хнау убьют всех ваших хнау, это не будет порченым поступком.
Как только Рэнсом кончил, Уэстон продолжал:
– Жизнь величественней любой моральной системы, ее запросы абсолютны. Не согласуясь с племенными табу и прописными истинами, она идет неудержимым шагом от амебы к человеку, от человека – к цивилизации.
– Он говорит, – перевел Рэнсом, – что живые существа важнее вопроса о том, порченое действие или хорошее… – нет, так не может быть, он говорит, лучше быть живым и порченым, чем мертвым… нет, он говорит… он говорит… не могу, Уарса, сказать на вашем языке, что он говорит. Ну, он говорит, что только одно хорошо: чтобы было много живых существ. Он говорит, что до первых людей было много других животных, и те, кто позже, лучше тех, кто раньше; но рождались животные не оттого, что старшие говорят младшим о порченых и хороших поступках. И он говорит, что эти животные совсем не знали жалости.
– Она… – начал Уэстон.
– Прости, – перебил Рэнсом, – я забыл, кто «она».
– Жизнь, конечно, – огрызнулся Уэстон. – Она безжалостно ломает все препятствия и устраняет все недостатки, и сегодня в своей высшей форме – цивилизованном человечестве – и во мне как его представителе она совершает тот межпланетный скачок, который, возможно, вынесет ее навсегда за пределы смерти.
– Он говорит, – продолжал Рэнсом, – что эти животные научились делать много трудных вещей, а некоторые не смогли научиться и умерли, и другие животные не жалели о них. И он говорит, что сейчас самое лучшее животное – это такой человек, который строит большие хижины и перевозит тяжелые грузы и делает все остальное, о чем я рассказывал, и он – один из таких, и он говорит, что если бы все остальные знали, что он делает, им бы понравилось. Он говорит, что если бы он мог всех вас убить и поселить на Малакандре наших людей, то они могли бы жить здесь, если бы с нашим миром что-нибудь случилось. А если бы что-нибудь случилось с Малакандрой, они могли бы пойти и убить всех хнау в каком-нибудь другом мире. А потом – еще в другом, и так они никогда не вымрут.
– Во имя ее прав, – сказал Уэстон, – или, если угодно, во имя могущества самой Жизни, я готов не дрогнув водрузить флаг человека на земле Малакандры: идти вперед шаг за шагом, вытесняя, где необходимо, низшие формы жизни, заявляя свои права на планету за планетой, на систему за системой до тех пор, пока наше потомство – какую бы необычную форму и непредсказуемое мировоззрение оно ни обрело – не распространится по Вселенной везде, где только она обитаема.
– Он говорит, – перевел Рэнсом, – что это не будет порченым поступком, то есть он говорит, так можно поступить – ему убить всех вас и переселить сюда нас. Он говорит, что ему не будет вас жалко. И опять он говорит, что они, видимо, смогут передвигаться из одного мира в другой и всюду, куда придут, будут всех убивать. Думаю, теперь он уже говорит о мирах, вращающихся вокруг других солнц. Он хочет, чтобы существа, рожденные от нас, были повсюду, где только смогут. Он говорит, что не знает, какими будут эти существа.
– Я могу оступиться, – сказал Уэстон, – но, пока я жив и держу в руках ключ, я не соглашусь замкнуть врата будущего для своей расы. Что в этом будущем – мы не знаем и не можем вообразить. Мне достаточно того, что есть высшее.
– Он говорит, – перевел Рэнсом, – что будет все это делать, пока вы его не убьете. Он не знает, что станет с рожденными от нас существами, но очень хочет, чтобы это с ними стало.
Закончив свою речь, Уэстон оглянулся – на земле он обычно плюхался на стул, когда начинались аплодисменты. Но стула не было, а он не мог сидеть на земле, как Дивайн, и скрестил руки на груди.
– Хорошо, что я тебя выслушал, – сказал Уарса. – Хотя ум твой слаб, воля не такая порченая, как я думал. Ты хочешь сделать все это не для себя.
– Да, – гордо сказал Уэстон по-малакандрийски. – Мне умереть. Человек жить.
– И ты понимаешь, что эти существа должны быть совсем не такими, как ты, чтобы жить в других мирах.
– Да, да. Все новые. Никто еще не знать. Странный! Большой!
– Значит, не форму тела ты любишь?
– Нет. Мне все равно, как форму.
– Казалось бы, ты печешься о разуме. Но это не так, иначе ты любил бы хнау, где бы его ни встретил.
– Все равно – хнау. Не все равно – человек.
– Если это не разум, подобный разуму других хнау, – ведь Малельдил создал нас всех; если не тело – оно изменится; если тебе безразлично и то и другое, что же называешь ты человеком?
Это пришлось перевести. Уэстон ответил:
– Мне забота – человек, забота наша раса, что человек порождает.
Как сказать «раса» и «порождать», он спросил у Рэнсома.
– Странно! – сказал Уарса. – Ты любишь не всех из своей расы, ведь ты позволил бы мне убить Рэнсома. Ты не любишь ни разума, ни тела своей расы. Существо угодно тебе, только если оно твоего рода – такого, каков ты сейчас. Мне кажется, Плотный, ты на самом деле любишь не завершенное существо, а лишь семя. Остается только оно.
– Ответьте, – сказал Уэстон, когда Рэнсом это перевел, – что я не философ. Я прибыл не для отвлеченных рассуждений. Если он не понимает – как и вы, очевидно, – таких фундаментальных вещей, как преданность человечеству, я ничего не смогу ему объяснить.
Рэнсом не сумел это перевести, и Уарса продолжал:
– Я вижу, тебя очень испортил повелитель Безмолвного мира. Есть законы, известные всем хнау, – жалость, и прямодушие, и стыд, и приязнь. Один из них – любовь к себе подобным. Вы умеете нарушать все законы, кроме этого, хотя он как раз не из главных. Но и его извратили вы так, что он стал безумием. Он стал для вас каким-то маленьким слепым уарсой. Вы повинуетесь ему, хотя, если спросить вас, почему это – закон, вы не объясните, как не объясните, почему нарушаете другие, более важные законы. Знаешь ли ты, почему он это сделал?
– Мне думать, такого нет. Мудрый, новый человек не верить старая сказка.
– Я скажу тебе. Он оставил вам этот закон, потому что порченый хнау может сделать больше зла, чем сломанный. Он испортил тебя, а вот этого, Скудного, который сидит на земле, он сломал – он оставил ему только алчность. Теперь он всего лишь говорящее животное и в моем мире сделал не больше зла, чем животное. Будь он моим, я бы развоплотил его, потому что хнау в нем уже мертв. А будь моим ты, я постарался бы тебя излечить. Скажи мне, Плотный, зачем ты сюда пришел?
– Я сказать – надо человек жить все время.
– Неужели ваши мудрецы так невежественны и не знают, что Малакандра старше вашего мира и ближе к смерти? Мой народ живет только в хандрамитах; тепла и воды было больше, а станет еще меньше. Теперь уже скоро, очень скоро я положу конец моему миру и возвращу мой народ Малельдилу.
– Мне знать это много. Первая попытка. Скоро идти другой мир.
– Известно ли тебе, что умрут все миры?
– Люди уйти прежде умрет – опять и опять. Ясно?
– А когда умрут все?
Уэстон молчал. Уарса заговорил снова:
– И ты не спрашиваешь, почему мой народ, чей мир стар, не решил прийти в ваш мир и взять его себе?
– Хо-хо! – сказал Уэстон. – Не знать, как.
– Ты не прав, – сказал Уарса. – Много тысяч тысячелетий тому назад, когда в вашем мире еще не было жизни, на мою харандру наступала холодная смерть. Я очень беспокоился – не из-за смерти моих хнау, Малельдил не создает их долгожителями, а из-за того, что повелитель вашего мира, еще не сдерживаемый ничем, вложил в их умы. Он хотел сделать их такими, как ваши люди, которые достаточно мудры, чтобы предвидеть близкий конец своего рода, но недостаточно мудры, чтобы вынести его. Они готовы были следовать порченым советам. Они могли построить неболеты. Малельдил остановил их моею рукой. Некоторых я излечил, некоторых развоплотил…
– И смотри, что стало! – перебил Уэстон. – Сидеть в хандрамитах, скоро все умереть.
– Да, – сказал Уарса. – Но одно мы забыли – страх, а с ним – убийство и ропот. Слабейший из моих людей не страшится смерти. Это только Порченый, повелитель вашего мира, растрачивает ваши жизни и оскверняет их бегством от того, что вас настигнет. Будь вы подданными Малельдила, вы жили бы радостно и покойно.
Уэстон сморщился от раздражения. Он очень хотел говорить, но не знал языка.
– Вздор! Пораженческий вздор! – по-английски закричал он и, выпрямившись в полный рост, добавил по-малакандрийски: – Ты говоришь, твой Малельдил вести всех умирать. Другой, Порченый – бороться, прыгать, жить. Плевал ваш Малельдил. Порченый лучше, моя его сторона.
– Разве ты не видишь, что он не станет и не сможет… – начал Уарса, но замолчал, как бы собираясь с мыслями. – Нет, я должен больше узнать о вашем мире от Рэнсома, а для этого мне понадобится остаток дня. Я не буду убивать тебя, да и Скудного, ибо вы – вне моего мира. Завтра ты отправишься отсюда в своем корабле.
Лицо Дивайна вдруг вытянулось. Он быстро заговорил по-английски:
– Ради бога, Уэстон, объясните ему. Мы здесь пробыли несколько месяцев, Земля теперь не в противостоянии. {13} Скажите ему, что это невозможно. Лучше уж сразу нас убить.
– Как долго вам лететь до Тулкандры? – спросил Уарса.
Уэстон, пользуясь переводом Рэнсома, объяснил, что лететь почти невозможно. Расстояние увеличилось на миллионы миль. Угол их курса по отношению к солнечным лучам будет сильно отличаться от того, на который он рассчитывал. Даже если у них есть один шанс из ста попасть на Землю, запасы кислорода почти наверное истощатся еще в пути.
– Скажите ему, чтобы сразу нас убил, – добавил он.
– Мне все это известно, – сказал Уарса. – Если вы останетесь в моем мире, я должен вас убить, я не потерплю таких существ на Малакандре. Да, шансов вернуться в свой мир у вас немного; но немного – не значит «ничего». Выберите время отлета от нынешней минуты до следующей луны. А пока что скажите, сколько времени, самое большее, вам лететь?
После долгих вычислений Уэстон дрожащим голосом ответил: если за девяносто дней это не выйдет, не выйдет вообще. Мало того, они к этому времени уже умрут от удушья.
– Девяносто дней у вас будет, – сказал Уарса. – Мои сорны и пфифльтригги дадут вам воздух (мы владеем и этим искусством) и пищу на девяносто дней. Но они сделают кое-что и с вашим кораблем. Я не хотел бы возвращать его в небо после того, как он сядет на Тулкандру. Тебя, Плотный, не было тут, когда я развоплотил моего хросса, которого ты убил. Скудный расскажет тебе. Я это делать могу – иногда, в некоторых местах. Меня учил Малельдил. Прежде чем ваш неболет поднимется, мои сорны кое-что сделают с ним. Через девяносто дней он развоплотится и станет тем, что у вас называется «ничто». Если этот день застигнет его в небе, ваша смерть не станет горше; но уходите из корабля, как только опуститесь на Тулкандру. Теперь уведите этих двоих, а сами, дети мои, идите куда хотите. Мне надо поговорить с Рэнсомом.