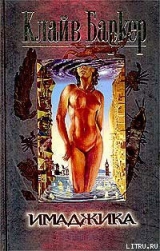
Текст книги "Имаджика"
Автор книги: Клайв Баркер
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 67 (всего у книги 77 страниц)
Этот сезон ждал ее по другую сторону жидкого занавеса. Хотя дети все так же смеялись на берегу, а водоем по-прежнему представлял собой великолепное зрелище света и движения, она покинула присутствие любящего духа, и скорбь ее была безгранична. Слезы ее удивили собравшихся у порога женщин, и несколько из них поднялись, чтобы успокоить ее, но она помотала головой, и они тихо расступились, пропуская ее к воде. Там она села и, не осмеливаясь оглядываться на храм, где решалась ее судьба, устремила взгляд на водоем.
Что же теперь? Если ее призовут в присутствие Богинь, чтобы сообщить ей, что она недостойна принимать какие-либо решения по поводу Примирения, она будет только рада этому. Тогда она сможет переложить ответственность на более надежные плечи и вернуться в окружающие водоем коридоры, где через некоторое время ей, возможно, удастся сбросить с себя груз забот и воспоминаний, чтобы вновь прийти в храм в качестве послушницы и обучиться игре световых превращений. Но если, с другой стороны, ей просто-напросто дадут понять, что здесь ей не место (именно это, судя по всему, соответствовало желанию Джокалайлау), и она будет изгнана за пределы этого волшебного места в пустыню окружающего мира, то что ей тогда делать? Если никто не поможет ей, не направит ее, то каким знанием будет она располагать, чтобы сделать выбор между открывающимися возможностями? Да никаким! Через некоторое время слезы ее высохли, но им на смену пришло нечто куда более худшее – чувство одиночества, которое могло быть только самим Адом, или же близлежащей провинцией, отделенной от него адскими тюремщиками специально для того, чтобы наказывать женщин, которые слишком неумеренно отдавались любви и утратили совершенство из-за отсутствия хоть капельки стыда.
Глава 56
В своем последнем письме сыну, написанном в ночь накануне отплытия во Францию – с миссией распространения Евангелия Tabula Rasa по всей Европе, Роксборо, гроза всех Маэстро, изложил содержание кошмара, от которого он только что пробудился. Вот что он писал:
«Мне снилось, что я еду в своем экипаже по проклятым улицам Клеркенуэлла. Нет нужды называть цель моего путешествия. Ты знаешь его. Известны тебе и те нечестивые гнусности, которые замышлялись там. Как обычно бывает в снах, на меня навалилось тягостное бессилие, и хотя я много раз умолял кучера отвезти меня обратно домой, ради спасения моей души, мои слова не возымели над ним никакой власти. Однако, когда экипаж завернул за угол и показался дом Маэстро Сартори, Белламар в ужасе попятился назад и, несмотря на понукания кучера, отказался идти дальше. Он всегда был моим любимым гнедым, и я почувствовал такой прилив благодарности к нему за то, что он отказался везти меня к этому нечестивому порогу, что вылез из экипажа, чтобы прошептать ему в ухо свое “спасибо”.
И, о, ужас! Стоило моим ногам ступить на мостовую, как камни заговорили, словно живые существа. Голоса их были глухими, но они высоко возносили их в ужасном скорбном плаче. Заслышав эту муку, и кирпичи домов этой улицы, и крыши, и ограды, и печные трубы издали такой же вопль, объединив свои голоса в отчаянном призыве к Небесам. Никогда не доводилось мне слышать такого крика, но я не мог замкнуть для него свой слух, ибо не являлся ли я частичным виновником их боли? И я услышал их слова:
“Господь, мы всего лишь некрещеные вещи, и у нас нет надежды войти в твое святое Царство, но мы воссылаем к Тебе мольбу, чтобы ты ниспослал на нас ужасную бурю и размолол нас в порошок своим праведным громом, и пусть мы будем уничтожены, но лишь бы нам не страдать от причастности к тем делам, что творились у нас на глазах”.
Сын мой, я был поражен этими словами, и заплакал, и устыдился, слыша, как они взывают ко Всемогущему, и зная, что сам я в тысячу раз более виновен, чем они. О! Как я желал, чтобы ноги унесли меня в не столь ужасающее место. Клянусь, в то мгновение я счел бы жар адской печи приятной прохладой и, воспевая осанну, вложил бы в нее свою голову, лишь бы не быть там, где творились эти нечестивые дела. Но я был не в силах уйти. Мои взбунтовавшиеся члены несли меня к двери того самого дома. На пороге его пенилась кровь, словно мученики христовы пометили его, чтобы его отыскал Ангел Разрушения и заставил землю разверзнуть под ним свои бездонные недра. Изнутри до меня донеслись звуки праздной беседы – это люди, которых я знал, обсуждали свои богопротивные идеи.
Я опустился на колени прямо в кровь и воззвал к тем, кто был внутри, чтобы они вышли и вместе со мной взмолились ко Всемогущему о прощении, но они насмеялись надо мной, назвали меня трусом и дураком и сказали мне, чтобы я шел своей дорогой. Именно это я и сделал, покинув улицу в большой спешке, а камни провозгласили мне вслед, чтобы я отправлялся в свой крестовый поход, не опасаясь господней кары, ибо я повернулся спиной к тем грехам, в которых погряз этот дом.
Таков был мой сон. Я записываю его по горячим следам и пошлю это письмо срочной почтой, чтобы ты был предупрежден о том, какое зло таится в этом месте, и не поддался искушению ступить в Клеркенуэлл и даже просто к югу от Айлингтона, пока я буду в отлучке. Ибо сон научил меня, что эта улица со временем узнает всю тяжесть Божьей кары за те преступления, что на ней произошли, а я не хотел бы, чтобы хотя бы один волос упал с твоей возлюбленной головы в наказание за те дела, которые я в своем безумии совершил, поправ заветы нашего Господа. Хотя Всемогущий принес в жертву своего единственного Сына, страдавшего и умершего за наши грехи, я знаю, что от меня Он этого не потребует, ибо Ему известно, что я – смиреннейший из его слуг и молюсь только о том, чтобы Он сделал меня своим орудием и чтобы я мог исполнять Его волю до тех пор, пока не настанет мой черед покинуть эту юдоль и предстать пред Его Судом.
Да окружит тебя Господь своей заботой, пока я вновь не заключу тебя в объятия».
Корабль, на борт которого Роксборо взошел через несколько часов после окончания этого письма, затонул в миле от дуврской гавани, перевернутый волной, не потревожившей ни одно из плывших неподалеку судов. Меньше чем за минуту корабль скрылся под водой; ни одному человеку не удалось спастись.
Через день после получения письма адресат, с еще не просохшими от горестных известий глазами, отправился искать утешения в стойле отцовского гнедого Белламара. После отъезда хозяина конь стал вести себя довольно нервно и, хотя прекрасно знал сына Роксборо, лягнул копытом при его приближении и попал ему прямо в живот. Промучившись шесть дней с разорванным желудком и селезенкой, юноша умер и первым лег в семейную могилу, ибо тело его отца прибило к берегу лишь неделю спустя.
* * *
Пай-о-па рассказал Миляге эту историю, пока они путешествовали из Л'Имби к Колыбели Жерцемита в поисках Скопика. В те дни мистиф вообще не скупился на рассказы, разумеется, ни словом не намекая на то, что многие из них имели к Миляге самое непосредственное отношение. Он подавал их в качестве комических, абсурдных или грустных баек, которые обычно начинались со следующей фразы: «Слышал я, что как-то раз этот парень...»
Иногда истории занимали не больше нескольких минут, но эта оказалась куда длиннее. Слово в слово Пай повторил текст письма Роксборо, хотя и по сей день Миляга не мог себе представить, откуда мистиф мог его узнать. Однако он понял, почему Пай-о-па заучил это пророчество и с таким тщанием пересказал его. Очевидно, мистиф подозревал, что в сне Роксборо действительно заключен какой-то важный смысл, и решил рассказать эту историю, чтобы предупредить Маэстро об опасностях, которые, возможно, подстерегают его в будущем.
Теперь это будущее стало настоящим. Часы ползли один за другим, а Юдит все не возвращалась, и Миляге оставалось лишь разбирать по фразам письмо Роксборо в поисках намека на ту угрозу, которая подстерегала их у порога. Ему даже пришло в голову, что автор этого письма вполне мог оказаться среди привидений, которых с середины утра можно было различить в жарком мареве. Пришел ли Роксборо для того, чтобы посмотреть на крушение улицы, которую он назвал проклятой? Если это так – если он действительно подслушивал у двери, подобно тому, как он делал это во сне, – то, должно быть, он испытывал не меньшее разочарование, чем обитатели этого дома, ибо работа, которая, по его мнению, должна была привести к катастрофе, откладывалась.
Но сколько бы сомнений ни возникало у Миляги по поводу Юдит, он не мог поверить в то, что она вступит в заговор против Великого Замысла. Раз она сказала, что в Примирении таится опасность, то, стало быть, у нее были на то серьезные причины, и, хотя каждый мускул его тела протестовал против бездействия, он отказывался спуститься вниз и принести камни в Комнату Медитации из опасения, что одно их присутствие ввергнет его в искушение разогреть круг. Он ждал, ждал и ждал, а жара за окном все накалялась и накалялась. Воздух в комнате совсем скис от его разочарования. Как справедливо заметил Скопик, такие ритуалы надо готовить месяцами, а не часами, но даже эти немногие часы он был вынужден проводить в безделье. До которого часа он сможет откладывать церемонию, пока не придется отказаться от ожидания Юдит? До шести? До наступления ночи? Как это вообще определить?
Проявления тревоги были заметны не только в доме, но и за его пределами. Не проходило и минуты без того, чтобы новая сирена не присоединилась к завываниям, несущимся со всех концов города. Несколько раз за утро на окрестных колокольнях начинали бить в колокола – не к началу службы и не в честь праздника, а поднимая тревогу.
Иногда в раскаленном воздухе, который даже мертвых мог заставить вспотеть, раздавались отдаленные крики, исполненные страха и боли.
А потом в самом начале второго наверх к нему поднялся Клем, с широко раскрытыми от изумления глазами. Говорил на этот раз Тэйлор, и в голове его слышалось крайнее возбуждение.
– Кто-то пришел в дом, Миляга.
– Кто?
– Это какой-то дух из Доминионов. Она внизу.
– Она? Так это Юдит?
– Нет. Она обладает по-настоящему могущественной силой. Разве ты еще не учуял ее? Я знаю, что ты теперь не трахаешься с бабами, но ведь нос-то у тебя на месте?
Он повел Милягу на лестничную площадку. Дом был погружен в тишину. Миляга ничего не чувствовал.
– Где она?
На лице у Клема отразилось смятение.
– Секунду назад она была здесь, клянусь тебе.
Миляга двинулся к лестнице, но Клем попытался удержать его.
– Ангелы вперед, – проговорил он, но Миляга вырвался и стал спускаться вниз. Он был рад, что вялой апатии последних нескольких часов пришел конец. Ему не терпелось поскорее встретиться с посетительницей – ведь у нее могло быть послание от Юдит.
Парадная дверь была открыта. По крыльцу разлилась блестящая лужа пива, но Понедельника нигде не было видно.
– Где паренек? – спросил Миляга.
– На улице, смотрит на небо. Утверждает, что видел летающую тарелку.
Миляга бросил на своих спутников вопросительный взгляд. Ничего не ответив, Клем положил руку Миляге на плечо я посмотрел в направлении столовой. Из-за двери доносилось едва слышное рыдание.
– Мама, – воскликнул Миляга и, отбросив все предосторожности, ринулся вниз по лестнице, преследуемый Клемом.
Когда он оказался у двери в комнату Целестины, звуки ее рыданий уже прекратились. На всякий случай сделав глубокий вдох, Миляга взялся за ручку и толкнул плечом дверь. Она оказалась незапертой и отворилась бесшумно, пропустив его внутрь. Комната была погружена в сумрак. Тяжелые, заплесневелые занавески пропускали внутрь лишь несколько пыльных лучиков, падавших на пустой матрас в центре пола. Владелица этого ложа, которую Миляга уже и не чаял увидеть на ногах, стояла в другом конце комнаты; ее рыдания уступили место облегченным всхлипываниям. Она захватила с собой с постели простыню и, увидев, что вошел ее сын, подтянула ее к подбородку. Потом она вновь перенесла все свое внимание на ближайшую стену и стала пристально разглядывать ее. Миляга решил, что где-то за стеной лопнула труба, так как в комнате раздавался отчетливый звук журчащей воды.
– Все в порядке, мама, – сказал он. – Никто не причинит тебе вреда.
Целестина не ответила. Она поднесла к лицу свою левую ладонь и стала глядеться в нее, словно в зеркало.
– Она по-прежнему здесь, – сказал Клем.
– Где? – спросил у него Миляга.
Клем кивнул в направлении Целестины, и Миляга немедленно двинулся к ней, разводя руки в стороны, словно для того, чтобы предложить себя в качестве новой цели неведомому духу и отвлечь его внимание от матери.
– Иди сюда, – сказал он. – Где бы ты ни был, иди ко мне.
На полпути к Целестине он почувствовал, как на лицо его падают прохладные брызги, настолько мелкие, что их не было видно. Ощущение отнюдь не было неприятным – напротив, даже освежающим, и у него вырвался вздох удовольствия.
– Да здесь, оказывается, дождь идет, – сказал он.
– Это Богиня, – ответила Целестина.
Она оторвала взгляд от своей ладони, по которой, как теперь увидел Миляга, струилась вода, словно в ней открылся родник.
– Какая Богиня? – спросил у нее Миляга.
– Ума Умагаммаги, – ответила мать.
– Почему ты плакала, мама?
– Я думала, что умираю. Что Она пришла забрать меня с собой.
– Но ведь этого не случилось?
– Видишь, дитя мое, я по-прежнему здесь.
– Так что же ей нужно?
Целестина протянула Миляге руку.
– Она хочет, чтобы мы помирились. Подойди ко мне под эти воды, дитя мое.
Миляга взялся за руку матери, и она притянула его поближе, одновременно запрокинув лицо навстречу струям дождя. Последние следы слез смыты, и выражение экстаза появилось на ее лице. Ощущения ее передались и Миляге. Глазам его хотелось закрыться, тело наполнила блаженная истома, но он воспротивился вкрадчивым ласкам дождя, несмотря на всю их искусительность. Если он принес с собой послание, то Миляга должен узнать его немедленно и положить конец этим отсрочкам, пока они не помешали Примирению.
– Скажи мне... – проговорил он, встав рядом со своей матерью, – ...ты пришла, для того чтобы остаться здесь?
Но дождь ничего не отвечал – во всяком случае, Миляга ничего не услышал. Возможно, его мать разбиралась в языке дождя лучше, чем он, потому что лицо ее осветилось блаженной улыбкой, и она крепче взялась за руку Миляги. Простыня, которой она прикрывала свою наготу, упала на пол, и струи дождя потекли по ее груди и животу. Миляга бросил взгляд на ее тело. Раны, нанесенные ей Даудом и Сартори, все еще были заметны, но они лишь подчеркивали совершенство ее красоты. Хотя он знал, что не должен так смотреть на свою мать, удержаться он не мог.
Свободной рукой она смахнула воду, скопившуюся в мелких лужицах ее глазных впадин, и снова открыла глаза. Она застала Милягу врасплох, и когда взгляды их встретились, он испытал потрясение – не только потому, что она прочла желание в его глазах, но и потому, что то же самое желание он увидел в ее лице.
Он вырвал руку и попятился назад, бормоча невнятные протесты. Она же вовсе не была смущена. Не отводя взгляда от его лица, она позволила его вернуться под дождь, произнося слова так тихо, что они были больше похожи на вздохи. Он продолжал пятиться, и тогда она перешла к более внятным уговорам.
– Богиня хочет узнать тебя, – сказала она. – Ей нужно понять твои намерения.
– Это... поручение... моего Отца, – сказал Миляга.
Слова эти были не столько ответом, сколько защитой: они должны были оградить его от соблазнения грузом заключенной в них цели.
Но от Богини было не так-то легко отделаться. Миляга увидел, как тень страдания мелькнула по лицу матери, – это Богиня оставила ее и двинулась за ним в виде облака водяной пыли. Луч солнца пронзил ее, и комната осветилась радужными бликами.
– Не бойся ее, – услышал Миляга голос Клема у себя за спиной. – Тебе нечего скрывать.
Может быть, это и было правдой, но он все равно продолжал пятиться – и от Богини, и от своей собственной матери – и остановился только тогда, когда ощутил у себя за спиной благословенное присутствие своих ангелов.
– Охраняйте меня, – сказал он им дрожащим голосом.
Клем обхватил Милягу за плечи.
– Это женщина, Маэстро, – пробормотал он. – С каких это пор ты боишься женщин?
– С рождения, – ответил Миляга. – Держи меня крепче, ради Бога.
Потом дождь пролился на их лица, и Клем, охваченный его истомой, испустил вздох удовольствия. Миляга впился пальцами в руки своего защитника, но дождь, даже если у него и был способ оторвать его от Клема, похоже, совершенно к этому не стремился. Не более тридцати секунд он помедлил у них над головами, а потом скрылся через открытую дверь.
– Нечего скрывать, да? – сказал он. – Не думаю, что Она тебе поверила.
– С тобой что-то не в порядке?
– Нет, Она просто залезла мне в голову. Почему это, интересно, всякая тварь стремится забраться мне в мозги?
– Наверное, вид очень красивый, – заметил Тэй, усмехнувшись губами своего любовника.
– Она только хотела узнать, чисты ли твои помыслы, дитя мое, – сказала Целестина.
– Чисты? – переспросил Миляга, наградив мать яростным взглядом. – Какое у Нее вообще право меня судить?
– То, что ты назвал поручением своего Отца, на самом деле касается каждой населяющей Имаджику души.
Она еще не подобрала с пола свою скромность, и, когда она приблизилась, он отвел взгляд в сторону.
– Прикройся, мама, – сказал он. – Ради Бога, прикройся.
Потом он повернулся и направился в холл, крича вслед непрошенной гостье:
– Где бы ты ни спряталась, я вышвырну тебя из этого дома! Клем, посмотри внизу, а я пойду наверх.
Он взлетел вверх по лестнице. При мысли о том, что этот Дух мог вторгнуться в Комнату Медитации, ярость его вспыхнула с новой силой. Дверь комнаты была открыта. Отдохни Немного, съежившись, сидел в уголке.
– Где Она? – грозно спросил Миляга. – Она здесь?
– Кто она?
Миляга ничего не ответил и принялся, словно пленник, расхаживать от стены к стене, ударяя по ним ладонями. Однако за кирпичной кладкой не слышалось журчания воды, а в воздухе не чувствовалось и следа водяной пыли. Убедившись, что посетительнице не удалось осквернить комнату, он направился к двери.
– Если здесь пойдет дождь, – сказал он Отдохни Немного, – немедленно бей тревогу.
– Слушаюсь, Освободитель.
Миляга захлопнул дверь и приступил к обыску остальных комнат. Убедившись, что они пусты, он поднялся еще на один пролет и прошелся по комнатам третьего этажа. Воздух был сухим, как в пустыне. Однако, двинувшись вниз по лестнице, он услышал доносящийся с улицы смех. Это был Понедельник, хотя Миляге никогда не приходилось слышать из его уст такой легкий и нежный смех. Заподозрив неладное, он устремился вниз и, столкнувшись у подножия лестницы с Клемом, который сообщил ему, что все нижние комнаты пусты, ринулся через холл к парадной двери.
Когда Миляга в последний раз переступал порог, Понедельник был поглощен своими мелками. Весь тротуар вокруг крыльца был покрыт его рисунками. Но на этот раз это были не копии портретов журнальных красоток, а утонченные абстракции. Перелившись через бордюр, они заполняли часть размягченного солнцем асфальта. Однако теперь художник, оставив свою работу, стоял посреди улицы. Миляга мгновенно понял, что означала его поза: голова запрокинута назад, глаза закрыты...
– Понедельник!
Но паренек ничего не услышал. Он продолжал купаться в изливающемся на него потоке; вода струилась по его коротко остриженной голове, словно нежные пальцы. Он, возможно, так и стоял бы, пока не захлебнулся, но приближение Миляги прогнало Богиню прочь. В одно мгновение дождь исчез, и Понедельник открыл глаза. Он покосился на небо, и смех его осекся.
– Куда ушел дождь? – спросил он.
– Не было никакого дождя.
– А это ты как назовешь, Босс? – спросил Понедельник, протягивая ему руки, с которых стекали последние струйки воды.
– Поверь мне, это был не дождь.
– Как ни назови, мне это нравилось, – сказал Понедельник. Стащив с себя влажную футболку, он вытер ею лицо. – Все в порядке, Босс?
Миляга оглядывал улицу в поисках какого-нибудь знака присутствия Богини.
– Все будет хорошо, – сказал он. – А ты снова берись за работу, ладно? Ты еще не разрисовал дверь.
– Что мне на ней нарисовать?
– Ты художник, тебе и решать, – рассеянно ответил Миляга, внимание которого привлек вид улицы. Только сейчас он заметил, сколько духов скопилось вокруг. Они уже не только стояли на тротуарах, но и парили среди поникшей листвы, словно повешенные, или бродили по карнизам. Он подумал, что они, должно быть, настроены вполне дружественно, ибо у них есть серьезная причина желать успеха его предприятию. Полгода назад, в ту самую ночь, когда они с Паем отправились в путешествие, мистиф рассказал Миляге о той боли, от которой страдают духи всех пяти Доминионов.
«Все духи несчастны, – говорил Пай. – Они толпятся у дверей в ожидании освобождения, но идти им некуда».
Но не зашла ли тогда речь и о надежде на то, что в конце предстоящего им путешествия скорбь мертвецов будет исцелена? Еще тогда Пай знал о том, что это за исцеление; как ему, должно быть, хотелось назвать Милягу Примирителем и сказать ему, что где-то в голове у него скрывается ум, способный распахнуть двери, у которых томятся мертвые души, и впустить их на Небеса.
– Потерпите, – прошептал он, зная, что призраки слышат его. – Скоро это случится, клянусь. Очень скоро.
Дождь Богини высыхал у него на лице под лучами солнца, и он решил прогуляться, пока не испарится последняя капля. Понедельник тем временем принялся свистеть на крыльце у него за спиной.
Господи, что же это стало за место, подумал Миляга. В доме его поселились ангелы, на улицах идут сладострастные дожди, на деревьях висят привидения. А он, Маэстро, бродит среди всего этого, готовясь свершить нечто такое, что изменит мир навсегда. Никогда уже не будет такого дня.
Однако, когда он дошел до середины улицы, радостное настроение оставило его. За исключением звука его собственных шагов и пронзительного свиста Понедельника, мир был погружен в абсолютную тишину. Тревожные сирены, гам которых еще недавно разносился во всему городу, смолкли. Ни один колокол не звонил, ни один человек не кричал. Создавалось впечатление, что вся жизнь за пределами этой улицы приняла обет молчания. Он ускорил шаг. То ли его возбуждение оказалось заразительным, то ли собравшиеся в конце улицы привидения отличались более нервным характером, но так или иначе они беспрерывно кружили по мостовой, причем число их, а возможно, и их тревога были настолько велики, что движение их поднимало клубы сухой пыли из водосточного желоба. Не предпринимая никаких попыток помешать ему, они расступились перед ним, словно полы холодного занавеса, и он шагнул за невидимую границу Гамут-стрит. Он посмотрел налево и направо. Собаки, собиравшиеся на углах, разбежались; ни на карнизах, ни на телефонных проводах не было видно ни одной птицы. Он задержал дыхание и попытался различить сквозь гул у себя в голове хоть какой-нибудь признак жизни – шум мотора, сирену, крик. Но ничего не было слышно. Тревога его усилилась, и он оглянулся на Гамут-стрит. Ему не хотелось покидать ее пределы, но пока призраки охраняют ее границы, вряд ли ей что-нибудь может угрожать. Конечно, они не обладают плотью, чтобы защитить Гамут-стрит от возможного нападения, но едва ли найдется человек, который решится завернуть сюда, увидев, как они кружат и мечутся на углу. С этой мыслью, не слишком, впрочем, обнадеживающей, он пошел по направлению к Грейз Инн-роуд. Вскоре он перешел на бег. Жара уже не была такой желанной, как раньше. Ноги его налились свинцом, а легкие горели, но он не снижал темпа, пока не оказался на перекрестке. Грейз Инн-роуд и Хай Холборн были одними из основных магистралей города. Окажись он здесь даже в самую холодную декабрьскую полночь, и то ему попалось бы несколько машин, но сейчас не было видно ни одной. Все окрестные улицы, площади и переулки также были погружены в полную тишину; ниоткуда не доносилось ни звука. Те чары, которые охраняли Гамут-стрит от непрошенных гостей в течение двухсот лет, теперь, судя по всему, распространились и за ее пределы, и жители Лондона (если, конечно, вообще кто-нибудь еще остался в городе) сочли за благо держаться подальше от сферы их действия.
И все же, несмотря на тишину, в воздухе витало нечто такое, что не позволяло Миляге повернуться и отправиться назад на Гамут-стрит. Это был запах, настолько слабый, что вонь кипящего асфальта забивала его почти полностью, и в то же время такой узнаваемый, что он не мог позволить себе проигнорировать даже те призрачные волны, которые докатывались до него в раскаленном воздухе. У этого тошнотворного аромата мог быть только один источник, а в этом городе – или, вернее, в этом Доминионе – был только один человек, имевший к нему доступ. Ин Ово вновь было открыто, и на этот раз вызванные из него твари были далеко не теми бессмысленными сгустками, которые он видел в Башне. Это были существа совсем иного порядка. Он видел подобных тварей и ощущал их запах лишь один раз в жизни, двести лет назад, и в тот раз причиненный ими вред был ужасен. Ветерок был очень вялым, так что запах не мог доноситься с Хайгейта. Сартори и его легионы были значительно ближе. Может быть, в десяти улицах отсюда, может быть, в двух, а может быть, стоит лишь завернуть за угол Грейз Инн-роуд – и столкнешься с ними нос к носу.
Дальше откладывать нельзя. Какая бы опасность ни открылась Юдит – если это вообще не плод ее воображения, – она пока имеет чисто умозрительный характер. Что же касается этого запаха и тех существ, что его источают, то о них этого никак нельзя сказать. Надо начинать приготовления немедленно. Он оставил свой наблюдательный пост и побежал обратно к дому, словно орды Овиатов уже гнались за ним по пятам. Привидения бросились врассыпную, когда он завернул за угол и понесся по улице. Понедельник разрисовывал дверь, но когда он услышал зов Маэстро, мелки выпали у него из рук.
– Пора, парень! – закричал Миляга, взлетев на крыльцо одним прыжком. – Тащи камни наверх.
– Начинаем?
– Начинаем.
Понедельник просиял, издал радостный возглас и кинулся в дом, а Миляга на мгновение задержался, чтобы восхититься украшающей дверь картиной. Это был всего лишь набросок, но к большему Понедельник и не стремился. Он нарисовал огромный глаз, из которого во всех направлениях исходили лучи света. Миляга шагнул в дом, весьма довольный тем, что этот огненный взгляд будет встречать каждого, кто придет к ним на порог, – будь он врагом или другом. Потом он закрыл дверь и задвинул засов. Когда я в следующий раз выйду из дома, подумал он, поручение моего Отца будет выполнено.








