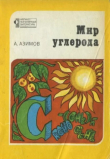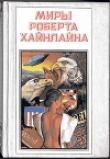Текст книги "Как стать фантастом"
Автор книги: Кир Булычев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Я так и не вступил в партию и не сбрил бороду. Я не вступил и в Союз писателей, потому что полагал неприличным состоять в организации, идеалов которой, в частности, метода социалистического реализма и партийной литературы, не принимал. И мне всегда казались странными трагедии, которые завязывались вокруг изгнания из Союза того или иного прогрессивного писателя. А чего ты лез в эту клоаку? – хотелось спросить. Но не был знаком и потому не спросил.
Впрочем, я отвечаю только за себя. Тем более что сейчас эта проблема потеряла актуальность, и уже не приходится видеть удивление на "личности" собеседника, когда говоришь ему, что в Союзе не состоял. Потому что ленив, потому что не выношу собраний...
Я приехал в Москву, подлым образом никому ничего не сказав, чтобы не испортить себе отпуск, восстановился в аспирантуре, и лишь когда надо было возвращаться, сообщил в АПН, что выезжать за рубеж не хочу.
Это было удивительно! За многие годы существования АПН я оказался первым сотрудником, который изменил Родине наоборот.
То есть отказался бороться на переднем крае идеологического фронта и предпочел жизнь в аспирантском тылу. Знаете, какое официальное звание я получил? "Дезертир с идеологического фронта"!
А ведь если бы я стал проситься за рубеж, черта с два меня бы отпустили!
Но когда я отказался, возмущению не было предела. Заместитель председателя АПН, с которым ранее я был в хороших отношениях некоторый стал потом прогрессивным, демократически настроенным телевизионным обозревателем, начинал со мной очередную беседу со слов: "Слышал я, что у тебя плохие квартирные условия", а кончал так: "Ты ведь действительную в армии не служил! Я вот собираюсь позвонить министру обороны – как насчет того, чтобы, протрубить 3 года в солдатах?" А я, к сожалению, не знал, что в его словах правда, а что – пустая угроза. И дрожал. Но долго ли, коротко ли – плюнули на меня, и я возвратился в институт. Так я сделал еще шаг к фантастике.
Причем не только внутри, в сердце – именно во "второй Бирме" я начал писать фантастические опусы. Повесть "Русалка за 100 000" – фантастическую феерию о Бирме, "Краткую историю человечества" в фантастических миниатюрах.
Вернувшись из Бирмы в 1963 году, я продолжал писать для себя и друзей. Не очень активно, но писал. И всегда фантастику.
Не мог я писать реалистическую прозу. Не получалось.
Так что история об "Искателе", обложке и динозаврах – синтетический образ. Правда и домыслы в нем смешаны, хотя больше правды.
Дальнейший путь в фантастику лежал через Болгарию.
А путь в Болгарию лежал через город Хатангу, что по ту сторону Таймыра.
Придется объяснить подробнее.
В 1967 году я отправился в командировку от журнала "Вокруг света" по Северному морскому пути. Я рассчитывал добраться от Мурманска до Тикси, где должен был встретиться с магаданским писателем Олегом Куваевым, страшно талантливым прозаиком, автором широко известных в шестидесятые годы повестей "Берег принцессы Люськи" и "Территория". Он был геологом и рано умер, как часто умирают в Заполярье бродяги и романтики. Тогда мы с Олегом собирались устроить экспедицию на Северную землю, потому что он нашел сведения о последнем лагере экспедиции Русанова.
Я добирался до Тикси морем, а он сушей. Там мы и должны были узнать и разведать, как нам двинуться в путь на следующее лето. Забегая вперед, скажу, что экспедиция не состоялась – ЦК комсомола не дал обещанных денег.
На сухогрузе "Сегежа" меня устроили в пустующей каюте первого помощника. Была такая должность специально для загранрейсов чекист-политрук. А так как "Сегежа" шла Северным морским путем, как бы во внутренних водах, то каюта чекиста пустовала. Я делил каюту с художником, не помню уж, какого журнала, но тоже командированным. На "Сегеже" я подружился с доктором Павлышом, капитаном Загребиным и другими членами команды. Все было бы хорошо, но в Карском море мы попали в неожиданные тогда льды и сломали винт. Кое-как "Сегежа" доплелась до Диксона и там застряла надолго, потому что пришлось менять лопасти. Так что в Тикси Олега уже не было, а меня поджимала следующая командировка – в Швецию, в городок Роннебю, где проходила Пагуошская конференция и я должен был работать синхронным переводчиком.
В результате мне пришлось покинуть "Сегежу" в Хатанге. И я стал ждать самолета, чтобы промчаться над нашей страной и унестись в Швецию. В моем распоряжении оставалось всего четыре дня. Погоды не было, самолетов не было, но за четыре дня журналист обычно знакомится со всеми в пятитысячном городке, и поэтому меня в конце концов пристроили на военный борт, который летел зачем-то в Архангельск, откуда я попал в Москву и далее.
Та осень была для меня насыщенной. Осенью меня ждала еще одна поездка в Болгарию, по приглашению нашей подруги Бригитты Темпест (Иосифовой).
В промежутке между Швецией и Болгарией я придумал для себя космический корабль, который должен быть обыкновенным, как "Сегежа", и люди там должны быть обыкновенными, как на "Сегеже". Я подумал, что назову этот корабль именем земного прототипа, а главным героем сделаю Славу Павлыша.
Конечно, он не будет так уж похож на моего друга, но все-таки он окажется в чем-то близок Славе.
Это было глупое решение: с тех пор я не использовал существующих людей в качестве героев произведений, за одним исключением – профессор Минц в Гусляре. Этого делать нельзя.
Правда может служить если не оправданием, так объяснением – мое особо нежное отношение к "Сегеже" и тому путешествию, что мы совершили.
В Болгарии деньги у нас быстро кончились, но я был уже настолько наглым, чтобы, когда Бригитта привела меня в журнал "Космос", представиться писателем из Москвы. Хотя и напечатано-то у меня было всего два рассказа и несколько детских сказок.
Редактор "Космоса" Славко Славчев открыл ящик письменного стола и достал бутылку "Плиски". Для меня это было неожиданностью, так как мы пили по секрету и никогда в этом не признавались, тем более иностранцам.
Редактор Славчев поговорил со мной о жизни и фантастике и спросил, не могу ли осчастливить журнал своим новым рассказом.
Я подумал и ответил: "Могу".
Мы отправились в горный курорт Боровец, сняли там за чисто условную плату комнату в доме творчества писателей (болгарские коллеги все еще держали меня за своего). Во всю стену было окно. Оно выходило на склон горы. По обе стороны стояли могучие ели, а посредине зеленел альпийский луг, где время от времени бродили швейцарские на вид овечки. Внизу был каминный зал, в котором, как все болгарские писатели отлично помнили, произошло страшное событие.
Было это в пятьдесят шестом году. Два сценариста приехали в Боровец и никак не могли бросить пить и начать созидать.
Однажды младший из сценаристов (фамилию не называю сознательно, потому что не знаю, что за власть в Болгарии сегодня и какой она станет завтра) услышал, что из комнаты старшего сценариста доносится стук пишущей машинки. Целый час он терпел и кипел негодованием. Наконец не выдержал, ворвался в комнату к другу с криком: "Что ты там пишешь?" Друг вытащил из машинки лист бумаги, на котором буквой "ж" очень похоже был напечатан портрет младшего сценариста.
Только они собирались посмеяться, как вбежал кто-то из соседей: – В Венгрии революция!
В последующие дни вся Болгария сидела у радиоприемников, ловя вести из Будапешта. Болгария была расколота на тех, кто сочувствовал венграм, и сторонников российской жесткой линии.
Вечером одного из следующих дней все обитатели дома творчества сидели после ужина в каминной гостиной и обсуждали венгерские события. Был там и председатель Союза писателей, большой человек в государстве.
И вдруг передача оборвалась, и после короткой паузы донесся голос диктора: – Дорогие сограждане! Власть извергов-большевиков в Софии сброшена! Временный революционный комитет просит немедленно арестовать всех активных членов партии и их пособников. Смерть коммунизму! Да здравствует свобода!
Все застыли в полном оцепенении.
Тут дверь в каминную распахнулась, и на пороге появились два мрачных молодых человека в горских кожухах и с автоматами в руках. "Коммунисты, встать! – закричал один из них. – Лицом к стене." И все писатели, включая самых преданных партийцев, вместо того чтобы встать, обернулись к председателю Союза писателей за помощью и поддержкой.
Но тот повел себя самым странным образом.
Он вскочил и принялся нервно кричать, что пошел в партию из хитрости, чтобы развалить ее изнутри, что всегда ненавидел коммунистов и готов немедленно вступить в революционный отряд, дабы истребить коммунистическую заразу в Болгарии.
Тут молодые люди некстати засмеялись, потому что были наняты специально на эту роль друзьями-сценаристами, которые им даже муляжи автоматов достали в киногруппе, что по соседству снимала историко-революционный фильм о 9 сентября.
Однако, устраивая набег революционеров, они не ожидали, что председатель Союза писателей поведет себя так бурно.
В результате пастухов, сыгравших эти роли, арестовали и посадили за хулиганство и воровство оружия, сценаристов выгнали из Союза писателей и запретили им работать в кино, но с председателем Союза писателей ничего не случилось, потому что все понимали – честный партиец стал жертвой гнусной провокации врагов мира и социализма. Пикантность ситуации заключалась в том, что младший сценарист был Героем Болгарии, каковое звание получил за то, что отважным мальчиком сражался в партизанах против фашистов, а председатель Союза такой славной биографии не имел.
Вот в том Боровце я сидел и писал карандашом свой первый "гуслярский" рассказ. Да, Великий Гусляр родился именно в Боровце. Оттуда в рассказ "Связи личного характера" перекочевала дорога в лесу как место действия. Именно там я увидел ремонтников, и мне показалось, что у рабочего, изображенного на круглом дорожном знаке, не две ноги, а три. А если дорогу чинят инопланетяне?
Написанный карандашом рассказ я отвез в "Космос". Славчев взял его и напечатал, а так как у меня не было оригинала, я этот рассказ перевел потом с болгарского. Так что мой первый гуслярский рассказ рожден вне нашей Родины.
История об автоматчиках, которую мне тогда рассказали, как и другие истории из жизни тех сценаристов, сидела во мне и свербила. И тут грянуло 7 ноября – 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции! Мы пошли на демонстрацию трудящихся и парад боевых сил.
Меня потрясла картина – шествие открывала большая толпа людей, одетых в бушлаты, шинели или армяки. Эти люди несли красные знамена и волокли за собой пулеметы, за которые время От времени ложились. Эти люди штурмовали Зимний дворец.
Правда, самого дворца не было – остальное отдавалось на волю воображения.
И вдруг во мне все сложилось, вспыхнула молния, и я понял, что хочу написать!
Я вернулся в Москву и через несколько месяцев, когда все утряслось, написал повесть "Осечка-67". В ней я представил, что в Питере решено провести юбилейно-показательный штурм Зимнего дворца и показать революцию для радио, телевидения, иностранных гостей и всех трудящихся.
Штурмовать Зимний дворец должны были дружинники, милиционеры и передовики производства. А кто будет защищать?
Решено собрать женский батальон из экскурсоводов и младших научных сотрудниц Эрмитажа, а юнкеров – из младших научных сотрудников мужского пола.
Когда об этом становится известно, сотрудники собирают комсомольское собрание и на нем, как честные советские граждане, постановляют: "Ввиду того, что в штурме дворца примут участие пьяные элементы и даже хулиганы, бесценным коллекциям, народному достоянию грозит страшная участь!" И тогда делегация из Эрмитажа мчится в обком, но обком, конечно же, клеймит комсомольцев за пораженческие настроения и даже клевету на советских трудящихся.
А комсомольцам ничего не остается, как, вернувшись в музей, сообщить о позиции ленинградских бонз своим товарищам и постановить: "Зимний дворец не отдавать! Сокровища сохранить!" А дальше начинается наш обычный бардак.
Крейсер "Аврора" садится на мель, и вместо Зимнего снаряд орудия попадает в Смольный.
Ленина (актера, загримированного под вождя) арестовывают на улице дружинники, изображающие пост Красной гвардии, приняв вождя за шпиона Временного правительства.
Комсомольцы отбивают несколько штурмов, и в конце концов актер, играющий Керенского, берет вдасть в стране, а Политбюро во главе с Брежневым после тщетной попытки забросать Ленинград атомными бомбами, уходит в отставку.
Повесть я написал и с ней перешел в стан авторов социальной фантастики.
Правда, никто, кроме близких друзей, об этом не подозревал.
Да и боялся я ее показывать кому-нибудь.
Отношение к социальной фантастике становилось все хуже.
В семидесятые годы в "Молодой гвардии" разогнали замечательную редакцию Жемайтиса, где фантастика и выходила. На место Жемайтиса, Клюевой, Михайловой пришли бездарные устрашители и уничтожители, для которых имя Стругацких было бранным словом. Они старались подмять под себя всю фантастику в стране, чтобы никто, кроме "своих", печататься не смел. Помню, как в момент очередного перехода власти Светлана Михайлова, бывший редактор "Молодой гвардии", ушедшая после разгона редакции в ВААП, предложила мне отправиться вместе с ней к новому шефу, чтобы узнать, чего он хочет. Разговор был доброжелательным, тихим, и ободренная приемом Светлана спросила заведующего: как он относится к социальной фантастике? И тогда шеф посмотрел на Светлану строгим комсомольским взором и ответил с легкой улыбкой:
– Я делю социальную фантастику на две части. Первую я отправляю в корзину, вторую в КГБ.
После этого мы откланялись, а вскоре я получил замечательную рецензию на мои повести, которые тогда лежали в издательстве. В рецензии на "Чужую память", в частности, говорилось: "Мы знаем, на что намекает автор, когда пишет, что над Красной площадью ползли темные тучи". На "Белые крылья Золушки" рецензию написал сам Александр Казанцев, который объяснил, что моей тайной целью является дискредитация советских космонавтов.
Я не мог и не хотел спорить и сопротивляться – в то время я стал "детгизовским" автором и много работал в кино. Настаивать же на том, чтобы меня печатали в "Молодой гвардии", я не мог – за моей спиной не было Союза писателей – к коммунистической партии.
Что же касается "Осечки", то ее судьба удивительна.
За прошедшие с тех пор годы я написал "в стол" много повестей и рассказов. По натуре своей я не боец. Раз уж я жил в нашей стране, то ходил на работу в институт и был уверен, что помру при недостроенном социализме. Как и любой фантаст – я не пророк.
"Осечка" пропала. Кому-то дал почитать, кто-то не вернул, а последний экземпляр пришлось уничтожить, потому что ночью должен был состояться обыск по "Делу нумизматов", но я больше боялся, что у меня найдут "плохие" рукописи и журнал "Континент".
Прошло много лет, я даже забыл об этой повести, и вдруг мне лет шесть-семь назад сообщили из Питера, что моя повесть, оказывается, лежала в бумагах моего друга, рано умершего питерского режиссера Ильи Авербаха, создателя таких замечательных фильмов, как "Чужие письма" и "Монолог". Оттуда она попала в питерский журнал, который ее напечатал, а на Петербyргском телевидении, раз уж разыгралась перестройка, решили сделать фильм.
Фильм был завершен осенью 1993 года. Режиссер рассказывал мне, что актеры подыскивались с трудом. И не только потому, что денег не было, но и оттого, что актеры боялись сниматься в ленте, ибо "когда коммунисты вернутся к власти, им не поздоровится".
Фильм "Осечка" показали по питерскому телевидению в ночь с 3 на 4 октября 1993 года. Повторили 7 ноября. С тех пор показывали каждый год в Октябрьские праздники. Что мне приятно сознавать.
Должен признаться, что диалектически в любом положении, даже невыгодном, есть свои выгоды.
Я, например, извлек в жизни немало приятного из своего неучастия в Союзе писателей.
Как-то в середине 70-х годов меня позвал к себе заместитель председателя ВААП (Агентство по авторским правам, отбиравшее деньги, которые писатели получали за публикации за рубежом) Щетинин и сказал: – Как вы смотрите на то, чтобы поехать с Клюевой в Штаты?
Я захлопал глазами – мне такое явно не по чину!
– Поймите меня правильно, – доверительно сказал начальник. – Нам нужен человек, чтобы разговаривал с американцами и участвовал в рекламной кампании в Штатах. Если мы обратимся в Союз писателей и попросим отпустить Аркадия Стругацкого, то руководители Союза сделают финт ушами, и в результате мы получим одного из секретарей. Без языка, без знания дела, зато жадного и пузатого.
Может, Щетинин, человек осторожный, говорил не совсем так, но смысл я передаю точно.
И я поехал в Штаты, причем ездил дважды по секрету от писателей. И честно трудился переводчиком, агентом по рекламе и добровольным помощником ВААП. Таким образом, государство вернуло мне часть денег, которые отобрало.
Пока для меня не закрылась заграница из-за участия в "Деле нумизматов", я побывал еще в нескольких странах – не только от ВААП, но и потому, что в Польше моих книг издавалось немало и у меня там был близкий друг переводчик Тадеуш Госк.
Мы и ездили с ним друг к другу.
В Кракове я был наконец обласкан судьбой.
Мы с Тадеушем пошли в букинистический магазин, где торговали американскими книжками – страшно дефицитным в СССР товаром.
– К сожалению, иностранных книг сегодня нет, – сообщил хозяин, – потому что пан Станислав Лем, который их нам сдает, давно не заходил.
И тогда Тадеуш, чтобы показать, что и мы не лаптем щи хлебаем, сообщил хозяину, показывая на меня:
– А вот это тоже писатель. Советский писатель-фантаст.
И тут глаза хозяина магазина засверкали, лицо озарила добрая улыбка, какая озаряет лицо нигерийского докера при виде фотографии Ильича, и он, протягивая мне обе руки, воскликнул:
– Добро пожаловать, пан Стругацкий!
В моих путешествиях в Америку мне удалось встретиться и с американскими писателями. Сейчас этим никого не удивишь – они сами к нам шастают и еще денег просят. А тогда, в семидесятые годы, имена писателей были известны только из публикаций издательства "Мир", и когда я попал на конференцию в Нью-Йорке, то приседал от почтения, как провинциальный трагик в Александрийском театре.
Со мной за руку поздоровался Азимов, со мной беседовал Харлан Эллисон, я слышал Саймака, спорил (так обнаглел) с Фредериком Полом, выступал на радио вместе с Лестером дель Реем, приятельствовал с Джеймсом Ганном, но главное – целые сутки пил с Гордоном Диксоном и Беном Бовой, не говоря уж о его славной красавице жене – Барбаре Бенсон.
Потом все эти связи порвались – не умею я их поддерживать. Остались Бен Бова и Джеймс Ганн. Да двадцать книжек Горди Диксона, которые тот притащил мне на прощание.
Я не думал, что попаду в кино.
Случилось это в 1976 году. Одновременно мне позвонили два режиссера. Роман Качанов с "Мультфильма" предложил поставить полнометражную ленту по повести "Путешествие Алисы". А Ричард Викторов после успеха его двухсерийного фильма об отроках во Вселенной решил вернуться к фантастике.
С Ричардом Викторовым мы встретились так. Он позвонил мне и позвал на премьеру его фильма. Помню, что премьера проходила в Доме литераторов, где я никогда раньше не был, меня схватили на входе вахтерши и долго не пускали, а Ричард, появившийся наконец, чтобы меня спасти, был потрясен тем, что существуют писатели, которые не бывали в таком месте.
Я тоже был удивлен видом Ричарда, так как представлял себе режиссеров совершенно иначе и даже имел опыт актерской работы в кино, что случилось незадолго до описываемой встречи с Викторовым.
Мои друзья – Слава Шалевич сотоварищи, молодые и весьма небогатые актеры, жили в одной громадной коммуналке в стареньком доме, прилепившемся к их театру Вахтангова. И когда ребят позвали играть в фильме "Хоккеисты", они взяли меня с собой. У меня только что отросла бородка, так что за отсутствием актерских данных режиссер заставил меня изображать скульптора (конечно же, с сомнительной бородой) и держал в кадре на фоне портрета Хемингуэя, полагая, что это смешно. За это я сорвал ему съемки, используя приобретенный недавно в Бирме опыт хироманта. Свободный от съемок, я сидел в сторонке, гадал актерам и членам группы по руке, что им было куда интереснее, чем работа. В конце концов, мне пришлось покинуть площадку, и актера из меня не вышло.
Так вот, на той картине был настоящий режиссер: он бегал, кричал, командовал и вел себя адекватно.
Ричард сильно хромал, у него было массивное тело, лицо доброе, но всегда серьезное и задумчивое; внешне он был сдержан, а внутри кипел от страстей, увлечений, мыслей и идей.
Жизнь обошлась с Викторовым сурово, но это никак не испортило ему характер.
Мальчиком он заболел костным туберкулезом, и летом сорок первого года его отправили в Крым лечиться в санаторий.
А вывезти не смогли.
Когда пришли немцы, Ричард отступал вместе с нашими войсками. В Керчи он лежал у пулемета – там уже не приходилось разбираться, кто взрослый, а кто ребенок. На одном из послед,них катеров его, тяжело раненного в ногу, вывезли в Новороссийск. Затем – в район Теберды, в больницу. Туда вскоре тоже прорвались немцы, и детей уводили по горным тропам.
Все эти месяцы мать искала его, не веря, что мальчик погиб.
Она разыскала сына в Баку.
К тому времени, когда Ричард пригласил меня в Дом литераторов, он уже прославился двумя фантастическими фильмами для детей – "Москва – Кассиопея" и "Отроки во Вселенной". В те годы (впрочем, и в последующие) они были лучшими фильмами подобного рода в нашей стране.
Мы подружились – с таким хорошим человеком нельзя было не подружиться. И сценарий двух фильмов написали хоть и не быстро, но без конфликтов.
Работа с Викторовым для меня связана с Ялтой. С разными временами года, с Чайной горкой – общежитием Ялтинской студии, гостиницами, от шикарной по тем временам "Ялты" до общежитий в блочных пятиэтажках на крутых склонах ялтинских окраин.
Самой запоминающейся поездкой была первая, когда мы писали киносценарий "Через тернии к звездам". Писали вчетвером: я, Викторов, художник Загорский и оператор Антипенко. Все чудесные люди, но мне с ними было тяжело.
И вот почему.
Они жили наверху, на Чайной горе, где находился студийный дом, вернее, общежитие. Я же остался внизу, на набережной, в моей родной "Ореанде".
Беда заключалась в том, что Викторов в те недели питался только овощами. Очищал организм от мясной скверны. Костя Загорский проходил "сыроядский" этап в своей биографии, то есть ел только сырые овощи. Но всех перещеголял Антипенко, который голодал "по Брегту".
К девяти я поднимался на крутую гору, цвела глициния, пахло морем, утром было прохладно, и подъем не казался трудным.
Мы садились работать.
На столе стоял поднос с морковкой, салатом и редиской. Работали мы до трех, и желающие грызли морковку. К трем часам, когда кончали это занятие, я доходил до точки.
Попрощавшись, Загорский с Ричардом шли соображать себе скромную растительную пищу, а Антипенко брал большую бутыль, чтобы купить на набережной в аптеке дистиллированной воды – единственное, что ему разрешил употреблять Брегг. Мы спускались до набережной минут десять – пятнадцать, и весь этот путь Саша рассказывал мне о работе своих внутренних органов голодающих эти проблемы живо волнуют.
Пока мы брели вниз, я узнавал последние сводки с поля боя: и цвет испражнений, и оттенки мочи, и состояние ишаков – все волновало этот мощный ум!
На набережной мы прощались с Антипенко, он уходил к аптеке, а я мчался в ресторан, где в пустом зале меня уже ждал бифштекс и сто граммов водки.
И я приходил в себя. Все это чуть не кончилось трагически.
Когда через месяц голодания Саша стал выходить из него, то он что-то не так сделал и угодил в реанимацию. К счастью, откачали...
Киногруппа почти всегда похожа на своего режиссера, как собака на старого хозяина. Викторовская группа была солидной, семейной, в ней не ломались тонвагены, не пропадали в запой осветители, а актеры не дрались в ресторанах. Вечером Ричард садился к телефону и подробно выяснял со своими детьми Аней и Колей, оставшимися в Москве, что сегодня было в школе, что задали и что предстоит завтра. Я сочувствовал его ребятам, но семейство, включая маму Ричарда, которая жила в том же доме и на том же этаже, было настолько дружным, что слезы, если и бывали, оставались невидимыми миру. А если случалось, что мы, примкнувшие к группе, загуливали и возвращались в гостиницу в час ночи, то всегда рисковали увидеть Ричарда на балконе. Молчаливого, глядящего на звезды и ни в чем нас не упрекающего.
Мы переходили на бег трусцой и охваченные стыдом и ужасом разбегались по комнатам.
Через несколько лет мы возвратились в Ялту, чтобы дописывать сценарий и снимать новый фантастический фильм "Комета". Несчастливый, неладный, убивший Ричарда и оставшийся практически неизвестным. Хотя по тем временам мы с Ричардом старались сказать в нем куда больше, чем было положено, и если бы не болезнь Ричарда, наверное, фильм стал бы событием. Недаром Госкино сразу же потребовало фильм целиком переделать.
Никто не знает, что "Комета" оказалась чемпионом страны по числу режиссеров, которые в нем сыграли. В Крыму летом немало групп или вольных кинодеятелей. Ричард загорелся идеей всех их задействовать в нашем фильме. Так что там играли В. Басов, Ю. Чулюкин, П. Арсенов и так далее.
"Комета" интересна мне и сегодня как попытка осмыслить сюжет-катастрофу, не новый в фантастике, но на нашем российском материале; увидеть, к какому идиотизму приведет эта ситуация в одном отдельно взятом Советском Союзе. Задано: к Земле летит комета (а задумали мы фильм, когда к Земле летела комета Галлея). Все ученые, комментаторы и знающие люди уговаривают наш народ, что комета ничем страшным не грозит.
А на берегу Крыма, в курортном городке всех охватывает паника. Доведенная нами до бескрайнего идиотизма. Оказывается, никакая комета не сравнится по опасности с нами самими...
Мы сделали "Комету", и в последний день съемок Ричарда поразил инсульт. Викторов прожил еще полгода, но так и не пришел в себя.
А на материал фильма накинулось Госкино. Дело в том, что режиссеры не любят показывать чужим людям, а тем более начальству сырой, несмонтированный, неозвученный материал, потому что чужие люди, а тем более начальство, воспринимают "полработы" как окончательный продукт. Без Ричарда с его пробивной силой фильм оказался осиротевшим. Госкино накидало полную корзину убийственных замечаний, утверждая, что советским людям несвойственно паниковать и питаться слухами, и требуя снять реплику попавшего в кораблекрушение узбека: "Даже чаю нет!" – как намек на нехватку некоторых товаров в торговой сети.
С намеками всегда плохо. Они называются научным словом: "аллюзия". Под аллюзию можно подвести что угодно.
Я позволю себе отвлечься и вспомнить о драме, имевшей место в журнале "Химия и жизнь" именно из-за очередной аллюзии.
Шла статья о биодобавках в корм скоту. Над заголовком был нарисован грузовик, едущий на читателя, в кабине сидели счастливые свинья и корова, а сам грузовик был с верхом гружен мешками с этими самыми добавками.
Когда журнал уже был в производстве, кто-то вспомнил, что надвигается очередной съезд нашей любимой партии. И тогда по требованию редактора над заголовками всех материалов номера появилась надпись: "Навстречу двадцать какому-то съезду КПСС!" Все было хорошо, но чин в ЦК, который курировал популярные журналы и пролистывал их перед выпуском, посмотрел на картинку, где ехали свинья и корова, а над ними было написано: "Навстречу...", перепугался, побежал к заведующему сектором, тот бросился к заведующему отделом. Не знаю, рассматривали ли вопрос на Политбюро, но этот казус послужил одной из причин изгнания из журнала милейшего и умнейшего заместителя главного редактора Черненко (главный – академик Петрянов-Соколов – был существом олимпийским и появлялся в редакции в торжественные дни). Решение ЦК гласило: тираж отправить под нож! То есть все 400 тысяч экземпляров!
История зловеще повторялась – вспомните эпизод с "Искателем".
И тогда редакция, чтобы спасти журнал, обратилась ко всем авторам и друзьям журнала отправиться в город Чехов и там принять участие в операции: вырезать из номера злополучную страницу и вклеить на ее место другую, без свиньи и коровы.
Несколько дней, сменяя друг друга, мы работали в Чехове.
Ударным трудом мы спасли журнал от участи худшей, чем смерть.
Кстати, в соседнем цехе то же самое происходило с журналом "Работница" (а может, "Коммунальное хозяйство" – не помню точно). Там на обложке были сфотографированы работницы передовой прачечной. В ЦК КПСС заметили, что на груди одной из прачек поблескивает нательный крестик. Обложку содрали. Подозреваю, что сотрудника ЦК, принявшего это решение, сегодня можно встретить в церкви.
Ни в одной антиутопии никто из фантастов ничего подобного придумать не смог. Возможно, это и послужило причиной современного кризиса фантастики: наша действительность всегда была фантастичнее вымысла!
А что касается "Кометы", то нам дали другого режиссера, которому за эту работу посулили заграничную командировку, может, даже съемки в Кении, если он перевернет фильм с ног на голову и сделает слабого, несчастного и неустроенного героя человеком сильным, справедливым и партийным.
Дальше начался шантаж. Оператора фильма Рыбина и меня вызвали куда надо и дали понять, что если мы откажемся участвовать в "поправках к фильму", то картину положат на полку, и семья Викторова, который был человеком бескорыстным и небогатым, вообще останется без средств к существованию – и его жена, и двое детей. И мы с Рыбиным сдались.
Я писал новые тексты и сидел целыми днями с Аленой Аникиной, умевшей подгонять тексты к движению губ, что важно при синхронном переводе фильма, и разминали фразы и слова, которые должен был произнести Александр Кузнецов вместо тех, что произносил ранее.
Надежда Семенцова, жена Ричарда, была на нас сердита, и справедливо сердита, потому что для нее важнейшей была память о муже.
В конце концов фильм закончили, он вышел в нескольких копиях, и его никто не видел. Правда, в последние год-два его показали по телевидению.
Второй режиссер, который появился в моей жизни одновременно с Викторовым, был Роман Качанов.
Это был шумный, веселый, говорливый жизнелюб с записной книжечкой, куда он заносил собственные острые мысли и анекдоты. Он ловил тебя в коридоре и раскрывал книжечку. Тут тебе и приходил конец.