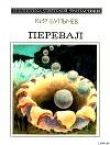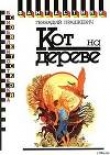Текст книги "Чудеса в Гусляре (сборник)"
Автор книги: Кир Булычев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Такан для детей земли
Такана поймали на границе Большого Плоскогорья, там, где серые непроходимые джунгли уступают место редким кущам сиреневых деревьев, источающих едкий запах камфары и эфира. У сиреневых деревьев ядовитые длинные иглы, и, если неосторожный путник остановится переночевать в куще, он никогда больше не проснется. Туда, на Плоскогорье, не добираются влажные серые туманы, и покрытые снегом вершины Облачного хребта видны в любую погоду.
Такана поймали канские охотники и принесли в деревушку у водопада, привязав за ноги к гибким слегам. Он еще не умел летать. Такана не добили, потому что зимней ночью в деревню приезжал начальник поста в Дарке и сказал, что за живого такана можно получить много денег.
Рана на плече такана быстро затянулась, но он не убежал в горы. Ему не было еще и года, он пасся за деревней с длинноногами и вечером возвращался в загон. Дочка старосты подкармливала его солью и смотрела, чтобы длинноноги его не обидели. Староста запряг прыгающего червя и отправился в Дарк. Там он сказал, что охотники поймали такана и ждут теперь больших денег. Начальник поста послал сообщение об этом в столицу, так я об этом узнал. Староста уехал обратно, проиграв на базаре все деньги, что взял с собой на покупку одежды, и перед отъездом поклялся духами гор, что с таканом ничего не случится.
Это был первый такан, которого поймали живым. Лет десять назад ботаник Гуляев, путешествуя по Большому Плоскогорью, увидел в пещерном храме секты Синего Солнца шкуру неизвестного зверя. Шкура была старой, потертой, густая золотистая шерсть кое-где вылезла. На шкуре восседал глава секты. Гуляева интересовала орхидея Окса, невзрачное на вид растение с белыми пятилепестковыми цветами, корни которого содержат паулин. Паулин позволяет не спать до месяца без вредных побочных эффектов. Секта Синего Солнца была известна своими многодневными радениями, и в Дарке Гуляеву посоветовали поговорить с ее главой. Глава секты сделал вид, что ничего не знает об орхидее, но зато рассказал ботанику, что зверь, шкура которого понравилась гостю с Земли, водится высоко в горах и его нельзя поймать живым. Зверь называется таканом, и его охраняют злые духи гор. Потом глава секты сказал что-то послушнику, и тот принес прозрачную тонкую пластину и сказал, что это кусок крыла такана. Таканы летают с наступлением тепла, а осенью сбрасывают крылья. Гуляев забыл об орхидее и предложил высокую цену за шкуру и кусок крыла. Но глава секты не расстался с ними, хотя и разрешил сфотографировать.
Я видел фотографию шкуры и крыла еще на Земле. Гуляев принес ее в зоопарк. Фотография была объемной, послушник держал прозрачную пленку, в ней отражалось солнце, и моя дочь Алиса сказала: «Они, наверное, стекла для окон из этого делают».
Я собрал на Зие хорошую коллекцию, больше всего в ней было прыгающих червей, и в музее меня уверяли, что они отлично акклиматизируются на Земле, что они незаменимы как вьючный транспорт. Но у меня было какое-то предубеждение против езды на червяках, и я опасался, что мои соотечественники его разделят. Я разузнал о такане все, что мог. То есть немного. Его и в самом деле не было ни в одной из коллекций планеты, и многие зоологи считали его легендой. Мне помогли разослать в горные области обещания щедрой награды за поимку такана. И через два месяца пришло известие, что молодой такан пойман. Это было исключительным везением.
До деревни меня проводил начальник поста в Дарке. Староста вышел встретить нас к изгороди. Его четыре руки были украшены каменными браслетами. За ним шли охотники с короткими копьями.
Такан за месяц подрос и догнал своих сверстников длинноногов. Он узнал старосту и подошел, когда староста его позвал. Приподняв голову, он глядел на нас большими золотистыми глазами. Он был очень мил, и мне даже стало жалко, что на Зие не знают той сказки. Оказывается, она все-таки существует в шестнадцати парсеках от Земли.
Я протянул руку, чтобы погладить такана, и староста сказал:
– Он добрый.
Старосте очень хотелось, чтобы такан мне понравился.
Мы остались ночевать в деревне. Ночью мне стало трудно дышать, и я проснулся. Я добрался до чемодана и достал кислородную маску. Пока я возился с ней, сон прошел, и я вышел на улицу. Улица упиралась в загон для скота, и я увидел такана. Он тоже не спал. Он стоял, прислонившись к ограде, и глядел на синие рассветные горы. Его шерсть чуть светилась. Он услышал мои шаги и повернул голову. Я остановился, пораженный уверенностью, что такан сейчас заговорит. Но он молчал. Мне вдруг стало стыдно, что я лишил его гор, что я собираюсь посадить его в тесный корабль и увезти на Землю. Но я постарался отогнать от себя эту мысль. Ведь звери живут в зоопарках дольше, чем на свободе.
– Спи, – сказал я ему. – Нам предстоит долгий путь. Тебя ждут.
Такан вздохнул и переступил с ноги на ногу.
Мы заплатили старосте тысячу. Это было ровно столько, сколько он запросил. Еще четыре тысячи пришлось отдать даркскому начальству. Староста жалел, что запросил мало. Он сказал «тысяча», потому что не надеялся, что найдутся существа, способные заплатить такие деньги за такана.
Мы не могли в тот же день отвезти такана в Дарк. Вездеход был мал. Тогда все уехали, а я остался в деревне ждать большую машину. У меня была кинокамера, и я целый день снимал такана, мальчишек, которые не отставали от меня ни на шаг, и старика Сопу. У старика было на две руки больше, чем у других охотников этого племени, и он напоминал шестирукого Шиву. Старик сидел у дверей хижины и равнодушно щурился в объектив. Я был рад, что задержался в этих местах. Над деревней висели сизые горы, под сосной на площади стоял измазанный жиром деревянный идол. Одно крыло у него треснуло и было подвязано грязной веревкой.
Я быстро уставал, но кислородом почти не пользовался. Ночью меня мучил сон – такан ушел в горы, и я лезу за ним сквозь ядовитые колючки к снежному перевалу и никак не могу его догнать. Только болят глаза от сияния его шкуры. Потом такан взлетает к облакам, и его стрекозиные крылья кажутся издали голубоватой дымкой.
Охотники взяли меня с собой в лес искать змей. Лес был по-осеннему пустым и тихим. Дождей уже не было несколько недель. Под ногами шуршала сухая трава. Я набрал букет мелких розовых цветов. Цветы пахли гнилью, и лепестки их были влажными на ощупь. Мне хотелось засушить цветы на память, но они к вечеру растаяли.
Через два дня приехала большая машина с клеткой. За полчаса до того, как она появилась на площади, слышно было, как тяжело дышал ее мотор, осиливая подъем. Мне хотелось остаться в деревне, и я лелеял надежду, что мотор сломается. Мне хотелось каждое утро видеть сизые горы. Но я пошел к такану, чтобы осмотреть его перед отъездом. Дочка старосты, которая не любила меня за то, что я хотел увезти такана, помахала нам, когда машина сворачивала за последний дом. Клетка покачивалась на поворотах, и такан быстро переступал с ноги на ногу, чтобы не потерять равновесия.
В самолете такан стоял, положив мне на колени теплую голову, и глаза у него были печальными. Он шевелил губами, будто шептал мне что-то, а я успокаивал его и чесал крутой лоб.
В столичном порту самолет встречало неожиданно много народа. Здесь были высокопоставленные чиновники, инопланетчики и просто любопытные. Первым подошел к самолету директор зоопарка. Ему не терпелось увидеть такана. Он предпочел бы оставить такана у себя, но даркские власти продали его Земле, и правительство не возражало. Правительству хотелось, чтобы такан был подарком Земле. Никто не сомневался, что теперь, когда исчезли сомнения в его реальности, можно будет достать еще нескольких для себя.
Я свел такана по трапу на пластиковое покрытие аэродрома, и встречающие подходили и гладили его по теплому шелковистому боку. Такан терпеливо ждал, когда можно будет уйти в прохладу. В долине ему было душно, жарко, и бока его тяжело раздувались.
Такана поместили в кондиционированной комнате космослужб. Мы хотели, чтобы он акклиматизировался и окреп перед новым путешествием.
Такан тосковал. Он отказывался от незнакомой травы. Я каждый день надоедал химикам, которые искали пригодную пищу для пленника. По вечерам у комнаты толпились посетители. В столице стало модным ездить к такану. Но я старался не пускать гостей. Такану надоели посетители. Я привязался к такану. Мне казалось, что ему тоже снятся сизые горы и далекие снежные тучи.
В столице было жарко. К утру таяли перистые облака и за окнами повисала мелкая серая пыль. Я приспособился работать в комнате такана. Там было прохладнее. Такан иногда поднимался с жухлой подстилки, подходил ко мне сзади и, стараясь не мешать, смотрел, как я печатаю на машинке.
Корабль с Земли запаздывал. Я слал панические депеши, сообщал о критическом положении ценных животных. Меня хорошо знали связисты на космостанции и думали, что у меня денег куры не клюют. Я складывал в карман квитанции и ждал субботнего визита в наше представительство, где потный, раздраженный бухгалтер отсчитывал валюту за содержание животных и зоолога, меня. Бухгалтер до смерти боялся прыгающих червяков и старался не выходить на улицу, все ждал, что один из них прыгнет на него. Я уговаривал его посмотреть на такана, но он не соглашался и уверял меня, что начисто забыл детские сказки.
Иногда по вечерам мы с таканом разговаривали. Вернее, разговаривал я, а такан соглашался. Или не соглашался.
– Слушай, – говорил я. – Мы должны делать людей счастливыми. Такая у нас задача. У нас с тобой.
Такан склонял голову набок. Он не верил мне. Ресницы его, длинные и прямые, как шпаги, скрещивались, если он прищуривался.
– Дети должны верить в сказки, – говорил я. – Они ждут тебя, потому что ты сказка. Ты олицетворяешь для них доброту и верность. Поедем со мной на Землю. Я прошу тебя.
– Хорошо, – сказал он однажды. У него прорезались крылья. Они чесались, и он исцарапал их остриями стены в комнате.
– Представляешь, – говорил я. – По всем каналам телевидения объявят, что ты прилетел. И все придут посмотреть на тебя.
Такан положил мне на колени тяжелую теплую голову.
– Тебе понравится наша трава. Она совсем такая же, как в горах.
Город душили жаркие туманы. Они мешали дышать. Ко мне пришел директор зоопарка. Он пил земной лимонад и долго рассказывал мне о трудностях работы, о болезнях хищных цветов и приплоде трехголовых змей. Я рассеянно слушал его и думал, что такана придется отдать в зоопарк. Временно.
Я послал еще две «молнии» на Землю. Из представительства позвонили, что пассажирский лайнер «Орион» изменил курс для того, чтобы забрать нас. Лайнер будет в столице минимум через две недели. Надо дождаться.
Пришло письмо от дочки старосты. Оно было написано грамотеем в Дарке, на базаре. Дочка старосты писала, что отец разделил сотню между охотниками, которые поймали такана, а девятьсот положил в банк в Дарке. Старик знал цену деньгам. Каждому охотнику пришлось по двадцатке. Они проиграли их на базаре. Еще дочка старосты писала, что охотники видели следы взрослых таканов, но они улетели.
Я ответил дочке старосты, что такан чувствует себя хорошо, а когда придет корабль с Земли, то ему будет лучше. Я просил ее не беспокоиться, потому что я всегда думаю о такане.
Мы перевели такана в зоопарк. Он совсем ослаб и с трудом доплелся до зеленой рощи посреди загона, где жили волосатые птицы. Птицам жара нипочем, они живут в горячих вулканических болотах. У входа в зоопарк директор повесил объявление, где говорилось, что единственный пойманный живьем такан перед отправкой на Землю доступен для обозрения.
В загоне росли деревья и было болотце с подогревом воды. В болотце возились в иле волосатые птицы, и иногда из воды выпрыгивала трехрукая рыба. Птицы дрались и верещали.
Посетители приходили в парк семьями, оставляли червяков у ворот. Они приносили с собой коврики и кастрюли. Посетители разглядывали золотистое пятно в тени деревьев, но больше интересовались волосатыми птицами, потому что на Земле и на Зие совсем разные сказки. И в их сказках главными героями были огненные змеи и волосатые птицы.
Директор зоопарка был доволен. Ему хотелось бы, чтобы такан остался в зоопарке навсегда. Он был патриотом зоопарка и неплохим зоологом.
Позавтракав на траве, посетители шли к поющим змеям, суетливым и немузыкальным. Змеи подражали людям, и посетители старались угадать, на что это похоже. И смеялись. Иногда мальчишки кидали в такана камешками, чтобы он поднялся и подошел к загородке. Они дразнили его длинноногом. Такан не вставал. Когда я приходил к нему, он вздыхал и старался приподнять крылья, почти невидимые в тени. Тогда у загородки собиралось очень много народа, ибо я был куда большей диковинкой, чем такан. Мальчишкам казалось, что я тоже экзотическое животное, потому что у меня только две руки и два глаза, но камешками в меня они не кидали.
Телефон в моем номере зазвонил в три часа ночи. Директор зоопарка, путаясь от волнения, сказал, что такан совсем плох. Я крикнул в трубку, что сейчас буду. Я включил настольную лампу и никак не мог попасть в рукава рубашки.
Такану стало плохо еще вечером, до закрытия зоопарка, но директор не позвонил мне, надеясь вылечить его сам. Он не хотел, чтобы я подумал, будто кто-то из сотрудников зоопарка виноват в болезни зверя.
Я долго бежал по ночным улицам, спотыкаясь о трещины в мостовых, скользя в лужах, распугивая ящериц и слепунов. У ворот меня встретил служитель, средний глаз его был закрыт – служителю хотелось спать. Я не понял, что он говорит, и побежал в гору, мимо клеток с червяками и загонов, где, разбуженные моими шагами, возились черные тени.
Такан лежал в кабинете директора. Директор в белом халате сидел у стола, заставленного бутылками, ампулами, коробочками. Директор был смущен, но мне некогда было его утешать.
Глаза такана были затянуты белыми пленками, словно у птицы. Он редко, со всхлипом дышал, и порой по его шкуре пробегала дрожь. Тогда он мелко стучал по полу белыми копытцами.
Я подумал, что перед смертью такан видит сизые горы, но я не успею увезти его обратно.
Шерсть у меня под ладонью была такой же мягкой и теплой, как всегда, но я знал, что она остынет до рассвета. Я не мог пристрелить его, потому что он был моим другом.
Вдруг такан, будто захотев попрощаться со мной, открыл глаза. Но он смотрел мимо меня, на дверь. Там стояла дочка старосты.
– Я приехала, – сказала она. – Я поняла по письму, что такану плохо. Я привезла горную траву. Когда длинноноги болеют, они едят эту траву.
Девушка сняла с плеча мешок, от которого по комнате распространился тонкий аромат горных лугов и ветра.
Такан сказал ей что-то, и девушка достала из мешка охапку сизых, как горы, цветов…
Дочь старосты пришла проводить нас на космодром. За те два дня, что мы просидели с ней у больного такана, мы подружились, и она поверила мне, что такану стоит поехать на Землю.
Такан был еще слаб, но когда стюардесса «Ориона» увидела, как мы втроем выходим на поле, она взвизгнула от восторга, а я сказал такану:
– Вот видишь, я же тебе говорил.
– Я разбужу пассажиров, – предложила стюардесса. – Они обязательно должны удивиться. А он умеет летать?
– Будет летать, – сказал я. – Не надо будить пассажиров. Они еще успеют на него наглядеться.
Мы с таканом проследили, как идет погрузка нашего зверинца, а потом проследовали в каюту, где нас ждал капитан, который сказал, что это нарушение правил, но он не имеет ровным счетом ничего против.
Мы прилетели на Землю через три недели. За это время такан успел познакомиться с пассажирами, он гордился тем, что оказался в центре внимания. Крылья у него настолько отросли, что он мог летать по длинному коридору корабля и даже возил на спине одну десятилетнюю девочку.
У этой девочки оказалась нужная нам книга, и я прочел ее такану. Такан повторял за мной некоторые стихи и рассматривал картинки, удивляясь, до чего похож он на книжного героя.
Мы договорились, что появление такана на Земле будет обставлено как можно более театрально. Девочке мы сшили красные сапожки и красную рубашку с пояском. И полосатые штаны. Это оказалось нелегким делом. Три дня ушло на поиски материала, и если штаны и рубашку сшили потом стюардесса с матерью девочки, то сапоги пришлось тачать мне самому. Я исколол до ногтей пальцы и перевел несколько метров красного пластика.
Такан попросил, чтобы девочку одели, и остался доволен результатом.
Последнюю ночь перед приземлением он не спал и нервно постукивал копытом о переборку.
– Не беспокойся, – говорил я ему. – Спи. Завтра будет трудный день.
Когда «Орион» приземлился и телевизионные камеры подъехали поближе, такан подошел к люку и сказал девочке:
– Держись покрепче.
– Я знаю, – сказала девочка.
Капитан приказал открыть люк. Зажужжали камеры, и все, кто собрался на громадном поле, смотрели на черное отверстие люка.
Я никак не мог подумать, что весть о нашем прилете вызовет такое волнение на Земле. Десятки тысяч человек съехались к космодрому, и телеспутники, встретившие нас на внешней орбите и проводившие почетным эскортом до поля, кружили рядом, словно толстые жуки.
Такан легко прыгнул вперед, взлетел над полем и медленно поплыл к широко открытым глазам телевизионных камер. Крылья его, тонкие и прозрачные, были не видны. Казалось, что всадника прикрывает легкое марево. Девочка подняла приветственно руку, и миллионы детей закричали:
– Лети к нам, конек-горбунок!
Конек-горбунок позировал перед камерами. Он несся к ним, тормозил неподалеку, поводил длинными ушами и снова взмывал к облакам. Девочка крепко держалась за гриву и пришпоривала конька-горбунка красными пластиковыми сапожками.
– Он не устанет? – спросила стюардесса.
– Нет, – ответил я. – Оказывается, он не лишен тщеславия.
Как начинаются наводнения
За окном плыли облака. Таких облаков я раньше не видел. Снизу, с изнанки, они были блестящими, гладкими и отражали весь город – крыши, зеленые и фиолетовые, с причудливыми резными коньками, кривые улочки, мощенные кварцевыми шестигранниками, людей в кирасах и цилиндрах, идущих по улочкам, старомодные автомобили и полицейских на перекрестках. В углу окна, у рамы, располагалось самое любимое из отражений – кусочек набережной, рыболовы с двойными удочками, влюбленные парочки, сидящие на парапете, женщины с малышами. И дома и люди на облаках были маленькими, и мне часто приходилось додумывать то, чего я никак не мог разглядеть.
Доктор приходил после завтрака и садился на круглую табуретку у моей постели. Он глубоко вздыхал и жаловался мне на свои многочисленные болезни. Наверно, он думал, что человеку, попавшему в мое положение, приятно узнать, что не он один страдает. Я сочувствовал доктору. Названия болезней часто были совсем непонятны и от этого могли показаться очень опасными. Даже удивительно, как это доктор еще живет и даже бегает по коридорам больницы, пристукивая высокими каблучками по лестницам. Всем своим видом доктор давал мне понять: разве у вас ожог? Вот у меня зуб болит, это да! Разве это доза – тысяча рентген? Вот у меня в коленке ломота… Разве это удивительно – тридцать два перелома? Вот у меня…
Сначала я лежал без сознания. И это он выходил меня после первой клинической смерти. И после второй клинической смерти. Потом я пришел в себя и пожалел об этом. Правда, у них изумительные обезболивающие средства, но я ведь знал, что они все равно не справятся с тысячью рентген, – все это чистой воды филантропия. Не больше.
– Сегодня на рассвете один старик поймал в реке большую рыбину, – говорю я, чтобы отвлечь доктора от его болезней.
– Большую?
– В руку.
– Это вы в облаках рассмотрели?
– В облаках. Почему они такие?
– Долго объяснять. Да я и не смогу. Вот выздоровеете, поговорите со специалистами. Облака не круглый год. Месяца за два до вашего прилета было солнце. Тогда все меняется.
– Что?
– Наша жизнь меняется. Прилетают корабли. Но это ненадолго.
– К вам редко кто прилетает.
– Пассажирских рейсов нет. Да и откуда им быть? Расписания не составишь…
– Почему? – хотел спросить я, но пришла сестра. Вместо этого я сказал: – Доброе утро, мой милый палач.
И сразу забыл о докторе. Сестра – значит, процедуры.
Днем я заснул. Мне снова снилась катастрофа. Мне снилось, что я поседел. Но, наверно, мне никогда так и не узнать, поседел ли я на самом деле. Голова моя наглухо замотана – только глаза наружу.
– С Землей связались, – сказал доктор, заглянув ко мне вечером.
Он казался очень веселым, хотя мы оба знали, что с Земли лететь сюда почти полгода.
– Ну-ну, – вежливо сказал я и стал смотреть в потолок.
– Да вы послушайте. Нам сообщили, что «Колибри» заправляется на базе «12–45». Завтра стартует к нам. Это далеко?
Я хотел бы успокоить доктора, но он все равно узнает правду. Я сказал:
– Будут дней через сорок.
– Замечательно, – ответил доктор, не переставая широко улыбаться. Но ему уже было невесело. Он тоже понимал, что сорока дней мне не протянуть.
Но он был доктором, и поэтому он должен был что-то сказать.
– У них на борту врач и препараты. Вас поставят на ноги в три часа.
– Тогда некого будет ставить на ноги…
По реке на облаках плыл вниз трубой длиннющий пароход, и белый дым из его трубы свисал с облака к самому окну.
– Надо быть молодцом, – сказал доктор.
Я не стал спорить.
Ночь была длинной. Я ждал рассвета, а его все не было. Сколько длятся их сутки? Если не ошибаюсь, двадцать два часа с минутами. И поделены они на периоды и доли. Об этом я читал в справочнике. Еще на базе.
Наконец стало светать. Я удивился, увидев на облаках, что улицы полны народу. Обычно прохожие появлялись часа через полтора после рассвета.
Открылась дверь, и вошел доктор.
– Вас еще не кормили? – спросил он.
– Нет, рано еще.
– Пора, пора, – сказал он.
– Сколько сейчас времени? – спросил я.
– Тринадцать долей третьего периода, – сказал доктор.
Я не стал просить разъяснений. Третьего так третьего.
– Мне придется вас покинуть, – сказал доктор. – Много работы.
Доктор вернулся через час и долго рассматривал ленты с записями моей температуры, давления, пульса и прочих штук, свидетельствующих о том, что я еще жив. Ленты ему явно не нравились, поэтому доктор начал насвистывать что-то веселое.
– Ну и как?
– Совсем неплохо. Совсем неплохо. Жалко, что вам сбили режим. Головы за это отрывать надо!
– За что?
– За полную безответственность. Ему, видите ли, не хотелось с ней прощаться. Ну ладно, потом объясню. Кстати, вы не будете возражать, если к вечеру мы сделаем вам переливание крови?
– А мое возражение будет принято во внимание?
Доктор вежливо улыбнулся и ушел.
На следующий день мне стало хуже. Доктор сидел на круглом табурете и о своих болезнях ни гу-гу. За окном метет. Вчера еще было тепло, и рыболовы покачивали над водой удилищами, как жуки усиками. А сегодня метет.
– Через полчаса кончится, – сказал доктор. – Недосмотрели.
– Вы управляете климатом? – спросил я.
– Да ничем мы не управляем, – вздохнул доктор. – Это не жизнь, а сплошное безобразие. Скорей бы облака уходили.
– Вы вчера что-то говорили о безответственности.
– Ах, вы об этом инциденте? Это неизбежно. Один молодой человек…
Что с вами?
Мне было плохо. Я еще слышал доктора, но уже не мог удержаться на поверхности мира. Мне казалось, что я держусь за слова доктора, как за скользкие тонкие бревнышки, но вот слова выскальзывают и остаются на воде, а я ухожу вглубь, не смея открыть рта и вздохнуть…
Я очнулся. Они не знали, что я очнулся. Не заметили. И я слышал их разговор. Доктора и другого врача, специалиста по лучевой болезни.
– Два-три дня, не больше, – сказал специалист. – Очень плох.
Я знал, что говорят обо мне, но очень хотелось, чтобы слова эти не имели ко мне никакого отношения.
Вторично я очнулся ночью. Доктор сидел на своем табурете и раскладывал на коленях нечто вроде пасьянса из карт, похожих на почтовые марки. Мне показалось, что доктор осунулся и постарел. Я был благодарен доктору за то, что он не ушел ночью домой, за то, что сидит у моей постели, и даже за то, что он осунулся всего-навсего оттого, что в его отделении умирает человек с Земли, с совсем чужой и очень далекой планеты.
– Спите, – сказал доктор, заметив, что я открыл глаза.
– Не хочу, – сказал я. – Еще успею.
– Не дурите, – сказал доктор. – Безвыходных положений не бывает.
– Не бывает?
– Еще одно слово, и я даю вам снотворное.
– Не надо, доктор. Знаете, что удивительно: я читал, что перед смертью люди вспоминают детство, родной дом, лужайки, залитые солнцем… А мне все чудится, что я чиню какого-то ненужного мне кибера.
– Значит, будете жить, – сказал доктор.
Я задремал. Я знал, что доктор все так же сидит рядом и раскладывает пасьянс. И мне, как назло, приснилась лужайка, залитая солнцем, та самая лужайка, по которой я бегал в детстве. Лужайка была теплой и душистой. На ней было много цветов, пахло медом и жужжали пчелы… Доктору я не стал говорить о своем сне. Зачем расстраивать?
Вошла сестра.
– Все в порядке, доктор, – сказала она. – Проголосовали.
– Ну, ну?
– Сто семнадцать «за», трое воздержались.
– Чудесненько, – сказал доктор. – Я так и думал.
Он вскочил, и карты, похожий на марки, рассыпались по полу.
– Что, доктор?
– Жизнь чудесна, молодой человек. Люди чудесны. Разве вы этого не чувствуете? Ох, как у меня болит зуб! Вы не можете себе представить… У вас когда-нибудь болели зубы? Вы еще вернетесь на свою поляну. Она вам снилась?
– Да.
– Вернетесь, но со мной. Вам придется пригласить меня в гости. Всю жизнь собирался побывать на Земле, но недосуг как-то. Если мы с вами продержимся еще два дня, считайте, что мы победили.
И он не лгал. Он не успокаивал меня. Он был уверен в том, что я выживу.
– Сестра, приготовьте стимуляторы. Теперь не страшно. – Доктор взглянул на часы. – Когда начинаем?
– Через пять минут. Даже раньше.
Сквозь толстые стекла окон донесся многоголосый рев сирен.
– Через пять минут. Вы уже знаете? – сказал незнакомый врач, заглядывая в палату.
– Закройте шторы, – сказал доктор сестре.
Сестра подошла к окну, и я в последний раз увидел серебряную подкладку облаков. Я хотел попросить, чтобы они не закрывали шторы, объяснить им, что облака нужны мне, но неумолимая тошнота подкатила к горлу, и я, не успев уцепиться за воркование докторского голоса, понесся по волнам, задыхаясь в пене прибоя. – …Так, – сказал кто-то по-русски. – Ну и состояньице!
Я не знал, к какому из отрывочных видений относится этот голос. Он не давал уйти обратно в забытье и продолжал гудеть, глубокий и зычный. С голосом была связана растущая во мне боль.
– Добавь еще два кубика, – приказывал голос. – Трогать его пока не будем. Глеб, перегони-ка сюда третий комплект. Сейчас он очнется.
Я решил послушаться и очнулся. Надо мной висела черная широкая борода, длинные пушистые усы и брови, такие же пышные, как и усы. Из массы волос выглядывали маленькие голубые глаза.
– Вот и очнулся, – сказал бородатый человек. – Больше уснуть мы тебе не дадим. А то привыкнешь…
– Вы…
– Доктор Бродский с «Колибри».
Бродский отвернулся от меня и выпрямился. Он казался высоким, выше всех в комнате.
– Коллега, – перешел он на космический. – Разрешите мне еще разок заглянуть в историю болезни.
Мой доктор достал катушки с лентами записей.
– Так, – бормотал Бродский. – День одиннадцатый… день четырнадцатый… А где продолжение?
– Это все.
– Нет, вы меня не поняли. Я хотел спросить, где вторая половина месяца? Ведь не четырнадцать же дней он болеет.
– Четырнадцать, – сказал доктор, и в голосе его прозвучали звенящие нотки смеха.
– Сорок три дня назад мы стартовали с базы, – между тем гудел Бродский. – Мы сэкономили в пути трое суток, потому что больше сэкономить не могли…
– Я вам все сейчас объясню, – сказал доктор. – Но, кажется, приехал ваш помощник…
Через шесть часов я лежал на самой обычной кровати, без лат, без шин, без растяжек. Новая кожа чуть зудела, и я был еще так слаб, что с трудом поднимал руку. Но мне хотелось курить; и я даже поспорил, хоть и довольно вяло, с Бродским, который запретил мне курить до следующего дня.
– Давайте-ка все-таки распутаемся с этой историей, – сказал Бродский, склонившись над моей историей болезни. – Сколько же мы летели и сколько же наш больной пролежал у вас?
Бродский достал из кармана большую трубку и принялся ее раскуривать.
– Тогда вы сами не курите, – сказал я. – А то отниму трубку. Ради одной затяжки я готов сейчас на преступление.
– Больной, – строго сказал Бродский. – Что дозволено Юпитеру, то не дозволено кому?
– Волу, больным, космонавтам в скафандрах, – ответил я. – У меня высшее образование.
Мой доктор слушал наш разговор, умиленно склонив голову к плечу. У него был взгляд дедушки, внук которого проглотил вилку, но в последний момент умудрился с помощью приезжего медика вернуть ее в столовую.
– Даже не знаю, с чего начать, – наконец сказал доктор. – Все дело в том, что наша планета весьма нелепое галактическое образование. Большую часть года она целиком закрыта серебристыми облаками, которые полностью отрезают нас от внешнего мира.
– Но ведь мы же прилетели сюда…
– Корабль может пробить слой облаков, но этим обычно никто не хочет заниматься. И вот почему: облака каким-то образом нарушают причинно-следственную связь на поверхности планеты. Вы помните, как несколько дней назад в городе рассвело несколько позже, чем обычно?
– Да помню, – сказал я. – Я решил сначала, что слишком рано проснулся.
– Нет, это запоздал рассвет. Один влюбленный молодой человек не хотел расставаться со своей возлюбленной. И что же он сделал? Он забрался на башню, на которой стоят главные городские часы и привязал гирю к большой стрелке часов. Часы замедлили ход. В любом другом месте Галактики от такого поступка ровным счетом ничего бы не случилось. Ну, может быть, кто-нибудь и опоздал бы на работу. И все. А на нашей планете в период «серебряных облаков» замедлился ход времени. Рассвет наступил позже, чем обычно.
Доктор вдоволь насладился нашим изумлением и продолжал:
– Беда еще и в том, что в одном городе часы могут идти вперед, а в другом отстают. И рассвет наступает в разных местах по-разному. Чего только мы не предпринимали! Запрещали пользоваться личными часами – ведь время зависит даже от них, ввели обязательную почасовую сверку всех часов планеты… Но потом от всех мер такого рода отказались. Просто-напросто каждый житель планеты имеет часы. И раз на планете живет сто двадцать миллионов человек, то среднее время, которое показывают сто двадцать миллионов часов, правильно. Одни спешат, другие отстают, третьи идут как надо. Понятно?