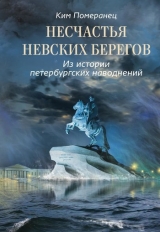
Текст книги "Несчастья невских берегов. Из истории петербургских наводнений"
Автор книги: Ким Померанец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
1917 г., 14 сентября – 199 см; 15 ноября – 181 см; 17 ноября – 244 см, 21-е по высоте.
Весь этот год можно отнести к аномальным в метеорологическом отношении.
В обзорах Главной физической обсерватории отмечалось, что зима 1916/17 г. в Петрограде, на значительной территории России, в Западной Европе, особенно во Франции, отличалась суровостью и продолжительностью. Весна в Петрограде была близкой к норме, особенно апрель, но май оказался сухим и холодным. Лето было изменчивым: июнь и август впервые за тридцать лет почти на четыре градуса теплее нормы и с осадками близ нормы, а июль – суше обычного и на один градус холоднее. В августе и сентябре было очень много гроз, а по вечерам небо озарялось великолепными северными сияниями. Отмечались сильные магнитные бури, из-за чего 8– 16 августа телеграфные станции в Петрограде не работали.
В.В. Набоков в книге воспоминаний «Другие берега» писал: «В начале лета 1917 г. над синеватым болотом темный дым горящего торфа сливался с дотлевающими развалинами широкого оранжевого заката… Всем известно, какие закаты стояли знамениями в том году над дымной Россией…». [53] [53]
Набоков В.В.Другие берега. Л., 1991. С. 166—167.
[Закрыть]
Осень оказалась ветреной и ненастной. В третьей декаде сентября над Балтикой пронеслось несколько циклонов, один из которых вызвал 27 сентября штормовые нагоны в Ботническом и Финском заливах. В Кеми (на севере Ботники) вода поднялась на метр выше обычного, причинив значительные убытки. На повышенном уровне гуляли огромные волны, одна из которых пробила брешь в капитальной кирпичной стене фабрики на расстоянии почти полкилометра от берега. В устье Невы произошел подъем воды, едва не достигший 2 м.
Ненастная осень продолжалась, но в октябре и почти весь ноябрь опасных подъемов воды не было. В последние дни ноября штормовые ветры и волны повредили международные кабели, в Хельсинки прервалась телефонно-телеграфная связь, в центре города произошли значительные разрушения. Вблизи Аландских островов у входа в Ботнический залив погибли два финских судна. Сообщений о подъемах воды в Петрограде и их последствиях в основных периодических изданиях обнаружить не удалось. Они были заняты более серьезными, революционными вопросами. И в судьбоносные дни погода вела себя обычно, по-осеннему изменчиво: «В среду 25 октября (7 ноября) день был сырой и холодный…» (Дж. Рид «10 дней, которые потрясли мир»). А в других воспоминаниях встречаем: «Утро 25 октября выдалось в Петрограде на редкость солнечным и теплым. Настоящая золотая осень». Правы, скорее всего, и Рид, и другие: погода в разное время суток неодинакова; очевидцы, кроме того, бывают слишком субъективны. Лучше всего довериться газетным сообщениям из Главной физической обсерватории, согласно которым день 25 октября 1917 г. был переменчивым, умеренно теплым, слабо ветреным, с дождем во второй половине. Залп «Авроры» и взятие Зимнего происходили, похоже, в обычный осенний вечер.
Рано, сразу после наводнений, в Петроград пришли холода и снегопады: к 18 ноября снежный покров достиг толщины 17 см, а к концу декабря впервые за восемь лет – 73 см. Температура на поверхности почвы опустилась до – 40 градусов.
В целом же сообщения о погоде, ставшие привычными за много лет, включая военные годы, в 1917 г. почти не печатались. Издавалось множество газет, однако «в сокращенном виде из-за технических препятствий», по их же заявлениям.
1918 г., 24 августа – 224 см, 49-е по высоте; 22 ноября -165 см.
И этот год отличался необычной погодой. Впервые с 1890 г. наводнение произошло в августе. До сих пор оно остается третьим по высоте для этого месяца.
В 8 часов утра питерские обыватели были разбужены орудийными выстрелами. Оказалось, что это сигналы, возвещающие о подъеме воды. Ветер с залива достиг ураганной силы. Местные власти приняли меры, чтобы население не осталось без крова. В Гавани были зарезервированы специальные дома на случай наводнения. К 12 часам дня подвалы оказались затопленными, а военные суда на Неве – значительно выше их обычного положения. Высота воды 211 см выше ординара. Над городом тучи и порой проливной дождь. Президиум Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов предложил районным советам принять меры по оказанию помощи неимущему населению и ассигновал на это один миллион рублей.
За несколько дней до наводнения – 20 августа – Всероссийский центральный исполнительный комитет утвердил декрет об отмене частной собственности на земельные участки и дома определенной стоимости. Цель – «правильное распределение жилой собственности в интересах трудящихся». Людей в массовом порядке переселяли в благоустроенные дома и квартиры бывших домовладельцев, происходило так называемое уплотнение.
В этом же году 22 ноября в Петрограде отмечено еще одно наводнение, правда, не столь значительное. Погодные аномалии продолжались весь год на обширных пространствах. Вот первые строки «Белой гвардии» М.А. Булгакова: «Велик был год и страшен по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера, и красный, дрожащий Марс». И строки последние: «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. <…> А вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?». [54] [54]
Булгаков М.А.Белая гвардия. Минск, 1988. С. 16, 270.
[Закрыть]
1924 г., 23 сентября – 380 см, 2-е по высоте, 3-е катастрофическое.
Материалы об этом наводнении и его последствиях публиковались в ленинградских и центральных газетах почти в течение месяца. До сих пор любое упоминание о наводнениях в Петербурге-Ленинграде обращается к двум потопам с разницей в сто лет.
24 сентября в газете «Ленинградская правда» было опубликовано официальное сообщение:
«От Губернского исполнительного комитета.
Днем 23-го сентября после 3-х часов началось при сильном ветре с моря быстрое прибытие воды, уровень которой к 8-ми часам вечера достиг 12 футов (366 см) выше ординара. Благодаря этому Василеостровский район, Петроградская сторона и части Центрального, Выборгского и Володарского районов оказались затопленными. Население было предупреждено об угрожающем наводнении и в большинстве мест успело своевременно очистить улицы и перейти в верхние этажи. Количество единичных жертв, захваченных наводнением, выясняется. Сильно пострадал порт, ряд фабрик и заводов, а также складов. Были частичные пожары. Снесено несколько мостов – Сампсониевский, Гренадерский и другие. Ввиду чрезвычайно широких размеров наводнения и возможности беспорядков, а также в целях строжайшего поддержания революционного порядка и своевременной помощи населению, объявить в городе Ленинграде впредь до ликвидации наводнения военное положение, поручив проведение его Чрезвычайной Тройке в составе коменданта города т. Федорова, зам. нач. Г. П. У. т. Леонова и зам. зав. Административным отделом Губисполкома т. Ильина.
Губисполкомом приняты все надлежащие меры к обеспечению продовольственного снабжения населения и всесторонней помощи пострадавшим от наводнения. Губисполкомом ассигнована специальная сумма для этой последней цели. Районными Тройками приняты все надлежащие ближайшие шаги к устройству пострадавших. Губисполком призывает рабочих, работниц, красноармейцев, военморов и все трудящееся население Ленинграда к выдержке, организованности и дисциплине в интересах поддержания порядка и быстрейшей ликвидации последствий наводнения. К 10-ти часам вечера вода уже сбыла до 9-ти футов (274 см), и дальнейшая убыль продолжается.
Настоящим доводится до населения города, что Губисполкомом приняты все меры к снабжению продовольствием и под страхом строжайшей ответственности воспрещается повышение нормальных цен на продукты.
За председателя Губисполкомом: П. Залуцкий.
За секретаря: Кондратьев. 23 сентября 1924 г.».
Еще одно обращение гласило:
«Ко всем рабочим, работницам, красноармейцам, учащейся молодежи и гражданам Ленинграда.
Товарищи! Ленинград постигло тяжелое несчастье. Слепая стихия наводнения внезапно обрушилась на город и нанесла большие разрушения. Для борьбы с наводнением Губисполкомом немедленно были приняты самые решительные и срочные меры. Были быстро мобилизованы военные, милицейские и пожарные части. Им удалось предупредить все население Ленинграда, спасти граждан, застигнутых наводнением на улицах, благодаря чему число человеческих жертв мало. Зарегистрировано только девять человек.
Наводнение по своему размеру может быть сравнено только с наводнением 1824 г. и материальные разрушения от него колоссальны. Все торцовые мостовые снесены, масса складов затоплена, затоплены машинные отделения и электрические станции многих фабрик и заводов, значительно пострадал порт, повреждены мосты и набережные, снесено большое количество дров, затоплены подвальные помещения, пострадали трамвай и водопровод. Всех разрушений Губисполком пока не успел учесть. Образован целый ряд комиссий, которые в ближайшие часы должны выяснить размеры убытков и разрушений. Приступила к работе Чрезвычайная Тройка, которая приняла самые энергичные меры по очистке улиц. К вечеру стали работать водопроводные станции, в районы подана вода, пущен трамвай. Ленинград полностью обеспечен хлебом и продовольствием. При этом Губисполком постановил: беспощадно карать тех торговцев, которые посмеют использовать стихийное бедствие для спекуляции.
Товарищи! Это испытание ленинградский пролетариат вынесет с честью. Да здравствуют ленинградские рабочие! Да здравствует наш революционный Ленинград!»
Из газеты «Ленинградская правда» от 24 и 25 сентября: «Слепая стихия нанесла серьезный удар нашему пролетарскому городу. От убогой рабочей квартиры до большого завода – всюду ущерб. Придется много чинить, исправлять, наверстывать потерянное. Первая задача – о хлебе насущном. Шакалы спекуляции постараются, конечно, взвинтить цены в пострадавших районах. Эти штуки им не пройдут. Спекулянтам на народном несчастье придется отвечать перед Советской властью! Вторая забота – чтобы в городе не был нарушен революционный порядок. Кое-где отдельные бандиты пытались воспользоваться суматохой в интересах легкой личной наживы. Но уже в первые часы наводнения пролетарский Ленинград показал стальную организационную спайку и выдержку. В минуту стихийного бедствия на улицах, у завода, у склада, в опасном участке место не паразитическому хулиганью, а рабочим отрядам, отражающим слепого врага. Военное положение объявлено против этих мародеров. С рассветом 24 сентября в город вступила кавалерийская дивизия для несения караульной службы и оказания помощи пострадавшему населению. <…>
Сто лет тому назад, когда также „Нева вздувалась и ревела“, крепостной Россией и закованным в цепи городом правил царь. Он „спасал“ столицу с помощью своих генералов. Теперь хозяин города – рабочий класс. Он откачает воду из подвалов, скрепит пошатнувшиеся стропила зданий, заботливой рукой сотрет следы безумия стихии. За работу по-революционному во имя нашего города, во имя Ленинграда!..
В Москве найдутся кое-какие спецовские „доброжелатели“, которые и по случаю наводнения затянут обычную волынку: Ленинграду быть пусту! У них этот мощный пролетарский центр вроде мозоли на глазу. Мы надеемся, что вся партия, весь пролетариат, весь Советский Союз отзовутся на наш призыв единодушной и беззаветной поддержкой. Нашего заветного пути к полному возрождению пролетарского Ленинграда не перебьет слепая стихия!».
В последующие дни ленинградские газеты сообщали: «В ночь на 24 сентября Губкомом была послана в санаторию, где находился на излечении тов. Зиновьев [55] [55]
председатель Ленсовета. – К. П.
[Закрыть], телеграмма о случившемся наводнении. Вскоре был получен ответ, что он поездом выезжает. 26-го получена вторая телеграмма, в которой т. Зиновьев сообщает, что прибывает в Ленинград 27-го…

26-го создана специальная правительственная комиссия по поводу ленинградского наводнения в составе: Калинин, Зиновьев, Л.Б. Каменев, Смирнов, Комаров, Залуцкий, Ворошилов… 29-го в Ленинград прибыли всесоюзный староста Калинин, секретарь ЦК РКП Молотов, председатель Госплана Кржижановский, зам. Наркомфин Фрумкин».
Телефонограмма Совета труда и обороны: «Т. Залуцкому, срочно. По поручению т. Каменева сообщаю нижеследующее: высылаются пять паровых машин для откачки воды, 50 тысяч пудов ржаной муки; сегодня же дано распоряжение отпускать сахар в количестве, потребном для всего населения Ленинграда; об отпуске масла будет сообщено около 13 часов. 25 сентября, секретарь председателя СТО Музыка».
Губисполком постановил снять военное положение в Ленинграде с 20 часов 25 сентября 1924 г.
1 октября в ленинградских газетах были опубликованы материалы пленума Ленинградского совета. Из речи Г.Е. Зиновьева: «Ко всем нашим заботам прибавляется еще одна – держать руку на пульсе Невы, чтобы предотвратить в будущем стихийные бедствия. Коммунальное хозяйство и до наводнения было не в блестящем состоянии. Постараемся переселить рабочих из подвалов. Центр нам поможет, но надо надеяться на себя. Ленинградские рабочие не оправдали белогвардейских надежд и не растерялись…»
Из речи М.И. Калинина: «Жизнь и история Советской Республики не избаловали нас легкими достижениями. Нам не падали галушки с неба. Мы всего добивались большими усилиями. А тут еще и стихийные бедствия, вроде наводнения. Нам нельзя отставать от передовой капиталистической промышленности. Только рабочие центры могут это. Значит – надо помочь Ленинграду. И еще одно обстоятельство: крестьянство предъявляет вексель рабочему классу. Оно хочет лучше жить. Только подняв крестьянство, мы сможем его удовлетворить. Вот почему в Ленинград послана правительственная комиссия…»
Калинин выступил также на фабрике «Красный треугольник», где его речь «была покрыта долго не смолкающими аплодисментами». Там выражали свой энтузиазм и стойкость рабочие. «Тов. Катышков, из саратовских крестьян, кратко, мужицки просто сказал о Советской власти и текущем моменте так: „Ленинград залило, Саратовскую губернию сожгло. Не беда! Ни чорт, ни бог с каким-нибудь мазуриком белогвардейским нам ни шиша не сделают! Спайку рабочих с крестьянами ни одна буржуазная сволочь не разорвет. Наш крестьянский дипломат Калинин буржуев так блинами накормит, что они зубы обломают. Да здравствует Ленинград! Да здравствует Саратовская губерния и в ей город Новоузенск!“ Он закончил свою речь под общий смех и дружественные аплодисменты».
По описаниям различных источников, картина этого катастрофического наводнения выглядит так. 23 сентября с утра ничто, казалось, не предвещало беды. Но около полудня подул с моря порывистый западный ветер. Нева и каналы стали набухать. В 13 часов 20 минут с Петропавловской крепости раздались первые пять предупредительных выстрелов – вода поднялась на 152 см. В 13 часов 50 минут разнеслись вторичные пушечные залпы, которые стали повторяться через каждые полчаса, а затем и через пятнадцать минут. В 15 часов вода пошла на город. На Васильевский остров – с двух сторон: со взморья и от Дворцового моста. В Галерной гавани были быстро залиты Гаванская и Опочинина улицы. На углу Гаванской улицы и проспекта Пролетарской диктатуры (ныне – Большой проспект Васильевского острова) вода прибыла больше чем на 107 см выше мостовой. Деревянная мостовая всплыла. А у моста вся река одной огромной волной рвалась к морю. Усиливающийся ветер бросал всю массу воды на берега.
С Петровского острова забил тревогу завод «Красная Бавария», где залило подвалы с солодом. С этого же времени стала наполняться Фонтанка. К 16 часам полны водой Екатерининский, Крюков и другие каналы, залита набережная Рошаля (ныне – Адмиралтейская). К 17 часам дня буря достигла наивысшего напряжения. Нева преодолела набережные заграждения и широким потоком полилась по городу. К 17 часам 30 минутам вода пробралась к Вознесенскому проспекту. Исаакиевский собор и Зимний дворец представляли собой острова. По улице Халтурина (ныне – Миллионная) мчалась широкая река. Затоплены Летний сад и площадь Жертв революции (Марсово поле). В районе улицы 3-го Июля (ныне – Садовая), у Никольского рынка и церкви – озеро. В смятении бродят очутившиеся не на той стороне жители. Благодаря сильному ветру все старое, ветхое с крыш и фасадов летит вдоль улиц, ветер сшибает с ног прохожих, выворачивает легковые фургоны. Залита Петропавловская крепость. Измерена высота – 274 см, после чего водомер залит, к нему невозможно пробраться, измерения прекращены. Вода прибывает на проспекте 25-го Октября (ныне – Невский). Всюду массы народу. Кругом очереди. Можно наблюдать такие картины: торговцы, находясь по пояс в воде, отпускают товары покупателям, стоящим по колена. В управлении коменданта города организуется «боевой штаб обороны от наводнения». Управление окружено водой по колено. Телефонная связь нарушена. Отдается распоряжение о курсировании лодок на Васильевском острове. Масса покалеченных лошадей. Залиты Большая Охта (прибрежные домишки – до второго этажа) и Малая Охта.
Переломный момент наступил примерно в 20 часов вечера. Сила ветра стала уменьшаться, его направление сменилось на северо-западное, вода упала на 30 см, затем быстро пошла на убыль. В 22 часа пушка Петропавловки дала последний выстрел. К 24 часам уровень воды опустился до 99 см. Наводнение окончательно прекратилось около 7 часов утра 24 сентября. Этот день был солнечным и тихим.
В самый разгар наводнения телеграф стал получать сообщения о начавшихся пожарах. В 19 часов 30 минут крупный пожар начался на Ватном острове (ныне не существует; здесь расположены метро «Спортивная», дворец спорта «Юбилейный», научно-исследовательский химический институт) в показательном заводе взрывчатых веществ на бывшем винном складе. Пожар сопровождался взрывами химических препаратов. Горели лесопильный завод в Новой Деревне, дом 77 на Кронверкском проспекте, дом 54 по проспекту Юного пролетария (ныне – Старо-Петергофский), громадный шестиэтажный дом по Нарвскому проспекту, заселенный рабочими. Жильцы спасались по водосточным трубам. Две женщины оборвались с третьего этажа, упали в воду, получив «общее сотрясение организма». Пожарные не могли подъехать к домам с машинами. Оказывать помощь пострадавшим от пожаров приходилось вручную. О жертвах не сообщалось. В Петроградский район была выслана саперная рота Н-ской дивизии для оказания помощи на пожаре химического завода.
На крупные предприятия Василеостровского района были посланы активисты-коммунары, но на Голодай им добраться не удалось. Завод им. Радищева со стороны моря разрушен, поставлена охрана. В Московско-Нарвском районе конные отряды из военных школ оказывали помощь Путиловской больнице и устанавливали порядок. В Выборгском районе по распоряжению районных властей было установлено дежурство рабочих и студентов по охране заводов и фабрик. Поступили сведения, что повалившимся забором убиты три девочки, на набережной погибли два извозчика. Очевидцы видели, как по Неве, против Ириновского (ныне – Финляндского) вокзала, ехал на утлом ялике человек. На него налетел страшный порыв ветра, перевернул ялик, и несчастный пошел ко дну. В Центральном районе власти распорядились о максимальной выпечке хлеба во всех хлебопекарнях. К 26 сентября выпечка по городу дошла до полной потребности – 50 тысяч пудов в сутки.
Наводнение причинило неисчислимые убытки, особенно коммунальному хозяйству. Уничтожены почти целиком все труды революционных лет и последнего строительного сезона. Больше всего пострадали мостовые – торцевые и булыжные. Снесено 19 мостов из 214. Смыта Стрелка на Елагином острове. В Летнем саду погибло 550 вековых деревьев. Испорчено 120 трамвайных вагонов. Затоплено 2040 строений в Петроградском районе, 1460 – в Центральном, 912 – на Васильевском острове, 660 – в Московско-Нарвском районе, 80 – в Выборгском, 67 – в Володарском. Более 15 тысяч семей были вынуждены покинуть свои квартиры. Разлито 1200 пудов нефти. Из больших предприятий больше всего пострадали заводы «Красный путиловец», «Русский дизель», кабельный, морской порт, где затонули или выброшены на берег 40 судов с лесом и другими грузами. Весьма пострадали архивы Главного штаба и Петропавловской крепости. Из железнодорожных линий особенно повреждена Сестрорецкая. Окончательные убытки составили 130 миллионов рублей или 10 процентов стоимости основных фондов ленинградской промышленности (согласно данным Научно-исследовательского института коммунального хозяйства, опубликованным в 1933 г.).
Создан фонд помощи Ленинграду. Редакции газет «Известия» и «Ленинградская правда» выделили соответственно 10 тысяч и 1 тысячу рублей для помощи ленинградскому пролетариату и пострадавшим рабочим. Открыт прием добровольных пожертвований, но частная благотворительность запрещена. 10 тысяч рублей выделено для организации бесплатного питания. Служащие и сотрудники «Известий» пожертвовали свой однодневный заработок. Моссовет передал Ленгубисполкому 100 тысяч рублей. В Ленинграде объявлено, что никаких отсрочек платежей по налогам не будет, и все силы мобилизованы для нажима на налогоплательщиков. Дано указание о приеме заявлений по возмещению убытков от частных лиц.
К 26 сентября в городе отмечено увеличение числа заболеваний брюшным тифом, бронхитом и воспалением легких (до ста случаев в день).
«Количество единичных жертв» осталось невыясненным. Официально сообщалось, что погибло семь человек, причем указывались даже районы: «…в Центральном – два, в Петроградском – два, на Васильевском острове – три». В газетах же печатали, что «в больницу Эрисмана на Петроградской поступило несколько трупов, в Выборгском районе обнаружено пять погибших, на Сестрорецком пляже найдены утонувшие, преимущественно мужчины, некоторые в матросской форме…». Более чем через шестьдесят лет после наводнения известный гидролог А.А. Соколов назвал цифру, в которую тяжело поверить: «23 сентября 1924 года погибло около 600 человек…». [56] [56]
Соколов А.А.Вода: проблемы на рубеже XXI века. Л., 1986. С. 139.
[Закрыть]
Наблюдения за гидрометеорологическими явлениями, измерения метеорологических параметров, их обобщение, составление прогнозов погоды – вся эта работа к середине 1920-х гг. выполнялась Главной геофизической обсерваторией (ГГО).
Директорами обсерватории в разное время были выдающиеся ученые А.Я. Купфер, Г.Н. Вильд, М.А. Рыкачев, Б.Б. Голицын, А.Н. Крылов, А.А. Фридман.
К 1924 г. деятельность ГГО определялась декретом «Об организации метеорологической службы в РСФСР», подписанным В.И. Лениным 21 июня 1921 г. По этому документу, ГГО руководила «всем метеорологическим делом», составляла инструкции для всех метеорологических станций, осуществляла их контроль и инспекцию, хранила все подлинники наблюдений и измерений, держала связь с зарубежными гидрометеорологическими организациями. Кроме ГГО, никто, никакое ведомство не имело права вести метеорологическое обслуживание.
Несмотря на широкие полномочия, предоставленные декретом, возможности ГГО были ограничены, ее реальное положение было тяжелым. Катастрофическое наводнение 23 сентября 1924 г. в полной мере обнаружило все противоречия между словами и делами в то время.
По наблюдениям ГГО и данным гидрометеорологических станций северо-запада РСФСР, начало осени 1924 г. в Ленинграде и окрестностях отличалось изменчивой погодой. Прекрасные дни «бабьего лета» сменялись ветреными и ненастными. На Балтике и Финском заливе 10—12 и 18—19 сентября отмечались штормы.
В Ленинграде 19 сентября наблюдалось редкое явление – смерч, вызвавший разрушения, хотя и в ограниченной зоне Васильевского острова. Погибла женщина, несколько человек было ранено. Вода в Неве поднялась до четырех футов, т. е. опасной пятифутовой отметки не достигла. Но на Адмиралтействе в ночь на 20 сентября горели предупредительные зеленые штормовые огни.
В неустойчивых условиях смены сезонов прогнозы погоды затруднены и в настоящее время. Прогноз ГГО на 23 сентября 1924 г. был опубликован накануне («Вечерняя Красная газета») и утром этого дня («Ленинградская правда»): «Предполагается следующая погода – температура от +15° до +7°, уменьшение облачности, возможны отдельные дождевые шквалы западной четверти. Опасение за наводнение отпадает. Вода вряд ли поднимется выше 4-х футов».
В дальнейшем, когда анализировалось наводнение, ГГО утверждала, что в первой половине дня 23 сентября на основании синоптической карты за семь часов утра было составлено уточнение о возможности подъема воды к вечеру того дня до 6 футов. В печать оно не попало, не говорилось также, было ли оно передано городским властям и другим потребителям.
Таким образом, прогноз ГГО с заблаговременностью около суток был совершенно ошибочным как по высоте наводнения, так и по общему характеру погоды. Уточнение с заблаговременностью примерно шесть– восемь часов верно указывало на тенденцию о ходе уровня, но не предполагало достижения катастрофической отметки.
Официальных заявлений по поводу ошибочного прогноза ГГО не последовало. В сообщениях с пленума Губисполкома, с различных заседаний и совещаний лишь отмечалось, что «наводнение оказалось неожиданным… обсерватория не допускала возможности наводнения… метеорология не относится к точным наукам…».
Но прогноз прослужил поводом для жесткой критики в печати деятельности ГГО в целом. 25 сентября «Ленинградская правда» опубликовала статью «Преступная ошибка». Ее автор – профессор Каменыциков, член Ленсовета – недолгое время в начале 1920-х гг. был директором обсерватории. Приведем выдержки из нее.
«Разве не преступление давать такие неверные предсказания по такому серьезному поводу, как наводнение? Никто не стал бы винить обсерваторию, что она не сумела вовремя предсказать наводнение. Но все мы, кому дорого наше советское строительство СССР, будем винить ее за то, что она обнадежила население в этот серьезный момент в категорической форме… Смотрели ли когда-нибудь на небо сотрудники обсерватории? Видимо, они совершенно не считаются с местными признаками. Видимо, все делается в обсерватории по-бюрократически. Рабочему государству нужно дело! Пора бы Главнауке обратить внимание на характер предсказаний ГГО. Они в огромном большинстве случаев не оправдываются, вводят в заблуждение руководящие государственные органы и причиняют нашему Союзу огромные убытки, вводят наш Союз в напрасные расходы. Нужно запретить ГГО давать предсказания и назначить особую следственную комиссию из партийных научных работников для проверки методов работ обсерватории, так как она совершенно не удовлетворяет своему назначению быть обсерваторией в нашем рабочем государстве». Публикация сопровождалась комментарием: «Редакция дает место поступившей поздно ночью статье тов. Каменыцикова, считая затронутый вопрос крайне важным и требующим дальнейшего выяснения».
Были созданы комиссии, начались разбирательства. Появились разъяснения о методике составления прогнозов, состоянии дел и материальном оснащении ГГО.
Газеты подробно освещали ситуацию: «Как предсказывается погода?.. Составляются карты за три срока в сутки -7 часов утра, 1 час дня, 9 вечера. Наблюдения на станциях в России – 3 раза, за границей – 4 раза. Срок предсказаний: у нас – двое суток, у них – сутки. Дежурства в ГГО отсутствуют, занятия идут с 9 утра до 3-х дня из-за малой зарплаты: физик получает 9 р. в месяц. (Должность физика соответствовала нынешней должности старшего научного сотрудника; обед в рабочей столовой стоил 50 копеек. – К. П.)На основании карт физики, подобно врачам у кровати больного, высказывают свои предсказания. Так же, как у врачей, мнения часто расходятся. Из всех возможных решений останавливаются на самом вероятном. В результате в газетах помещается то или иное предсказание. Как и врач, говорящий, что больной умрет, иногда ошибается, так ошибается и метеоролог… Наблюдения над местными признаками оказывают мало пользы для решения вопроса о наводнении. Для последних необходимо знать точно уровень воды и движение ветра по побережью Балтийского моря. Этих сведений ГГО получить не может, так как здесь отсутствует взаимность. Еще беда – плохая связь. Лишь с мая 1923 г. установлен радиоприемник, но он один и притом кустарный. Необходимы три и соответствующее количество персонала… Во время наводнения обсерватория вследствие порчи телефона и телеграфа не могла посылать данные, ни вызвать кого-либо. Часовой механизм уровнемера оказался залитым водой и остановился вблизи пика воды… Работники ГГО тяжело переживают свою ошибку, неизбежную или небрежную – выяснится впоследствии. Чувствуется, что перед вами один обнаженный клубок нервов, каждое прикосновение к которому вызывает острую боль. В роковой день персонал не покидал своих постов с 9 утра 23 сентября до 3 ночи 24 сентября. Суд решит беспристрастно, насколько верны и неверны предсказания ГГО вообще…».
Главнаука и ее ленинградское отделение заседали и решили: «…ГГО допустила недопустимую самонадеянность, ее работники проявили халатность, но не преступную небрежность, а узкую педантичность… Просить об отпуске средств на содержание ГГО, которая находится в крайне бедственном положении, как в отношении научного персонала, так и в отношении постановки своей научной работы…»
Ошибочный прогноз высоты наводнения вызвал заслуженные нарекания. Они, однако, были не слишком многочисленны на фоне обширной информации о наводнении и его последствиях. Более того, нигде не было указаний об убытках, связанных непосредственно с неудачным прогнозом, тогда как свидетельств бесхозяйственности, неподготовленности, разгильдяйства приводилось множество. Почти все пострадавшие предприятия содержали производственные мощности и выпущенную продукцию на заливаемых низких территориях. Даже наблюдая подъем воды, там не принимали мер к предотвращению убытков. Как всегда, сильно пострадали подвальные помещения, где жили люди, причем самые необеспеченные, и хранились ценности. Власти не решили проблем подвалов, о которых предупреждали градостроители, гидротехники, метеорологи в течение всей истории города. Не решены они полностью и до настоящего времени. Хотя использование подвалов под жилье существенно сократилось, в них по-прежнему размещаются склады, хранилища, производственные и хозяйственные помещения. Уместно заметить, что такое положение чревато большими убытками при особо опасных и тем более катастрофических наводнениях. Впрочем, увеличение материальных потерь от наводнений отмечается почти во всех развитых странах из-за стремления максимально использовать прибрежные территории. Правда, число человеческих жертв уменьшается, причем в значительной мере благодаря заблаговременным и надежным прогнозам.








