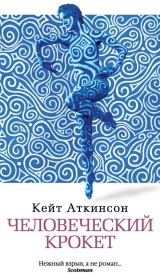
Текст книги "Человеческий крокет"
Автор книги: Кейт Аткинсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Тебе не кажется, – он таращится, глаза вот-вот выпрыгнут, и в задумчивости подбирает слова, – будто вот-вот что-то произойдет?
– Нет, – вру я, потому что нечего ему потакать.
– Я в «Базилике» просто время тяну, – объясняет Чарльз свою замечательно тоскливую внешнюю жизнь.
(И на какую же оценку он это время тянет? Хорошо с минусом? Удовлетворительно с плюсом? Он бы поостерегся, не то однажды время поставит ему свои оценки. «Охти, уж это точно, – говорит миссис Бакстер. – Час расплаты настанет как пить дать».)
Еще у Чарльза водятся хобби – нормальных не ждите, никакой филателии или созерцания птичек, что обычно занимают пригородную молодежь; нет, Чарльз помешан на загадках необъяснимого – инопланетяне и летающие тарелки, исчезнувшие цивилизации, параллельные вселенные и путешествия во времени. Его увлекает жизнь других измерений, он тоскует об иных мирах. Вероятно, потому, что от жизни в этом мире ему никакой радости.
– Они где-то там, – изнывает он, глядя в ночное небо. («Там и останутся, коли ума хватит», – фыркает Винни.)
Его конек – таинственные исчезновения; он одержимо протоколирует их в разлинованных блокнотах, страница за страницей, округлым детским почерком, каталогизирует пропавших – от кораблей и смотрителей маяков до целых пуританских колоний в Новом Свете.
– Роанок, – говорит он, сверкая глазами, – целая пуританская колония в Америке, исчезла в тысяча пятьсот восемьдесят седьмом. Родили первого белого ребенка на континенте – и он тоже исчез.
– Ну так их всех небось краснокожие перерезали? – говорит Кармен (Макдейд, подруга моя), листая его блокнот.
Кармен не подозревает, что на свете возможны фразы, в которые одновременно влезают слова «частная» и «собственность».
Чарльз ищет закономерностей. Многочисленные суда – корабли в открытых морях без никого на борту и лодки, уплывшие в никуда по Миссисипи, – пали жертвами не опасностей водных странствий, но инопланетных похищений. Тенденция («Ну, вообще-то, двое», – неохотно признает Чарльз) мальчиков по имени Оливер пропадать по пути к колодцу, число фермеров-южан, исчезнувших при переходе через поле, – писатель Амброз Бирс об одном таком инциденте сочинил эссе под названием «Попробуй-ка перейти поле» («А потом и сам исчез,Иззи!»), – все это сплетается в обширный иномирный заговор.
Больше всего его завораживают – неудивительно, если учесть склонность наших родителей исчезать, – истории о людях: развеселая дамочка пошла прогуляться по городу, человек побежал из Лемингтона в Кавентри, посреди наиобыкновеннейшей жизни люди вдруг испарились – и след простыл.
– Бенджамин Бэтхёрст, Орион Уильямсон, Дороти Арнольд, Джеймс Уорсон [9]9
Бенджамин Бэтхёрст (1784–1809?) – английский дипломат, исчезнувший 25 ноября 1809 г. в Германии; по данным новейших исследований, почти наверняка был убит. Орион Уильямсон – фермер из Селмы, штат Алабама, в июле 1854 г. (якобы) исчез на глазах родных посреди собственного поля. Дороти Хэрриэт Кэмилл Арнольд (ок. 1884–1910?) – американская светская львица, исчезнувшая в Нью-Йорке – по всей вероятности, в Центральном парке. Джеймс Уорсон – герой рассказа американского журналиста и писателя Амброза Бирса «Неоконченная гонка» (An Unfinished Race);в рассказе говорится, что в 1873 г. Уорсон, будучи навеселе, на спор побежал с курорта Лемингтон в Кавентри, по дороге споткнулся, громко закричал, падая, и исчез на глазах у своего спутника, не успев коснуться земли.
[Закрыть]– любопытная литания, жертвы всемирного ластика – раз и нету! – Чарльз щелкает пальцами, точно фокусник-недоучка, одна ярко-рыжая бровь вздернута в мультяшном изумлении (уместном либо не очень), к которому Чарльз прибегает почти в каждом разговоре. Будто невидимая рука выдернула людей из жизни. – Развоплощение, Иззи, с кем угодно может случиться, – с жаром продолжает он, – в любую минуту.
Малоутешительно.
– Шизанутый братец у тебя, – говорит Кармен, так яростно всасываясь в мятую мятную конфету, что щеки западают. – К мозгоправу пускай сходит.
Но на самом-то деле вопрос в том, куда подевалисьвсе эти люди, которых след простыл. В одно и то же место? «След простыл» – это вряд ли правильно, наверняка этот след без конца топчут звери, дети, взрослые, бороздят корабли, аэропланы, всякие Эми и Амелии. [10]10
Имеются в виду Эми Джонсон (1903–1941) и Амелия Мири Эрхарт (1897–1937). Эми Джонсон – британский авиатор, совершила несколько уникальных одиночных перелетов (в том числе из Великобритании в Австралию в 1930 г.), во время Второй мировой войны служила в авиации и погибла на задании; самолет упал в устье Темзы, тела летчицы так и не нашли. Амелия Мэри Эрхарт – пионер американской авиации, первая женщина, перелетевшая Атлантический океан; пропала во время кругосветного перелета 2 июля 1937 г. на подлете к тихоокеанскому острову Хоуленд.
[Закрыть]
– А вдруг мама не сбежала? – размышляет Чарльз, сидя у меня в ногах и глядя на синий квадрат неба в окне. – Вдруг она просто развоплотилась?
Я замечаю, что здесь вряд ли уместно слово «просто», но понимаю его – если так, значит, она не бросила детей (нас) по доброй воле, не оставила одних, позабытых и позаброшенных, в холодном жестоком мире. И тому подобное.
– Чарльз, закрой рот. – Я прячу голову под подушку. И все равно его слышу.
– Инопланетяне, – решительно объявляет Чарльз, – всех этих людей похитили инопланетяне. И маму тоже, – пригорюнивается он. – Вот что с ней произошло.
– Ее похитили инопланетяне?
– Ну а что? – храбро упорствует Чарльз. – Все возможно. – (Однако что возможнее – мать, похищенная инопланетянами, или мать, удравшая со своим красавцем-мужчиной?) – Конечно инопланетяне, – считает Чарльз.
Я сажусь и покрепче заезжаю ему по ребрам, чтоб умолк. Столько лет прошло (одиннадцать), а Чарльз все никак не отпустит Элайзу.
– Чарльз, иди отсюда.
– Нет-нет-нет, – отвечает он, и глаза у него горят положительным безумием. – Я чего-то нашел.
– Чего нашел?
Еще только восемь утра, и Чарльз в пижаме – бело-малиновой полосатой фланели, под воротником ярлык «12 лет», но Чарльз из этой пижамы так и не вырос. Если его похитят инопланетяне, чему они поверят – тому, что он скажет, или тому, что на ярлыке? Он, кажется, забыл, что у меня сегодня день рождения.
– У меня сегодня день рождения, Чарльз, – говорю.
– Да-да, глянь. – Из полосатого нагрудного кармана он достает что-то обернутое носовым платком. – Вот чего нашел, – шепчет он, будто в церкви, – в ящике, в глубине.
– В ящике? – (Значит, не подарок.)
– В серванте, скотч искал. – (Для подарка, надеюсь.) – Глянь! – волнуется он.
– Старая пудреница? – недоумеваю я.
– Ее! – торжествует Чарльз.
И спрашивать не нужно, кто такая эта «она», – об Элайзе он всегда говорит особым тоном, благоговейно и таинственно.
– С чего ты взял?
– Тут написано. – И он сует пудру мне под нос.
Дорогая пудреница, но старомодная, тонкая и плоская, тяжелый золотой диск. На крышке ярко-голубая эмаль, инкрустация – жемчужные пальмы. Замок по-прежнему тугой, открывается со щелчком. Пуховки нет, зеркальце запорошено, а посреди лужицы пудры – плотной бледно-розовой – протерт серебристый кружок.
– Ну и чем докажешь? – не уступаю я, и он забирает у меня пудреницу, переворачивает, и почти невидимый снежок присыпает стеганое покрывало.
– Глянь.
Золотое подбрюшье пудреницы исчерчено тонкими кругами, на нем гравировка. Я подношу пудреницу ближе к квадрату синевы и разбираю ходульное послание:
Моей дражайшей супруге Элайзе по случаю ее двадцать третьего дня рождения.
От любящего мужа Гордона. 15 марта 1943 года.
На миг перед глазами все плывет, хотя я сижу на постели. Не в пудренице дело, не в послании, а в этой розовой пудре: она сладко пахнет древностью, пахнет взрослыми женщинами, и в ней – без тени сомнения – дрожит многозначительная нота, запах грусти, L’Eau de Melancholie,что безутешно бродит за мною по пятам.
– Ну, короче, – говорит Чарльз, – ясчитаю, это ее, – угрюмо сует пудреницу в карман и отчаливает, так и не поздравив меня с днем рождения.
Чуть позднее Гордон просовывает голову в дверь моей спальни, старательно улыбается (и все равно у него получается удрученно) и говорит:
– С добрым утром, новорожденная.
Про пудреницу я не упоминаю: Гордон лишь глубже погрузится в пучины уныния, да и вряд ли пудреница напомнит ему о первой жене – ему о ней ничто не напоминает. Может, за семь лет на Другом краю света инопланетяне стерли ему память об Элайзе? (Надо ли говорить, что это теория Чарльза.) Впрочем, перед нами ведь человек, который и себя-то забыл, не говоря о близких. («Но ведь это замечательно, что ваш папочка жив и здоров? – говорит миссис Бакстер. – Это же… – она подбирает слово, – чудо чудесное!») Однако, вернувшись – запросто войдя в дверь, как Анна Феллоуз в 1899 году, – он прекрасно помнил, кто мы такие. («Чудо чудесное, – сказала миссис Бакстер, – столько лет прошло, и он вдруг вспомнил, кто он такой!»)
Он протягивает мне чашку чая и говорит:
– Подарок потом вручу. – И слова его жизнерадостнее тона (с моим отцом вечно так). – Чарльза не видела?
Это тоже такая отцовская странность – вечно спрашивает у одних людей, где другие люди. «Не видала Икса? Не знаешь, где Игрек?» – хотя искомого легко найти в его привычной среде обитания: Винни – в кресле, Дебби – в кухне, Чарльз погружен в Брэдбери или Филипа К. Дика, мистер Рис занимается неизвестно чем у себя в комнате. Как-то раз, вскоре после приезда, Дебби с тряпкой для пыли и политурой на изготовку властно постучалась к мистеру Рису, увидала, чем он там у себя занимается, развернулась и ретировалась.
– И чем? – приставал к ней Чарльз, но Дебби не желала отвечать:
– Я язык не распускаю.
Еще бы нос ей укоротить.
Меня найти легко: обычно я лежу на постели, изображаю мертвого Чаттертона, [11]11
Томас Чаттертон (1752–1770) – английский поэт, автор псевдосредневековых стихотворений. Умер от мышьякового отравления (вероятнее всего, покончил с собой). Самое известное его изображение – картина английского художника-прерафаэлита Генри Уоллиса (1830–1916) «Смерть Чаттертона» ( The Death of Chatterton,1856).
[Закрыть]убиваю время, поглощая книгу за книгой (я предпочитаю такие иные миры – других надежных пока не обнаружила).
– Я подозреваю, Чарльз у себя в комнате, – говорю я Гордону, а тот удивленно воздевает брови, словно ему и в голову не приходило искать Чарльза там.
Наверное, Гордон был бы рад, если б Чарльз достиг большего, но помалкивает. В конце концов, сам Гордон успешно достиг меньшего. Когда-то он был другим человеком, наследником нашего личного торгового состояния – патентованной бакалеи «Ферфакс и сын», но состояние давным-давно разбазарено по безалаберности. «Ферфакс и сын» ныне зовутся «Мэйбериз», в эту самую минуту преображаются в первый супермаркет Глиблендса и вот-вот понесут кому-то золотые яйца – не нам. А прежде, еще до бакалеи, Гордон был кем-то третьим (тоже в мифические времена – в 1941-м) – героем, летчиком-истребителем с медалями, даже фотографии есть. Когда-то Гордон сиял, Гордон светился, а из семилетнего странствия вернулся поблекшим, вовсе не «нашим папашей».
– Может, это и не папа вообще? – тихонько гадал тогда Чарльз. (И в самом деле, ни внешне, ни внутренне этот человек на папу не походил. Но если не он, тогда кто это?) – Кто-то притворяетсяпапой. Самозванец, – объяснял Чарльз. – Или как в «Захватчиках с Марса» [12]12
«Захватчики с Марса» ( Invaders from Mars,1953) – фантастический фильм американского кинорежиссера Уильяма Камерона Мензиса, в котором зеленые марсианские гуманоиды помещают людям в основание черепа устройства телепатического контроля и вынуждают устроить саботаж на ближайшем военном заводе.
[Закрыть]– тела родителей захватили инопланетяне. – А может, он из параллельного мира. Зазеркальный такой отец.
Или же просто Гордон вернулся после семилетней отлучки с новой молодой женой, а Элайза никогда не возвратится. Но нам такая реальность не по вкусу.
– Он вдовец, ваш отец, – на удивление поэтично отмечает Кармен. Хорошо, что не мертвец и не подлец. Но мы бы предпочли, чтоб он был счастлив наконец. – Может, он боец? – гадает Кармен. Да вообще-то, нет, не особо.
Малькольм Любет. Вот мое желание, если положено загадывать. Вот чего я хочу на день рождения и на Рождество, и всего наилучшего, – вот о чем я больше всего мечтаю в житейской тьме кромешной. [13]13
Цитата из сонета XVI «О своей слепоте» ( On His Blindness,ок. 1652–1655) английского поэта Джона Мильтона (1608–1674). Пер. К). Корнеева.
[Закрыть]
Даже имя его намекает на романтику и приязнь (Любет, а не Малькольм). Я его знаю всю жизнь – Любеты живут на Каштановой авеню. Малькольм вырос красавцем, высоким, спортивным, руки-ноги соразмерны – среди учеников глиблендской средней школы этот феномен встречается реже, чем вы думаете.
Девчонки от него без ума. Таких мальчиков ведешь знакомиться к матери (если она у тебя есть), таких везешь на Прыжок Влюбленных, целуешься и ломаешься в машине – да такие мальчики на все сгодятся. Все только и талдычат о том, какое у Малькольма Любета многообещающее будущее, он учится на медицинском при больнице Гая, а сейчас вернулся домой на пасхальные каникулы.
– Пошел по стопам отца, – кривовато улыбается он.
Отец у него гинеколог. «Извращенец» – таков вердикт Винни касательно данной специальности; у нее были «женские проблемы», лечилась у мистера Любета: «Ну какому мужчине охота совать руки в женщин? Извращенцу разве что». Интересно, что станется со мной и Чарльзом, если мы пойдем по стопам отца? Наверное, мы заблудимся.
Малькольм хочет стать нейрохирургом, – по-моему, такое же извращение; кому в здравом уме охота совать руки в чужие головы?
Бедный Малькольм, у него вместо матери людоедка. У него оба родителя – нетерпимые снобы; удивительно, как им удалось завести такого сына. Или неудивительно, – вообще-то, Малькольма усыновили. Любеты тогда были уже пожилые.
– По-моему, когда я появился, они не понимали, что со мной делать, – говорит Малькольм. – Я не пил джин и не играл в бридж. – Теперь научился и тому и другому.
Увы, сей принц, он вне моей звезды. [14]14
Аллюзия на «Гамлет» Уильяма Шекспира, акт II, сц. 2. Пер. М. Лозинского.
[Закрыть]
– Я даже не знаю, Из, – угрюмствует он; мы жуем чипсы. – Я вообще хочу врачом-то быть?
Вот ведь что ужасно – он меня считает другом.Он оглаживает темные кудри, отбрасывает их с прекрасного лба.
– Хороший ты друган, Из, – вздыхает он.
Я ему приятель, «друган», «кореш» – жестянка собачьего корма, а не представитель женского пола и уж явно не объект желаний. Я столько лет преданной шавкой шлялась за Малькольмом по древесным улицам, что в его глазах напрочь лишилась женских качеств.
Я снова погружаюсь в прерывистую утреннюю дрему – в школу не надо, и никакой день рождения не выманит меня из постели. Шансами уснуть не разбрасываются. В «Ардене» все спят неспокойно, все слышат, как перекликаются ночные часовые: совы скрипят, воют собаки.
– Еще не легла? – удрученно улыбается взъерошенный Гордон, среди ночи встретив меня на лестнице.
– Все колобродишь? – осведомляется Винни (раздраженная, с сеткой на волосах и в халате).
Когда просыпаюсь, небо закипает, в окне друг за другом гоняются белые облачные мазки, ветер дребезжит стеклом. Может, в день рождения со мной что-нибудь произойдет? (Помимо укола веретеном.) Я неохотно выползаю из постели.
Разумеется, можно было провести выходные с Юнис.
– Хочешь, – бойко предложила она, – поехали к нам в Клиторпс? Отпразднуем день рождения в трейлере.
Бойкая Юнис – последняя, кого я выбралабы себе в друзья, но друзей, разумеется, не выбирают – это они выбирают тебя. В первый же день, явившись в среднюю школу, Юнис вцепилась в меня, как моллюск, и с тех пор не отстает, хотя между нами нет ничего общего и я не оставляю попыток ее отодрать. Наверное, войдя в школьные ворота, она просто первым делом заметила меня. («Может, она зачарована?» – размышляет Одри.) Но Юнис не зачаруешь – она слишком здравомыслящая.
Очень невзрачная – белые гольфики, косой пробор, заколка, тяжелые очки в черной оправе. За пять лет ни чуточки не изменилась, только грудь больше не плоская, а на икрах черные волоски, будто ноги ей обклеили оторванными лапками целой паучьей колонии. Чувства юмора ноль, живет очень упорядоченно – из тех, кто перед сном выкладывает одежду на завтра, а домашку делает, едва вернувшись из школы. У меня другой порядок – я ложусь спать, не снимаяшкольной формы.
Юнис знает все на свете– и не надейся об этом забыть: почтового ящика или бездомной кошки довольно, чтоб Юнис пустилась в рассуждения об изобретении почтовых марок или эволюции саблезубых тигров. Щелк-щелк-щелк,говорит ее мозг. Он иначе устроен; мой, скажем, мозг – винегрет из живописи, поэзии и морских валов эмоций; если нырнуть в эту ментальную мешанину, можно случайным образом извлечь «Королевские идиллии», [15]15
«Королевские идиллии» ( Idylls of the King,1856–1885) – цикл поэм английского поэта Альфреда, лорда Теннисона (1809–1892), посвященный королю Артуру и рыцарям Круглого стола.
[Закрыть]утопление «Титаника» или смерть Старого Крикуна, [16]16
Старый Крикун (Old Yeller) – дворняга, центральный персонаж одноименного детского романа (1956) американского писателя Фреда Гипсона (1908–1973); Старый Крикун заражается бешенством, защищая хозяев от волка, и те вынуждены его пристрелить.
[Закрыть]а у Юнис мозг – как библиотечная картотека: непомерные горы фактов, четкая система поиска и справочная, которая никогда не затыкается. Щелк-щелк-щелк.
Она командир гёрлгайдов – школьной формы не видно из-под значков, – преподает в воскресной школе, поет в школьном хоре, вратарь в хоккейной команде, чемпионка школы по шахматам и любит вязать. Хочет стать ученым и завести двух детей, мальчика и девочку (вероятно, свяжет их крючком), а также надежного мужа с высокооплачиваемой работой.
Ее мать миссис Примул вечно повторяет:
– Ой, Юнис, ты друзей привела! – Всякий раз удивляется, что Юнис способна с кем-то подружиться.
Примулы живут на Лавровой набережной – так близко, что аж неуютно.
Примул, считаем все мы, – очень красивое имя, и ужасно жаль, что оно сочетается с Юнис, – ее ведь могли бы назвать «Лилия, или Роза, или Жасмин, или даже… Примула».
Это замечание адресовано Чарльзу за моим деньрожденным обедом – макароны с сыром; я пытаюсь пробудить в нем интерес к Юнис как девушке (взамен ее прежнего воплощения «смертоубийственная зануда»); я руководствуюсь принципом «из двух недоделков получится один доделанный».
– Маргарита, – непрошено вмешивается мистер Рис, – Ирис, Иви, Лиана… знавал я одну Лиану, – фыркает он. – Ничего так себе была… Вероника, Мальва, Фуксия… – (Нет на свете человека скучнее мистера Риса.) – Георгина, Гортензия…
– Солодка, горечавка, ламинария, – раздраженно перебивает Винни.
– Фло-ра, – мечтательно тянет Чарльз. – Очень красивое имя.
Мистер Примул, отец Юнис, – актуарий при свете дня, актер в ночи темной (это он так шутит). Руководит местным драмкружком «Литские актеры» и, дабы подчеркнуть свои артистические наклонности, на работу ходит в галстуке-бабочке, а дома нацепляет шелковый платок. Его улещиваниям я противлюсь – я не собираюсь вступать в их драмкружок, это дряхлая шушера, над которой все ржут, даже когда они играют трагедию. Особенно когда они играют трагедию. Недавно залучили к себе Дебби, но пока на сцену не выпустили. Видимо, даже у мистера Примула есть понятие о высоте планки.
Мистер Примул в свое время весьма эффектно изображал леди Брэкнелл.
– Ой, он все время что-нибудь такое репетирует, – говорит Юнис. – Я тут на днях застала его в мамином неглиже.
Это вот нормально? Но с другой стороны – что есть норма? Уж явно не семейство Кармен: Макдейды питают пристрастие к непринужденному рукоприкладству, и наилюбезнейшая беседа с ними рискует завершиться травмой – ударом в ухо, апперкотом в живот.
– Да уж, – говорит Кармен, щелкая жвачкой, точно хлыстом, – не фонтан, да?
Кармен худа как глиста, кожа восковая, желтая, почти прозрачная, синие вены проступают под ней, как на графике в кабинете биологии. Хуже всего ступни – тощие и плоские, с распяленными пальцами, несоразмерно огромные, а вены на них – как клубок железнодорожных развязок. Если у нее в шестнадцать такие ноги, что же в старости-то будет? Но вообще-то, она и сейчас уже старуха.
Кармен при первом же удобном случае бросила школу и обручилась с кряжистым пареньком, которого, хоть и не верится, зовут Хук, – он вполне сойдет за ее брата. У нее все будущее расписано – свадьба, дети, дом, долгая дорога к старости.
– Не очень-то романтично, а? – вякаю я, но она смотрит на меня так, будто я заговорила по-тарабарски.
Она работает продавщицей в сырном отделе «Бритиш хоум сторз», и я вынуждена ошиваться там часами – делать вид, будто мне позарез необходимы полфунта желтого чеддера.
Вроде неплохая работенка, я бы, пожалуй, и сама не отказалась сыром торговать. Голова между тем занималась бы чем пожелает – ничем особенным она обычно не занята, это правда, но мне нравится в одиночестве царствовать у себя в голове, я привыкла. Разумеется, может выйти и наоборот: и рассудок мой не будет блуждать в пустоте, а до краев заполнится сплошным сыром. Кармен подтверждает мои опасения – главным образом красным лестером, сообщает она, когда я прошу уточнений.
И бедная Одри, тихая скромница, ее не сразу и разглядишь – так она трепещет пред мистером Бакстером, чья черная сущность вечно реет поблизости. Может, вот как исчезают люди – не внезапно, как в необъяснимом мире Чарльза, где их таинственно выдергивают из жизни, но постепенно, день за днем, сами себя стирают.
Тело как у феи, волосы ангельские – Одри иллюзорна, вообще не от мира сего.
– Поешь что-нибудь, Одри, прошу тебя, – вечно взывает миссис Бакстер, порой даже ходит за Одри по комнате с тарелкой и ложкой, будто надеется застать дочь врасплох: вдруг та нечаянно откроет рот и удастся сунуть туда кусок.
Не удивлюсь, если однажды миссис Бакстер отрыгнет комочек пищи и сунет Одри в клювик. Одри которую неделю нездоровится, грипп, никак не оклемается, ползает по «Холму фей», кутаясь в огромные кардиганы и мешковатые свитеры, и печалится.
– Да что такое с Одри? – то и дело рявкает мистер Бакстер, будто она заболела ему назло.
Все мы какие-то помятые, внутри или снаружи. Ванда, тетка Кармен, работает на шоколадной фабрике и поставляет Макдейдам бесчисленные пакеты конфетных уродцев, отвергнутых контролем качества. Пастилки, которым не дается геометрия, – ромбы вместо квадратов; шоколадные вафли, родившиеся тройняшками, а не двойняшками; мятные конфеты с заросшими дырками. Я воображаю нас – Кармен, Одри, Юнис и себя, – и на ум приходят конфетные уродцы Ванды; наши девичьи тела отвергнуты контролерами.
Отчего нет у меня подруг нордической красоты – высоких, златовласых, нормальных? Как Хилари Уолш. Хилари староста в глиблендской средней – ее сестра Дороти раньше тоже была старостой. Сейчас Дороти в Глиблендском университете (основан Эдуардом VI, один из старейших в стране). Хилари и Дороти – высокие умные блондинки, обе словно явились из швейцарской доильни. Уж эти-то не исчезнут. Уолши живут в большом георгианском особняке. У мистера Уолша какой-то бизнес, миссис Уолш – мировой судья.
У Хилари и Дороти есть старший брат Грэм, тоже студент Глиблендского универа. Грэм арийскими чертами обделен – мельче, худее, смуглее сестер, словно чета Уолш на нем только упражнялась.
Мальчики-красавцы, будущие стоматологи и юристы, вылитый гитлерюгенд, вьются вокруг Хилари и Дороти, точно осы над банкой варенья, – жаждут исследовать сие биологическое совершенство. Мои шансы стать такой, как сестры Уолш, равны нулю. Рядом с ними я трубочист, нищенка, и кожа у меня как грецкий орех.
– Какие ужасно черныеу тебя волосы, Изобел, – однажды замечает Хилари (обычно она со мной вообще не разговаривает), пальчиком поглаживая фарфоровую («английская роза») щеку. – И какие темныеглаза! У тебя родители иностранцы?
Хилари держит своего белого пони на ферме за Боярышниковым тупиком, и порой я вижу, как она катается в поле вокруг леди Дуб. В утренней дымке Хилари натуральный кентавр – девушка и лошадь в равной пропорции.
Вот сейчас она медленно огибает леди Дуб – выездкой занимается. На ветвях у леди мелкие изумруды тугих почек. У друидов дерево – звено меж небесами и землей. Если забраться на леди Дуб, долезу ли я до небес, или обыкновеннейший великан-людоед, громыхая: «Фи-фай-фо-фам!» – сгонит меня обратно?
– С Днем дурака, – говорит Дебби (весьма не к месту), за обедом вручая мне подарок в обертке, и, не успеваю я насладиться сюрпризом, поясняет: – Красивая кофточка из «Маркса и Спаркса».
Если я апрельский дурак, тогда Чарльз, родившийся первого марта, вероятно, чокнутый мартовский заяц.
– Спасибо, – весьма нелюбезно бормочу я.
– Я просила собаку.
– Но у нас уже есть собака, – блеет Дебби, тыча в свою Гиги – карликового абрикосового пуделя, которого будто слегка подрумянили по краям; ни один волк не признает, что поучаствовал в эволюции этой твари.
Мистер Рис, в кои-то веки решив принести пользу, несколько раз устраивал покушения на Гиги – задушить, удавить, разорвать; увы, толку никакого. (В чем путешествует мистер Рис? В ботинках. Прежде Чарльз считал, что это уморительно.)
– Да господи боже мой, – говорит Винни, когда Дебби убирает у нее из-под носа водянистые макароны. Винни отнимает у нее тарелку.
– Вы ведь даже не едите, – негодует Дебби.
– И что? – ухмыляется Винни. (Из нее бы вышел отличный подросток.) – Это варево и собака есть не станет.
Дебби и впрямь стряпает чудовищно; трудно поверить, что в Новой Зеландии она закончила годичные курсы преподавателей домоводства. Что такое настоящая деньрожденная трапеза? Запеченный лебедь и грудки чибисов, ночки спаржи, листья артишока. И десерты, десерты, запеченные в форме замков и наряженные, как куртизанки, – утыканные мараскиновыми сосками и обернутые трубопроводом гирлянд из взбитых сливок. Я, впрочем, не утверждаю, что готова есть чибиса. Да и лебедя, если вдуматься.
Невзирая на препоны, Дебби цепляется за четкий шаблон семейной жизни, привезенный к нам четыре года назад, – его вырезали на каменных скрижалях и вручили ей люди под названием «мамуля и папуля». «Папуля» был школьным сторожем, «мамуля» – домохозяйкой, семья эмигрировала, когда Дебби исполнилось десять. Шаблон диктует наведение порядка в беспорядочном мире, что Дебби и проделывает посредством лихорадочных домашних хлопот.
– Выньте кто-нибудь ключик у нее из спины, – утомленно вздыхает Винни.
Я все жду, когда Дебби полезет в камин отделять чечевицу от золы.
«Арден» совершенно ее захомутал.
– Этот дом, – жалуется она Гордону, – живет своей жизнью.
– Не исключено, – вздыхает Гордон.
Дом, похоже, и в самом деле строит ей козни: Дебби покупает новые шторы – тотчас случается нашествие моли, Дебби кладет линолеум – стиральная машина организует потоп. Кухонная плитка трескается и отваливается, новые батареи отопления скрежещут, стонут и гремят в ночи, как банши. Дебби наводит в комнате чистоту, но, едва ступает за порог, пылинки вылезают из укрытия, перегруппируются на всех имеющихся поверхностях и хихикают, прикрываясь ладошками. (То, что незримо, приходится воображать.) Пыль в «Ардене», разумеется, не совсем пыль – это пудра усопших, хрупкая взвесь, ожидающая возрождения.
Дебби сажает овощи, а созревают морковки, смахивающие на корень мандрагоры, и зеленые картофелины. Тли и мошки роятся, как саранча, красная фасоль страдает карликовостью, капуста желтая, гороховые стручки пусты, газон убит, точно пустырь после бомбежки. А за изгородью у миссис Бакстер сад жужжит медоносными пчелами и зарос цветами – бобовые стебли щекочут брюхо облакам, каждый белый завиток на цветной капусте размером с дерево.
Бедная Дебби, и ее накрыло проклятие Ферфаксов, а именно: ничего хорошего никогда не выйдет, или, точнее, все выйдет плохо, едва тебе почудится, что, может, все выйдет хорошо.
– Ну, кто-то же должен это делать, – парирует Дебби, когда Винни осведомляется, так ли уж необходимо выйти из-за стола, чтобы Дебби его протерла, – а вы явно не собираетесь.
– Да уж, дьявол тебя дери, можешь не сомневаться, – отвечает Винни, но не встает, и Дебби приходится тереть вокруг, а Винни зубами цвета крокусов жует свою сигарету.
Винни всегда была героической fumeuse [17]17
Курильщица (фр.).
[Закрыть](она пропитана никотином насквозь), а в последнее время пристрастилась к самокруткам, и, куда ни пойдет, за ней сыплются ошметки «Золотой Виргинии».
– Какая гадость! – восклицает Дебби, натыкаясь на очередной бычок, из которого Винни высосала все жизненные соки. – Какая гадость! – восклицает Дебби, когда Винни приправляет табаком остатки макарон с сыром.
– Кто гадко поступает, тот и гадость, – загадочно бормочет Винни.
– Ну полно, полно, – миротворствует Гордон.
Ничего-то у него не выходит. Бедный Гордон. И глазом не моргнул, потеряв семейное состояние.
– Я и не хотел быть бакалейщиком, – говорит он, но хотел ли он стать конторской крысой отдела городского планирования в муниципалитете Глиблендса?
– При местных властях не прогадаешь, – подбадривает его Дебби, – пенсии, регулярные отпуска, может, по службе повысят. Как папулю. – («Куда повышают сторожей?» – недоумевает Чарльз.)
Чем Гордон занимался в Новой Зеландии? Он задумывается, удрученно улыбается:
– Овцеводством.
Единственное на всем белом свете, чего хочет Дебби, ей заказано. Дебби хочет ребенка. Судя по всему, она нерепродуктивна. («Бесплодна!» – каркает Винни.)
– Что-то с трубами не то, – поясняет Дебби (в менее библейских выражениях) всем и каждому. – Женские проблемы.
С трубами! Дебби – как большой водопровод, и вместо нервов, вен и артерий у нее внутри, наверное, колодцы, насосы и клапаны.
– Это все проклятие Ферфаксов, – утешает ее Чарльз.
Компенсируя бесплодность, Дебби жиреет. Она как большой мягкий пуфик на ножках. Обручальное кольцо вгрызается в палец, подбородков целый каскад. Ее неспособность плодоносить резко контрастирует с кошачьей империей «Ардена» (Винни – императрица), каковая разрастается в геометрической прогрессии.
Под столом Элеманзер, [18]18
Некоторые кошки Винни названы в честь якобы духов ведьмы, разоблаченной английским охотником на ведьм Мэттью Хопкинсом (1620–1647) в марте 1644 г. в городе Мэннингтри, Эссекс: Элеманзер, Пайуэкет (появлявшиеся, по словам ведьмы, в обличье бесенят) и Уксусный Том (борзая с бычьей головой).
[Закрыть]одна из кошачьих придворных Винни, в припадке злонравной игривости оборачивается вокруг щиколоток мистера Риса. Тот проворно пинает животину и ухмыляется мне:
– Сладкие шестнадцать лет, а? – стирая макаронный сыр с жирных губ.
Мистер Рис, жилец, который никак не уедет, в последнее время почти сблизился с Винни – каждый пятничный вечер они играют в безик и попивают мадеру.
– У них ведь нет физическихотношений, как думаешь? – в ужасе шепчет Дебби Гордону, а тот фыркает и хохочет:
– Когда рак на горе свистнет.
Мистер Рис сдавленно вскрикивает – кошка в отместку запускает когти ему в ногу, – но удушает вопль салфеткой, ибо с Винни лучше не связываться.

– Я пеку тебе торт, – объявляет Дебби.
В духовке неуправляемо булькает что-то чудовищное. В кухне – средоточие зла, здесь у нас колыбель теории хаоса: чайная ложка, упавшая в одном углу, в другом вызывает пожар на плите и падение вообще всего с полок.
– Чудненько, – говорю я и улепетываю в «Холм фей», а запах грусти дышит мне в затылок.
В саду на задах миную Гордона – он созерцает гигантскую бузину, разросшуюся прямо под домом. Теперь из окна столовой видна только она – бузина стучит и трясет листьями в окно, будто умоляет впустить, за ради бога. Гордон, а-ля философ-дровосек, опирается на громадный старый топор.
– Придется рубить, – печалится он.
Лучше бы поостерегся: по некоторым данным, бузиной иногда прикидываются ведьмы.
В «Холме фей» меня встречает запах поприятнее деньрожденного торта.
– Джем, – говорит миссис Бакстер, собирая медовую пену с сахарной массы, булькающей в большой кастрюле; джем цвета темного янтаря и растаявших львов. – Последние севильские, – грустно прибавляет она, словно эти Севильские – некогда славный, а ныне разорившийся знатный род. – Малка мешани в тавичке, – велит она мне, вручая длинную деревянную ложку, – и загадай желание. Давай желай, желай, – повторяет она, точно слабоумная фея-крестная.
– Любое?
– Абсолютно.
(Я, разумеется, загадываю секс с Малькольмом Любетом.)
– Могла бы вечеринку закатить, – говорит миссис Бакстер, – или поиграть.
Будь ее воля, мы бы целыми днями играли. У нее есть книжка «Домашние забавы» (миссис Бакстер ее очень любит) – реликвия стародавнего счастливого детства, там игры на любой случай.
– Игры в доме, – говорит миссис Бакстер, довольно кивая и помешивая джем, – ну, скажем, на Первое апреля? «Праздник Первого апреля, – читает она, – зачастую весьма занимателен, ибо кто же не любит дурака? Однако следует тщательно отбирать подходящих гостей». – (По-моему, вполне разумный совет.)
Одри нахохлилась за кухонным столом, аккуратным почерком старательно заполняет ярлыки – «Джем, апрель 1960», – и волосы обнимают ее лоб прозрачным нимбом червонного золота. Она поднимает голову и улыбается – чудесный кусок дыни, а не улыбка, неизменно подарок, точно солнышко выглянуло из-за хмурой тучи.
Сплошным золотым ливнем миссис Бакстер разливает горячий джем по блестящим стеклянным банкам. Миссис Бакстер запасливый хомяк, кладовая у нее набита всевозможным повидлом, желе и сырами – желе из диких яблок, терносливовый джем, клубничное варенье и бузинное, шиповниковый сироп и терновый ликер.








