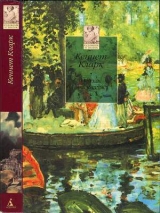
Текст книги "Пейзаж в искусстве"
Автор книги: Кеннет Кларк
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Эль Греко оставил нам один незабываемый пейзаж – «Вид Толедо» (ил. 60) из музея Метрополитен в Нью-Йорке. Это подлинно экспрессионистическая работа, картина состояния души самого Эль Греко, который к моменту ее написания настолько сроднился с этим городом, что становится понятным, почему Баррес считал ее выражением духа Толедо, хоть нам и ясно, что художник другого темперамента, но столь же сильного воображения сумел бы убедить нас в подлинности совершенно иного по характеру Толедо. Это удивительное произведение – исключение из всех правил, оно чуждо духу искусства Средиземноморья, чуждо пейзажу XVII века. Оно гораздо ближе романтизму XIX столетия, при том что Тёрнер не столь болезненно впечатлителен, а Ван Гог менее изобретателен, и в поисках аналогии следует обратиться к музыке романтиков – к Листу и Берлиозу. И все же пейзажи Эль Греко, как и все его творчество, представляют собой сложное сочетание византийских традиций и машинерии маньеризма. Одна из самых ранних его картин (около 1570) – пейзаж, в котором он откровенно использует стилизованные скалы византийской иконографии (ил. 61). Одна из последних (около 1610) – панорама Толедо в Casa Greco[29]29
Доме Эль Греко (исп.).
[Закрыть], представляющая собой типичный образец романтической картографии маньеризма, вплоть до таких атрибутов, как речное божество и карта, хотя художник и придал картине всеохватывающую ритмическую жизнь, отличающую ее от работ Эйтенса и прочих топографов-поденщиков того времени.

60. Эль Греко. Вид Толедо. 1610–1614

61. Эль Греко. Гора Синай. Ок. 1570
Композиционная схема маньеризма подготовила почву для одного из величайших пейзажистов – Питера Пауля Рубенса. Разумеется, его нельзя ставить в один ряд с художниками, которых мы только что рассматривали. Тинторетто едва ли стал бы тратить время на точную зарисовку формы одного-единственного листа, тогда как рубенсовские рисунки с натуры – в ряду самых чутких и внимательных штудий, когда-либо созданных. Куманика, покрывающая мертвый ствол и прорисованная до мельчайших подробностей, причудливо переплетенные заросли ивняка – все это передано с большой достоверностью и выглядит очень естественно. Среди рисунков Рубенса есть такие, что по тонкости передачи атмосферы могли бы встать в один ряд с рисунками Тёрнера, Моне и с живописью династии Сун; их отличает лишь большая жизненная энергия. И хотя эта изумительная мощь в фиксации деталей природы часто передавалась и в картинах Рубенса, его нельзя назвать живописцем реальности. Конечно, его пейзажи не подпадают под обвинение в «банальности изображения конкретного места», высказанное Фюзели. Нет в них ни литературности, ни оглядки на золотой век, который я назвал «веком Вергилия». Поэтому они и появляются в настоящей главе, при том что слово «фантазия» слишком слабо для описания их образного богатства и теплоты.
Как Шекспир переработал избитые темы елизаветинской драмы, так и Рубенс пылкостью воображения, неутомимой жизненной энергией и богатством живописного языка придал изношенной схеме маньеристического пейзажа новый блеск. Его ранние пейзажи – такие, как «Кораблекрушение Энея» из Берлина или «Филемон и Бавкида» из Вены (ил. 62), – по внешним признакам соответствуют модели, встречающейся, например, в гравюрах Брейгеля, но модель эта стала более сложной и динамичной. Ни в одном пейзаже страстное желание маньеристов удержать все формы в потоке постоянного движения не было столь блистательно реализовано, как в «Филемоне и Бавкиде». Но арки и спирали, при виде которых захватывает дух, подчинены рассчитанному с классическим чувством ритму горизонталей.

62. Питер Пауль Рубенс. Юпитер и Меркурий в гостях у Филемона и Бавкиды. 1620-е
«Водопой» из лондонской Национальной галереи представляет другую схему. Он написан с низкой точки зрения, и форма громоздящейся в центре массы – есть совершеннейший образец барокко. Ей приданы широкие размеренные колебания, изгибы и контризгибы, представляющие собой квинтэссенцию барочной архитектуры и сообщающие ей единство и силу, намного превосходящие капризные ритмы предшествующего стиля. Но в плане прочтения природы эта картина все еще принадлежит романтической традиции Севера. Деревья и подлесок изображены с невероятной пышностью. Они переплетаются и вздымаются, как некие чудовища; они – часть первобытного леса. Рубенс и сам распознал характер своего романтизма и выразил его в находящейся ныне в Лувре картине «Турнир у замка Стен» (ил. 63). Как и Альтдорфер, он видел связь между пейзажем фантазии и готическим прошлым и заполнил передний план картины рыцарями в доспехах. Глядя на любую из готических церквей Рена, можно подумать, что это либо конец рыцарской традиции – поэтического духа Ариосто, – либо первый пример готического возрождения; поразительное сходство картины Рубенса с Бонингтоном и Делакруа наводит на мысль, что второе толкование правильно. Над пейзажем позади замка повисло большое красное солнце, что характерно для более поздних работ Рубенса. До Тёрнера больше никто не писал таких богатых и разнообразных по цвету закатов: от огненно-оранжевых до таинственно-молочных, как в луврском «Пейзаже с сетью птицелова». Рубенс был большим мастером писать разъяренное небо. В «Филемоне и Бавкиде» собирающиеся тучи предвещают бурю; в «Кораблекрушении Энея» пылающий на далеком мысе маяк делает темные тучи еще более мрачными; самый яростный шторм изображен на картине из собрания Нойерберга[30]30
Я не видел оригинала и по цветной репродукции в «Die Landschaften von Peter Paul Rubens» Глюка (№ 17) не могу судить о его подлинности. Деревья вызывают слишком явные ассоциации с Сальватором Розой.
[Закрыть], где одни лишь устрашающие вспышки молнии освещают темный пейзаж. Здесь и в пейзаже в лунном свете из собрания Зейлерна Рубенс возвращается к тем ночным сценам, что так тревожили воображение Альтдорфера, Леонардо и Джорджоне.

63. Питер Пауль Рубенс. Турнир у замка Стен. 1638–1640
Ночь – не тема для натуралистической живописи. «Картина мистера Уистлера, – сказал Берн-Джонс на суде над Рёскиным, – всего лишь одна из тысячи неудачных попыток написать ночь». Большое пространство, покрытое темной краской, нельзя сделать убедительным только при помощи оптических приемов; его необходимо преобразовать в средство выражения поэтического вымысла. Около 1600 года, когда темнота была в большой моде, в Риме появился пейзажист с причудливым мироощущением поэта – уроженец Франкфурта Адам Эльсхеймер. Подобно Эдгару Аллану По, он был одним из тех художников, чье влияние на современников намного превосходит их собственные достижения. Рубенс, Рембрандт и Лоррен – каждый взял от него нечто такое, что определило их развитие, и, самое удивительное, каждый взял что-то свое. Эльсхеймер умер в Риме в 1610 году, проработав там последние десять лет своей жизни. Поэтому он освоил общепризнанный стиль римского пейзажа – стиль Бриля и Доменикино, но дух его – дух Альтдорфера. Он пишет классический ландшафт, но со странной, сугубо немецкой эмалевостью и интенсивностью света, чем возвращает нас во времена доальтдорферские – к Лукасу Мозеру, в Тифенбронн. Именно Эльсхеймер открывает новый этап в воплощении ночных фантазий столетней давности. В мюнхенской картине «Бегство в Египет» (ил. 64) эти фантазии подходят настолько близко к пределам достоверности, насколько это возможно в подобных сюжетах без жертвования элементом декоративности, который должен присутствовать в каждой картине. Тем, кто изучает английскую поэзию, нет нужды напоминать, что в начале XVII века она часто обращается к теме волнующей красоты ночи. В «Ромео и Джульетте», в «Сне в летнюю ночь» и даже в «Венецианском купце» есть поэтические сцены, которые венецианцы обычно называли notte[31]31
Ночь (ит.).
[Закрыть], подобно тому как Геррик и другие лирики для определения поэтического сюжета пользовались выражением «а night piece»[32]32
Ночная сцена (англ.).
[Закрыть]. В декорациях, выполненных Иниго Джонсом для маски сэра Уильяма Давенанта «Luminalia, или Праздник света», представленной перед Карлом I в феврале 1638 года, есть много общего с ночной лирикой и Эльсхеймером. Эскизы к этим декорациям сейчас находятся в Чатуорте; на одном из них изображена ночная сцена, которую исследователи творчества Иниго Джонса обычно связывают с посещением Рубенсом Лондона в 1629 году. В то время пейзажи Рубенса были выдержаны в явно маньеристическом стиле, и это, вне всякого сомнения, говорит о влиянии Эльсхеймера, чьи картины, офорты и рисунки уже имелись в кабинетах английских коллекционеров.

64. Адам Эльсхеймер. Бегство в Египет. 1606–1610
Если в XVIII веке, в эпоху зимней спячки воображения, пейзаж реальности выродился в топографию, то пейзаж фантазии приобрел живописность, точнее, тот вид живописности, который происходит от Сальватора Розы. Сегодня, когда позади остался целый век напряженного романтизма, трудно понять, почему мир вкуса так долго обольщался второсортным талантом Сальватора. Однако нам следует осознать, что, пусть и в более скромных масштабах, он был чем-то вроде Байрона. Он открыл новый оттенок чувства и изобрел риторическую форму, в которую его можно облечь. То, что чувства его были преувеличены, а средства их выражения банальны, и стало одной из причин его популярности. Живописцу, изобретающему реквизит, который можно употребить с пользой для себя, успех обеспечен; и средней руки художники XVIII века привыкли полагаться на banditti[33]33
Разбойников (ит.).
[Закрыть] и ветвистые ели Сальватора, как их преемники в 1930-х годах полагались на арлекинов и гитары Пикассо. Ни те ни другие не получили бы такого распространения, если бы не отвечали полуосознанным мечтаниям времени. Как сказал доктор Джонсон про Стерна: «Его нелепости соответствовали их нелепостям»[34]34
Сэр Эдвард Марш любезно указал на то, что это замечание, часто приписываемое доктору Джонсону, в действительности было произнесено Карлом II.
[Закрыть]. Нелепости, в которых нуждался XVIII век, были своего рода бегством от гнетущего рационализма, этим веком порожденного.
«Пропасти, горы, стремительные потоки, волки, грохот камней – Сальватор Роза». Это письмо молодого Горация Уолпола, где он описывает свой переход через Альпы, часто цитируется как пример одной из начальных вех романтического движения. И совершенно справедливо цитируется, ведь хоть Сальватор Роза и был источником всяческих живописных нелепостей, он же вдохновлял и на подлинную поэзию. Без него Александр Козенс не обрел бы стиля для изображения дикой природы в странных рисунках, напоминающих как Геркулеса Сегерса, так и художников эпохи династии Южной Сун. Александр Козенс был наставником романтика из романтиков Уильяма Бекфорда, а его сын Джон Роберт какое-то время состоял при Бекфорде личным художником. Так вот, именно швейцарские акварели Джона Роберта познакомили Тёрнера с альпийским ландшафтом. Благодаря Козенсу Тёрнер начал писать ущелья, ледники, лавины и снежные вершины задолго до того, как увидел их собственными глазами. Так величайший мастер буйного пейзажа оказывается связанным с романтическими маньеристами XVI века и завершает цикл, начатый Альтдорфером и Грюневальдом.
IV. Идеальный пейзаж
Прежде чем пейзажная живопись сделалась самостоятельным видом искусства, необходимо было выработать идеальное представление, под которым могли бы подписаться художники и теоретики искусства, жившие на протяжении трех столетий, следовавших за эпохой Возрождения. Радость подражания, которой довольствовались Альберти и Беллини, не удовлетворяла Ломаццо и братьев Карраччи. Пейзаж, как по содержанию, так и по композиции, должен подниматься до более высоких видов живописи, иллюстрирующих религиозные, поэтические или исторические сюжеты. А этого нельзя достичь элементарным введением небольшой группы фигур, разыгрывающих бегство в Египет или историю Эвридики: здесь необходимо передать настроение и характер всей сцены. Как поэтический язык происходит от обычной речи, так и составляющие картину черты следует искать в природе, руководствуясь их изысканностью, ассоциациями с древностью и способностью образовывать гармонические сочетания. Ut pictura poesis[35]35
Как живопись поэзия (поэзия подобна живописи) (лат.).
[Закрыть].
Два поэта античности – Овидий и Вергилий – давали пищу для воображения художников Возрождения. Овидий с его четким, подробным мифологическим описанием пользовался особой любовью авторов многофигурных композиций; Вергилий был вдохновителем пейзажа.

65. Джорджоне. Сельский концерт. Ок. 1508
Объясняется это как едва уловимым присутствием ландшафта в «Энеиде», так и мастерски сотворенным мифом об идеальной жизни на лоне природы. Его произведения демонстрируют непосредственное знание деревни, и многие гуманисты, начиная с Петрарки, управляли своими имениями, следуя советам, почерпнутым из «Георгик». Но этот элемент реализма соединяется с самым чарующим сном, какой когда-либо утешал человечество, – мифом о золотом веке, когда люди жили плодами земли, мирно, благочестиво, в первобытной простоте. Такое понимание ранней истории человечества является полной противоположностью тому, что породило пейзаж фантазии, и, если не ошибаюсь, определяется социологами как «мягкий примитивизм» в противоположность «жесткому примитивизму». Мы бы не устояли перед искушением назвать это поэтической правдой в противоположность правде научной, если бы не то обстоятельство, что представление об эволюционном характере нашего происхождения вдохновляло поэзию Лукреция и живопись Альтдорфера.

66. Джованни Беллини. Священная аллегория (Озерная мадонна). Ок. 1500
Хотя сон о золотом веке был наполнен формами и образами классической древности, он имеет нечто общее со снами позднеготического периода. В конце концов, был же Вергилий проводником Данте. Если бы тому, кто никогда не видел франкфуртский «Райский сад» (ил. 11), довелось прочитать описание этой картины с ее сидящими на траве фигурами, с ее цветами, с ее женщинами, склонившимися, чтобы набрать воды из колодца, и словно звучащей в ней музыкой, он вполне мог бы предположить, что речь идет о «Сельском концерте» Джорджоне (ил. 65). Огромная, почти шокирующая разница между этими картинами заключается в степени изменения чувства формы, которое произошло менее чем за сто лет; она демонстрирует неразрывную связь формы и содержания, поскольку изучение античной скульптуры, чему эти новые ритмы обязаны своим появлением, изменило настроение, можно даже сказать, философию всего произведения.
Итак, вергилиевский пейзаж – это, по существу, воскрешение античного мира с присущими ему полнотой жизни и культом тела, но его отличают и некоторые черты, древности не свойственные: полутона, робость взгляда. Предтеча такого пейзажа, прекрасная «Священная аллегория» Джованни Беллини (ил. 66) – потомок райского сада, но потомок весьма осязаемый, фигуры в этом саду дышат воздухом теплого летнего вечера. На переднем плане помещены святые, но амуры (хоть и христианизированные) играют вокруг Древа Жизни, а в пейзаже, одном из прекраснейших пейзажей кватроченто, за крестом притаился кентавр. Несмотря на священную тему, это действительно первый пример живописи, которую венецианцы называли poesie[36]36
Поэзия (ит.).
[Закрыть]; и картины такого рода должны были оказать решающее влияние на юного Джорджоне.
В эпоху расцвета материализма историки искусства, заявлявшие, что Хуберта ван Эйка не существовало, то же самое говорили про Джорджоне. При таком наукообразном подходе здравый смысл мог благополучно отрицать и существование вдохновения. Даже самые ранние пейзажи Джорджоне (ил. 67) – задние планы религиозных картин, написанных, когда он был почти мальчиком, – говорят об удивительном мастерстве. Задний план притягивает взгляд властно, прямо, но не прямолинейно.

67. Джорджоне. Испытание огнем младенца Моисея. Ок. 1505
Природные объекты, листья и камни переданы с необычайной точностью, здесь есть беллиниевское чувство драгоценности света. Но это уже не пейзаж реальности. Ландшафт, как говорил Патер, «тот, какой в Англии мы называем парковым ландшафтом, с едва уловимым изяществом сельских построек, ухоженной травой, с купами деревьев, с точно рассчитанной грациозной волнообразностью. Вот только в Италии природные объекты пронизаны золотой нитью, которая различима даже в клубящейся черноте кипариса». Именно этот золотистый свет и плавный ритм в очертаниях деревьев делает ранние пейзажи Джорджоне такими поэтичными. Развитию его природного лиризма способствовала близость к группе поэтов так называемого аркадского направления при дворе Катерины Корнаро в Азоло, расположенном невдалеке от его родного Кастельфранко, и особенно знакомство с таким арбитром классической элегантности, как Пьетро Бембо. Аркадский дух присутствует в Италии уже во времена Боккаччо, но своей наибольшей популярностью он обязан Саннадзаро и его «Аркадии», появившейся в 1490-х годах. Так, например, при входе в храм Палеса помещена одна из тех композиций, которыми пятнадцать лет спустя Джорджоне и Тициан украсят стены венецианских дворцов. «Над дверью, – говорит Саннадзаро, – мы увидим изображенные с редкостным мастерством необычайной красоты леса и горы с деревьями, густо покрытыми листвой, и множеством разнообразных цветов; среди них на зеленых лугах пасутся стада, охраняемые собаками числом около десяти; следы их различимы в пыли, на вид чрезвычайно достоверной. Что до пастухов, то одни доят коров, другие стригут овец, третьи играют на свирелях, а некоторые, кажется, поют, стараясь не разойтись с музицирующими. Но что мне было всего приятнее рассматривать, так это обнаженных нимф, полускрытых стволом каштанового дерева и смеющихся над бараном, забывшим про траву, что растет вокруг него, в неукротимом желании обглодать нависшую над ним дубовую ветку. И в этот момент появляются четыре рогатых и козлоногих сатира; они крадутся тихо, очень тихо, чтобы застать дев врасплох». Вот сюжет, который в течение последующих пятидесяти лет будет приводить в восторг венецианских художников. Саннадзаро предвосхищает сам колорит венецианских картин. «Был час, – пишет он, – когда закат украсил весь запад облаками тысячи цветов: одни из них фиолетовые, темно-синие, алые; другие – от желтых до черных; некоторые пылают огнем отраженных лучей и похожи на полированный диск чистейшего золота».
На картине из Национальной галереи кисти не самого Джорджоне, а одного из его ближайших последователей аркадский поэт восседает на троне (ил. 68). Он сидит подле лаврового куста, над ним, как над королевской особой, – балдахин. Музыкант на ступенях трона своей игрой вторит его песням, ученик держит традиционные подношения из фруктов и цветов. Перед ним «поэтические» звери: леопард и павлин. Они написаны в геральдическом стиле – на цветочном ковре, напоминающем пейзажи Пизанелло и показывающем, насколько такое поэтическое настроение близко рыцарственному духу бургундской готики.
Прямая связь с этим крутом поэтов сохраняется в четырех небольших сценках, иллюстрирующих одну из эклог феррарца Тебальдео и написанных под непосредственным влиянием Джорджоне. Тебальдео был близким другом Бембо и в Венето соперничал в популярности с Саннадзаро. В этой эклоге рассказывается традиционная история безответной любви Дамона к Амариллис, которую художник изображает с поразительной naivete[37]37
Наивностью, простодушием (фр.).
[Закрыть] и сосредоточенностью. Свет индивидуальности Джорджоне настолько озарил этого ремесленника, что в украшение небольшой шкатулки он включил чистейшие образы пасторальной поэзии. Кроме того, эти картины в упрощенной форме демонстрируют принципы нового аркадского пейзажа. По обеим сторонам находятся темные массы деревьев и скал, подобные театральным кулисам, оставляющим центр картины свободным. Даже фигуры, существующие как единое целое с пейзажем, иногда помещены сбоку; главное внимание уделено небу и далям. Эта композиция, совершенствуясь с каждой новой вариацией, стала отправной точкой искусства Лоррена. Известно, что она встречается и в одном из ранних произведений Джорджоне, в утраченном «Нахождении Париса», она же лежит в основе «Грозы» (ил. 69), квинтэссенции поэтического пейзажа, одного из самых показательных творений, несомненно принадлежащих Джорджоне.

68. Последователь Джорджоне. Почести поэту. XVI в.

69. Джорджоне. Гроза. 1505–1510
«Гроза» относится к тем произведениям искусства, перед которыми ученым остается лишь смолкнуть. Никто не знает, что изображено на этой картине; даже Микиель, писавший почти во времена Джорджоне, не сумел придумать ничего лучшего, как назвать ее «Солдат и цыганка»; и я считаю, у нас нет оснований сомневаться, что это вольная фантазия, разраставшаяся по мере работы над ней, нечто вроде «Кубла Хана»: исследование картин Джорджоне в рентгеновских лучах показало, что он импровизировал, внося в процессе работы изменения в свои произведения, и что в эту композицию первоначально была включена другая обнаженная женщина, моющая ноги в ручье. Подобная импровизация, столь отличная от практики более ранних художников, является характерной чертой искусства, которое сродни лирической поэзии. Если мы не можем сказать, каков смысл «Грозы», то в еще меньшей степени можем объяснить, каким образом она магически воздействует на наши умы. Ассоциативные ряды и композиционные находки этой картины чрезвычайно туманны, почувствовать их сможет лишь тот, кто целиком отдастся во власть ее настроения. С точки зрения здравого смысла в ней можно обнаружить столько же погрешностей, сколько шотландский обозреватель обнаружил в «Анадиомене», но, конечно, частично ее колдовская сила обусловлена отрицанием логики, странной разобщенностью фигур – кажется, они не замечают ни друг друга, ни приближающейся бури – и необъяснимым характером руин на среднем плане, которые просто не могли быть частью реально существовавшего здания. Все это несообразности сна, и если наш просыпающийся рассудок не отвергает их, то этому может быть лишь одно объяснение: предгрозовое освещение пейзажа ввергло нас в состояние повышенного возбуждения, в каком можно принять все, что угодно. По работам художников круга Джорджоне[38]38
Ср. дрезденский «Гороскоп», «Астролог», гравированный Джулио Кампаньолой, и «Сон», на который я уже ссылался. Возможно, венские «Три философа» Джорджоне имеют магическое значение.
[Закрыть] можно судить о том, что мысли автора «Грозы» часто обращались к традиционной магии, игравшей столь странную роль в позднем кватроченто, к языческой магии «Золотого осла» и безумной антикизирующей фантазии «Сновидения Полифила». Этот факт отнюдь не лишает смысла мой термин «вергилиевский», поскольку Вергилий и сам не был чужд колдовству и в эпоху Возрождения сохранял свою славу искусного волшебника, закрепившуюся за ним во времена Средневековья. Возможно, без этого ощущения опасности Джорджоне не удалось бы придать такую остроту своему видению абсолютной гармонии с природой – луврскому «Сельскому концерту». Это наивысшее выражение драгоценнейшего момента в истории европейского духа, момента, который, к нашему счастью, трактуется в шедевре художественной критики – эссе Патера о школе Джорджоне. Извлечение отдельных цитат из этой работы нарушает общую красоту ее поэтической ткани, но я должен напомнить, с какой интуицией Патер проводит связь между Джорджоне и подъемом итальянской музыки и показывает, в сколь многих картинах художников его школы присутствуют музыкальные темы. «Музыка, доносящаяся с берега пруда во время рыбной ловли, или сливающаяся со звуком кувшина, опущенного в колодец, или слышная вблизи журчащей воды и среди стад; настраивание инструментов; люди с внимательными, сосредоточенными лицами, похожие на тех, что описаны в остроумном фрагменте платоновской „Республики“, – они словно прислушиваются, чтобы различить малейшие интервалы в музыкальном звучании, почти неуловимые колебания воздуха; или мысленно проигрывают мелодию на инструменте без струн, когда ухо и палец сливаются воедино в бесконечном томлении по сладостным звукам; мимолетное прикосновение к инструменту, когда в сумерках проходишь через незнакомую комнату в случайной компании».
По-моему, именно эта музыкальность, это чувство, эта, говоря словами Патера, «жизнь, понимаемая как вид слушания», и отличает Джорджоне от его младшего современника Тициана. В юности плененный искусством Джорджоне Тициан предпринял попытку проникнуться его настроением и написал эклогу дивной красоты – «Три возраста человека» из коллекции Эльсмера. В восторженном взгляде девушки, смотрящей на своего обожателя, звучит отголосок музыки Джорджоне, и сначала он вводит нас в заблуждение. Однако неизбежное сравнение с «Сельским концертом» обнаруживает более внешний и материальный характер чувственности Тициана.

70. Тициан. Любовь земная и небесная. Ок. 1515
Самые законченные и совершенные из ранних пейзажей Тициана те, что простираются по обеим сторонам картины «Любовь земная и небесная» (ил. 70). Но в лицах двух Венер (а это именно Венеры) мы видим гордое, чувственное выражение, абсолютно не похожее на чистое, нежное, задумчивое выражение лиц на картинах Джорджоне. Это уже произведения честолюбивого, энергичного человека, короля живописцев, как справедливо называли Тициана старые критики. Своей притягательностью эта картина прежде всего обязана настроению пейзажа, которое достигается красотой вечернего света. До какой степени настроение пейзажа является главенствующим в живописи этого времени, показывает тот факт, что скопление зданий, идентичное виднеющемуся за земной Венерой, появляется на двух других полотнах этой группы и всякий раз задает тон всей картине. Однако в обеих картинах выбран скорее час восхода, чем заката, и здания изображены в зеркальном отражении. Одна из этих работ – дрезденская «Спящая Венера» Джорджоне, которая, без сомнения, была бы самой прекрасной картиной в мире, если бы не пострадала во время пожара и не подверглась значительной реставрации. Вторая – прекрасно сохранившаяся «Noli me tangere»[39]39
«Не тронь меня» (лат.).
[Закрыть] из Национальной галереи. Я придерживаюсь еретического мнения, что это одна из картин, начатых Джорджоне и после его смерти законченных Тицианом; я не могу отделить изображенный на ней пейзаж от пейзажа «Сельского концерта», а вся картина отличается нежностью, какой я не нахожу у Тициана. Для неоплатонических доктрин того времени характерно, что пейзаж, создающий общее настроение картины, без каких-либо изменений переходит из языческого сюжета в сюжет священный[40]40
Исследование рентгеновскими лучами показало, что в первоначальном рисунке этой картины Христос стоял в позе, взятой непосредственно от античной скульптуры Амура, ныне находящейся в венецианском Археологическом музее, а во времена Джорджоне бывшей в одном из венецианских частных собраний.
[Закрыть].
При том что Тициан был прежде всего портретистом и автором многофигурных композиций, деревья и горы, которыми он обогащал фоны своих картин, имеют огромное значение в истории идеального пейзажа, поскольку они представляют виды растительности, впоследствии используемые Лорреном и Пуссеном. Всякий, кто побывал в Кадоре, согласится, что Тициан до конца жизни сохранил память о местах, где прошло его детство. Скалистые холмы с массивными купами деревьев, стремительные ручьи, окутанные голубой дымкой горные дали – все это, запечатленное с присущей Тициану силой чувств, громоздится на небольшом заднем плане портрета. Изредка ему отводится больше места, и тогда мы понимаем, где берут свое начало пейзажи Карраччи. Большие охотничьи пейзажи Карраччи в Лувре – всего лишь более свободные и более насыщенные фигурами версии «Венеры дель Пардо», висящей напротив них; от утраченного «Мученичества св. Петра», наиболее часто копировавшейся картины в мире, происходит целая серия пейзажных композиций, наводнивших XVII столетие. Страсть Тициана к природе придает его пейзажам великолепную наполненность. Никто не мог превзойти его в изображении деревьев с их тяжелыми кронами и округлыми стволами, и неудивительно, что Пуссен и Рубенс, Констебл и Тёрнер видели в нем источник своего вдохновения. Но в отличие от Джорджоне, он не расширил протяженность пейзажной композиции. Его равнины по-театральному простираются одна за другой, его не слишком интересует тон, хотя в поздних работах, таких как «Похищение Европы», дали написаны с поистине восхитительной свободой. Чтобы понять тициановскую схему идеального пейзажа, нам следует рассмотреть многочисленные рисунки и гравюры, приписываемые Кампаньоле и подводящие нас ко времени Карраччи. На них в не меньшей степени, чем на картины самого Тициана, опирались болонские мастера, непрерывно продолжавшие традицию первых идеальных пейзажей.
Лучшие пейзажи Аннибале Карраччи, такие как в тимпанах Галереи Дориа, представляют собой замечательные произведения живописи, где удачно стилизованные части образуют гармоническое целое. Нетрудно распознать умение, с каким сооружен замок в центре картины «Бегство в Египет». В «Положении во гроб» даже различима нота подлинной поэзии, пусть едва слышная и несравнимая с той, которой почти в то же самое время Эльсхеймер умел наполнить аналогичные по стилю работы. Но в конце концов эти эклектические пейзажи представляют интерес только для историков искусства. Вся несправедливая критика, которую Рёскин напрасно обрушил на Лоррена, может быть с большим основанием отнесена к пейзажам Бриля и Доменикино. Они лишены радости восприятия реальности и поэтического чувства мощи и загадочности природы, но прежде всего в них отсутствует понимание объединяющей роли света; а без этих животворных качеств никакая идеализация не дает оснований признать пейзажную живопись самостоятельной художественной формой. Именно эти качества в не меньшей степени, чем тонкое чувство аркадской поэзии, помогли Лоррену донести до нас формальный язык своих предшественников во всей его свежести и живости.
Клод Желле, истинный наследник поэтичности Джорджоне, был по достоинству оценен при жизни и с тех пор пользуется заслуженным признанием, но он никогда не был легкой добычей для критика, и ни об одном другом великом художнике не написано так мало. Роджер Фрай, чье эссе в «Vision and Design»[41]41
«Видение и композиция» (англ.).
[Закрыть] до сих пор, остается лучшей после Хэзлитта работой, посвященной Лоррену, видел в нем простака, случайно добившегося успеха; и эта точка зрения сложилась, видимо, благодаря Пуссену, жившему в Риме одновременно с Лорреном и почти за сорок лет, проведенных в этом городе, ни разу не упомянувшему своего соотечественника, хотя благодаря Зандрарту нам известно, что они вместе работали. В отношении великого художника теория вдохновенного идиота почти никогда не бывает верна; рассматривая поразительные по своему разнообразию рисунки Лоррена, где в полной мере проявилась его тонкая наблюдательность, и понимая, что он был способен использовать весь этот материал, поставив его на службу поэтическому замыслу пейзажа, по-своему почти столь же идеальному, как у Пуссена, нам становится ясно, что Лоррен, несмотря на его бессловесность, не был обделен интеллектом.
Клод родился в 1600 году в Лотарингии и отправился в Рим в качестве кондитера. Нам известно, что в 1619 году он состоял помощником при живописце по имени Тасси. После краткой и неудачной поездки во Францию он возвратился в Рим, где и прожил безвыездно до смерти, последовавшей в 1682 году. Он имеет такое же право называться французским художником, как Сислей – английским. В отличие от Пуссена, о жизни Лоррена и датировке его ранних картин нам известно крайне мало, но мы располагаем краткой биографической справкой, оставленной его товарищем художником Зандрартом, который сопровождал его в ранних вылазках на этюды. Зандрарт рассказывает, что в то время изучение природы ограничивалось для Лоррена созерцанием восхода и захода солнца. «Впервые он встретил меня, – добавляет Зандрарт, – среди скал Тиволи. Я держал в руке кисть. Видя, что я пишу с натуры, он стал поступать так же и в результате создал работы поистине замечательные». Далее Зандрарт дает понять, что Лоррен не только рисовал, но и писал маслом с натуры, особенно дали. Как это непохоже на то, что нам говорят о пейзажах старых мастеров, да и первое знакомство с их картинами не создает впечатления работы с натуры; только внимательное изучение произведений Лоррена дает возможность увидеть то, что вряд ли можно было написать по памяти.








