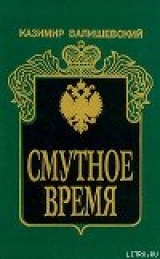
Текст книги "Смутное время"
Автор книги: Казимир Валишевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
После смерти Бориса московское правительство принуждено было пойти в этом направлении еще далее. Покрестная запись сыну венчанного выскочки не упоминает уже о Гришке Отрепьеве.[134]134
Собрание государственных грамот и договоров, II, 196.
[Закрыть] Она просто обозначает претендента «тем, кто называет себя Дмитрием Ивановичем», и, по свидетельству самого претендента,[135]135
Карамзин, XI, прим. 316.
[Закрыть] это двусмысленное изложение дела и побудило московское войско признать его сыном Грозного.
Наконец, Огареву в Польшу были посланы новые наказы, в которых предписывалось говорить не то, что прежде; мы найдем подтверждение этого в одном из тогдашних следствий по уголовному делу, в которое замешан был и архимандрит Чудова монастыря, обвиняемый, надо думать, в том, что он помог слуге одного из своих переписчиков бежать в Польшу и выдать себя там за царевича Дмитрия. В неясных выражениях и Огарев, кажется, упомянул об этом происшествии. А ведь архимандрит этот носил имя Пафнутия, и, по другим повествованиям, он-то именно и постриг будущего претендента в монахи.[136]136
Голубовский, «Исторический Вестник», 1902, V, 512 и след.
[Закрыть] По крайней мере такое совпадение любопытно.
Отвергаемое или пренебрегаемое в ту пору тожество «Лжедмитрия» с Отрепьевым снова было официально принято уже только после смерти этого искателя престола, последовавшей вскоре после его торжества. В это же время избранный царем Василий Шуйский повелел причислить к лику святых младенца, убитого по приказанию Годунова, а следовательно, мученика, смерть которого пятнадцать лет тому назад он сам же приписывал несчастному случаю, приключившемуся во время припадка черной немочи. Тот же Шуйский внушил новое жизнеописание Гришки, изложенное более тщательно и более обработанным слогом. Очевидно, не удалось подыскать другого бездельника, более подходящего к роли, которую так трудно выдержать; не нашлось и другой семьи, которая тоже согласилась бы приспособиться к столь неискусному обману. Составленное таким образом повествование в своей первоначальной редакции известно под именем Извета или Челобитья Варлаама.[137]137
Извет, или Челобитье Варлаама. Акты археографической экспедиции, II, 64.
[Закрыть] Воспроизведенное с многочисленными вариантами во множестве более поздних произведений,[138]138
Никоновская летопись, VIII, 54 и др. летоп., Русск. Ист. Библ., XIII.
[Закрыть] это повествование носит общий признак всех тогдашних документов официального и официозного характера: грубая наивность выдумки и наглое утверждение явно вымышленных или легче всего приходивших в голову обстоятельств. Вот краткое изложение «Извета».
В феврале 1602 года Гришка Отрепьев бежал из Москвы; за год перед этим, будучи 14 лет от роду, он принял монашество. Той порой, я хочу именно сказать, между этими двумя датами, он жил в одном из монастырей Ярославской области, затем в течение двух лет (sic!) проживал в Москве в Чудовом монастыре и, кроме того, более года состоял при патриархе. Официозную литературу не смущали подобные хронологические невозможности. С другой стороны, целый ряд точных и согласных между собою свидетельств[139]139
Hist. Russ. Mon. Suppl. стр. 410; Собрание государственных грамот и договоров, II, №№ 76, 79, 152; Lubienski. Opera posthuma, стр. 155.
[Закрыть] дает нам уверенность, что в феврале 1602 года уже прошло около двух лет, как претендент проживал в Польше. Но продолжение этого повествования вызывает в нас еще большее изумление и недоверие. Почему этот монах покинул Москву? Потому, говорят нам, что на него донесли патриарху, а затем и самому царю, что он выдает себя за царевича Дмитрия. Два года перед этим эта подробность не была известна патриарху: ведь, без сомнения, он не преминул бы упомянуть о ней в известной нам грамоте. Но мы можем сделать другое более веское возражение: как это не забрали Отрепьева, виновного в столь тяжком преступлении? Нам отвечают: по небрежности одного дьяка приказ привлечь его к ответу не был приведен в исполнение. Упущение во всяком случае изумительное. Но вернемся к повествованию. Итак, в феврале 1602 года, в понедельник на второй неделе великого поста – и официальные летописцы заботятся также о точности! – в Москве на Варварском крестце, монах Пафнутьева Боровского монастыря, – автор первоначального повествования – Варлаам Яцкий, встретил другого монаха. Это был не кто иной, как Гришка Отрепьев; в то время, когда его могли схватить по обвинение в государственном преступлении, он пригласил Варлаама сопровождать его в Киев, откуда они вместе могли бы предпринять паломничество в Иерусалим. Варлаам согласился, и монахи решили сойтись завтра же, но в другом месте; здесь они встретили третьего спутника, Михаила Повадина, в монашестве Мисаила, которого Варлаам знавал еще у князя И. И. Шуйского. Втроем они отправились в путь. В Киеве их гостеприимно приняли в Печерском монастыре, и они прожили здесь три недели; затем странники пошли в Острог, откуда князь послал их в Троицкий Дерманский монастырь. Но в ту пору Отрепьев покинул своих друзей и бежал в Гощу; здесь он скоро снял свое монашеское облачение, а в следующую весну исчез оттуда бесследно. Варлаам поспешил в Острог, чтобы принести на убежавшего жалобу; но ему ответили, что Польша страна свободы, что здесь нельзя мешать странникам идти куда им угодно. Впоследствии неукротимый челобитчик не побоялся последовать за своим прежним спутником до самого Самбора к Мнишекам. За такое непомерное рвение он чуть было не поплатился жизнью; но, каким-то чудом избежав смерти, он все-таки не утерпел и подал свое сообщение самому польскому королю. Его выпроводили, и вплоть до того дня, пока восшествие на престол Шуйского не развязало ему язык, он принужден был молча присутствовать при торжестве самозванца.
О. Пирлинг, присоединяясь неожиданно к утверждению тожества претендента с Гришкой Отрепьевым, был поражен совпадением, что и в этом повествовании и в рассказе самого «Лжедмитрия» были указаны одни и те же три места остановки, которые прерывали странствование бродяг-монахов – Острог, Гоща, Брагин. Но, чтобы извлечь какой-нибудь довод из этого совпадения, надо последовать примеру этого выдающегося историка и предположить, что Варлаам, писавшей в 1606 году, уже после своего пребывания в Самборе и в Кракове, где все, конечно, наизусть знали рассказ претендента, – ровно ничего не знал о нем. Мало того, если в Остроге у претендента, действительно, был товарищ монах по имени Варлаам, который впоследствии чуть было не погиб в Самборе, ничто еще не доказывает, что именно он был сочинителем пресловутого «Извета». Это даже совсем невероятно. Как это доказал Платонов, сочинение это было составлено значительно раньше, чем обыкновенно предполагали, не в конце 1606 года, а самое позднее летом. Дмитрий был убит в мае месяце того же года. Во время его смерти бывший его товарищ, должно быть, был далеко от Москвы, даже очень далеко: ведь, нет никаких следов, чтобы после своих распрей с претендентом, который восторжествовал, этот обличитель отважился приблизиться к столице. Каким же образом мог он очутиться тут так кстати и вручить Василию Шуйскому этот новый извет? Официально считается, что «Извет» его был подан новому царю в мае, через несколько дней после его восшествия на престол.
Легко можно согласиться с Платоновым, что «Извет» носит все признаки басни. И случайная встреча на Варварском крестце, и внезапное согласие Варлаама на странствование, о котором он и не помышлял, и присоединение третьего монаха, – все это явно писательский вымысел. И вымысел этот оказывается не всегда удачным. В Самборе Варлаама обвинили в том, что вместе с боярским сыном Яковом Пыхачевым он был подослан Борисом Годуновым, чтобы убить претендента. «Лжедмитрий» велел казнить Пыхачева, но пощадил его предполагаемого соучастника, которого впоследствии выпустила на свободу невеста претендента.
Этот роман, отличающийся скудостью воображения, сложен из отдельных кусков и отрывков, из позаимствований у разных сказаний и из грамот самого Дмитрия.[140]140
См. Бередников. Журнал М. Нар. Пр. 1835, VII, 119.
[Закрыть] И отрывки эти плохо согласованы между собой: так, из Москвы отправилось в путь трое монахов, а в Киев архимандрит Печерского монастыря Елисей насчитывает их уже четверо! Не спевшись между собой, сочинители не сговорились к тому же и с патриархом Иовом. По свидетельству Иова, после целого ряда приключений Гришка Отрепьев поступил в холопы в дом одного из Романовых, а эти летописцы утверждают, что, покинув четырнадцати лет родительский дом, он немедленно принял монашество. Впрочем, нетрудно объяснить эти противоречия: в 1605 году Иов еще не знал, что претендент был совсем юноша, а в 1606 году, стараясь исправить этот недосмотр, официозные повествователи ударились в другую крайность – ведь, по их расчету выходит, что «Лжедмитрию» во время появления его у Вишневецких было всего только семнадцать лет! Иов упоминает еще о пребывании Гришки Отрепьева в Запорожье, откуда пытался его вернуть архимандрит Елисей. Автор Извета отрицает это путешествие и обвиняет Елисея в покровительстве претенденту.
Мы находимся в каком-то лабиринте противоречивых и недопустимых утверждений, и нам не поможет выбраться из них находка, сделанная на Волыни, в Загоровской монастырской библиотеке. Найдена книга со следующей надписью: «Пожалована князем Константином Острожским в августе 1602 года монахам Григорию, Варлааму и Мисаилу», и тут же добавлена заметка, что Григорий – не кто иной, как царевич Дмитрий.[141]141
Записки С.-Петербургского Археологич. Общества, VIII, 12.
[Закрыть] Надпись и заметка писаны не рукой претендента, и сочинитель их пока неизвестен.
За неимением других средств, чтобы хоть сколько-нибудь приблизиться к исторической вероятности, мы вынуждены пользоваться указаниями, которые нам дают – грамота Иова, Извет, приписываемый Варлааму, совокупность легендарных сказаний, примыкающих к этим двум первым свидетельствам, и, наконец, изданные правительствами Бориса и Шуйского официальные документы; вот крайне сомнительные данные, из которых приходится делать приблизительно вероятные, правдоподобные выводы.
В Галичском уезде Ярославской области существовала древняя фамилия Нелидовых-Отрепьевых, захудалых и обедневших мелкопоместных дворян. Один из них, Богдан, имел сына Георгия, по-русски Георгия (уменьшительное имя – Гришка). Отец отправил его в Москву для обучения грамоте и письму; юноша оказался очень способным, но быстро развратился. Когда его прогнал из своего дома один из братьев Романовых, а затем и князь Черкасский, он принял монашество под именем Григория (уменьшительное – Гришка), – обычай требовал, чтобы имя монаха начиналось с той же буквы, как и имя, которое он носил в миру. Григорий быстро подвигается в чинах, его посвящают в дьяконы; как отличный переписчик, он поступает сначала к архимандриту Пафнутию, а затем и к самому патриарху Иову, – но он по-прежнему остается негодяем. Впрочем, не мешает усомниться в тех неблагоприятных сведениях, которые у нас имеются о нем, потому что по большей части они исходят из памятников памфлетического характера и, к тому же, заинтересованных в том, чтобы очернить этого козла отпущения. Может быть, кое-что следует урезать в них?
Таков один из героев драмы, а вот и другой. Историки, наиболее упорно отстаивающие тождество претендента с Отрепьевым, не могли устоять против очевидности весьма явного раздвоения этой личности; тщетно они усиливались сочетать в одном лице безусловно непримиримые черты наружности и данные биографии. Они придумывали самые необычайные комбинации, чтобы привести к единству эту неустранимую двойственность, но постоянно видели двух Отрепьевых. Эта двойственность принуждает нас допустить, что в этом деле участвовало двое монахов, совсем разных монахов, подобно тому, как у Петрарки было двое учеников – Иоанн Конверсан и Иоанн Мальпагино, которых долгое время смешивали под именем Джованни де Равенна.
В каком-то месте, которого нельзя в точности определить, может быть, в том же самом Галичском уезде, около того же времени оказался мальчик неизвестного происхождения. Его отвезли в Москву или, что еще вероятнее, в какую-нибудь из местностей на севере; здесь он встретил основателя Вятского монастыря, святого Трифона, который вопреки всем уставам церкви постриг его, четырнадцатилетнего, в монахи. Такая поспешность как будто указывает, что этого требовали настоятельные побуждения. Молодой монах переходит из одного монастыря в другой, но нигде не остается очень долго; это дает повод опять думать, что он спасается от какой-то опасности или старается замести свой след, и что у него есть могущественные покровители, которые помогают ему в столь юном возрасте так легко переходить с места на место и встречать везде радушный прием. Некоторое время он проживает в Чудовом монастыре в Москве; затем скрывается и снова начинает вести свою бродячую жизнь. В Чудовом монастыре он был келейником дьякона Григория; с прибытием этого странствующего монаха среди братии тотчас началось волнение. Согласно одному из первых повествований, предметом которого был претендент, Григорий в это время был занят собиранием сведений о смерти царевича Дмитрия. Что бы там ни думал об этом летописец, дьякон, принимаясь за этот труд, не мог не иметь в виду своего келейника, возраст которого соответствовал возрасту сына Марии Нагой. Немного времени спустя скрывается, в свою очередь, и Григорий; он достигает польской границы и в Киеве встречает своего товарища по келье.
Правительство Бориса было уже встревожено тем, что происходило в Чудовом монастыре. Теперь оно почувствовало еще большее беспокойство и, не имея возможности наложить свою руку на двух главных виновников, выместило свою досаду на архимандрите Пафнутии и сослало его на Белоозеро. Но беглецы уже начали действовать: Григорий, или Гришка, посетил Запорожье, – следы его посещения сохранились в шайке атамана Герасима Евангелика; потом он появляется у донских казаков; а товарищ его отправляется сначала в Острог, затем в Гощу, чтобы поучиться, и, наконец, в Брагин, где он начинает свое поприще искателя престола.
Во время их совместного пребывания в Киеве обнаруживается имя келейника. Один летописец упоминает о монахе Леониде, спутнике Гришки; а с другой стороны, Шуйский утверждает, что, начиная выдавать себя за царевича Дмитрия, Гришка уступил свое имя монаху Леониду, и тот согласился на такую замену.
Остается выяснить, кто такой был этот Леонид: быть может, самозванец, подготовленный в Московии к той роли, которую он столь блестяще должен был исполнить? Это совсем невероятно. Чтобы такая подготовка шла успешно, надо было обладать таким знанием людей и обстоятельств, какого не было во всем государстве Бориса. К тому же, этот самозванец мог быть только сознательным; ведь почти восьмилетний ребенок, которому Дмитрий, умирая в этом возрасте, завещал свою роль, уже сознает свою личность, хотя и не может сохранить точного воспоминания обо всем, что с ним происходило. А вся история претендента противоречит такому предположение. С начала до конца он проявлял слишком большую веру в свое предназначение и в свои права, слишком полную свободу в своих действиях. В нем не было ничего лицедейского.
Предполагали даже, что Леонид был, пожалуй, или один из незаконных сыновей Грозного, или ребенок одной из супруг этого государя. Насильно постриженные в монахини шесть или семь жен Ивана IV вели, конечно, в монастырях жизнь не строже той, образец которой, спустя целое столетие, оставила нам тоже постриженная первая супруга Петра Великого, Евдокия Лопухина. В смутное время появилось много истинных или мнимых царевичей, которые ссылались на такое происхождение. В одной из своих грамот второй Лжедмитрий насчитал их одиннадцать! Но свидетельству одного из самых ученых иконографов – Ровинского, претендент был похож на Ивана IV в старости. Но имеют ли какое-нибудь значение портреты того и другого, которыми мы обладаем? Один историк, рассматривая портрет «Лжедмитрия» – произведение Луки Килиана, – вынес такое впечатление, что «никому не пришло бы в голову дать взаймы человеку с таким скверным лицом».[142]142
Костомаров, «Русская Старина», 1876, XV, 5.
[Закрыть] Как же так? Разве Московия не повергла к стопам его все свои сокровища и не отдала свою судьбу в руки этого разбойника! А Килиан и не видал никогда своей модели.
Говорили, будто отцом претендента был князь Мстиславский; поводом для такого обвинения наобум послужил предъявленный «Лжедмитрием» крест и предание, согласно которому этот потомок Гедимина, сосланный Иваном IV, дал ему у себя приют в Польше. Но никто из Мстиславских не был никогда в Польше, а князь Иван Феодорович, сосланный в 1585 году, умер спустя год в Кириллово-Белозерском монастыре.[143]143
Карамзин. История Государства Российского, XI, 178.
[Закрыть]
Претендент был не Гришка Отрепьев; теперь, как и двадцать лет тому назад, история придерживается этого взгляда; и в глазах всех тех, кто видел истинного дьякона-расстригу в самом стане Дмитрия, он не мог возбудить никакого сомнения. Ведь претендент не отказался от этой другой очной ставки. На пути в Москву он призвал неисправимого бродягу в Путивль, водил его с собой и всем показывал. Предполагали, будто для этой роли он подыскал другого монаха, и что уже в Киеве Гришка велел одному из своих спутников принять имя Отрепьева.[144]144
Карамзин, XI, II, 75. Платонов. Древнер. пов. и сказ., стр. 36. Карамзин был введен в заблуждение ошибочной вставкой в тексте, которую он принял к сведению.
[Закрыть] Как будто он мог давать приказания в то время! Но от самого Путивля Гришка следовал за победоносным претендентом в Москву. Разве там возможно было не разглядеть подмены, если она действительно была? По-прежнему негодяй, этот бывший слуга Романовых скоро дает повод для его удаления из столицы; но куда же отправляет его претендент, который стал теперь царем? В Ярославль, – значит, в ту местность, где опять-таки все могли отличить истинного Отрепьева от ложного.
Что касается остального, то там нет ничего достоверного. Нам остается делать только предположения; некоторые я указал уже, а другие еще более выделятся из продолжения моего повествования. Исследуя вопрос о личности претендента и также о его таинственных покровителях, которых он находил до своего появления в Польше, мы должны довольствоваться одними предположениями. Поляки и иезуиты, столь долго обвиняемые в этом покровительстве, в общем стоят теперь вне подозрения даже и в России; и, как мы увидим, на это есть основание. Сам претендент указал, между другими, дьяков Щелкаловых, которые спасли его от смерти; а Лжедмитрий второй назвал Василия Щелкалова, Бельского и Клешнина. Те же самые имена находятся в рассказе английского посланника Томаса Смита. В 1591 году всезнающий и могущественный дьяк Андрей Щелкалов еще пользовался благоволением Бориса Годунова. И можно допустить, что они заодно сговорились либо удалить и в надежном месте хранить стоящего поперек дороги царевича, либо подменить его и держать в запасе другого претендента. Но можно предположить также, что, беспокоясь уже за свое будущее и питая вражду к Борису, столь ясно обнаруженную в его тайных сношениях с посланником венского двора, – дьяк действовал самостоятельно. После своей опалы, последовавшей в 1594 году, не обладая уже достаточной силой, он решил постричь покровительствуемого юношу в монахи, чтобы легче было укрывать его, несмотря даже на опасность, что кандидатом на трон придется уже выставить только расстригу.
Но, может быть, все это только химерические предположения, подобно измышленному некоторыми историками соглашению, будто бы заключенному в самом Угличе между Нагими и Шуйским – в качестве представителя удельных князей из дома Рюрика. Странное соглашение, которое для родственников царевича кончилось тюрьмой, застенком и ссылкой!
В конце концов возможно, что Шуйские, которые с досадой переносили торжество Годунова и крушение своих честолюбивых стремлений, вошли в соглашение с Романовыми – и на такой жгучей почве тогда удобнее строить более основательные предположения. Монастырь Железный Борк, который сыграл такую большую роль в истории истинного или мнимого Дмитрия, находился недалеко от Домнина, вотчины Шестовых. Мы знаем, что Феодора Романова, будущего патриарха Филарета, принудили взять себе жену из этой семьи. Гришка – этот вероятный спутник Дмитрия, если сам он не был Дмитрием – служил у одного из Романовых, и бегство претендента в Польшу хронологически совпадает с опалой Романовых и Бельского, одного из предполагаемых покровителей Дмитрия. С другой стороны, Мисаил Повадин и Варлаам – эти два спутника Гришки в его паломничеств в Киев – были вхожи в дом Шуйских. Кто-то из членов, должно быть, венецианской колонии, основанной в конце шестнадцатого века вблизи Архангельского порта, сообщал оттуда 4 июля 1605 года в письме, сохранившемся в архивах Флоренции,[145]145
Русск. Истор. Библ, VIII, 63. Раньше оно было напечатано в Viaggidi Moskovia, Viterbo, 1658.
[Закрыть] что, предугадывая намерения Годунова, «вельможи страны» нашли возможность укрыть в надежное место младшего сына Грозного.[146]146
См. Успенский, Журнал. Мин. Нар. Пр., октябрь, 1884, стр. 326. Adelung. Uebersicht, II, 163.
[Закрыть]
Федор Романов, заключенный в 1602 году в темницу, желал для своей жены и детей только скорой смерти; он говорил, что не желает заботиться ни о чем другом, кроме спасения своей души. Но в 1605 году, когда претендент вступил в Московское государство во главе своего победоносного войска, невольный монах внезапно изменяет свои речи и свое поведение. Он выгоняет своего собрата по келье – Иринарха, приставленного к нему для надзора, угрожая избить его посохом; он не желает соблюдать «монастырского чина»; постоянно смеется, но никто не знает причины его смеха; он говорит, что вернется к прежней жизни; он собирается скоро отыскать своих соколов и гончих собак. Монахи пытаются увещевать его, а он возмущается, ругает их и кричит: «Вы увидите, каков я вперед буду!»[147]147
Акты исторические, II, 38, 61, 54, 64.
[Закрыть]
В этом заключаются важные указания, которым не хватает, может быть, только подтверждения некоторых уничтоженных или слишком хорошо спрятанных документов. И, если они не подверглись уничтожению, без сомнения, уже недалек тот день, когда не побоятся их обнародовать. Нечего опасаться, будто от этого потерпят ущерб достойные уважения интересы. Допуская даже, что Романовы были причастны к этой интриге, которая создала претендента, их соучастниками было все или почти что все Московское государство. И можно сказать, что более или менее деятельно в ней принимали участие все сословия общества. Демократические элементы, духовенство и дьяки, соединялись тут с низшими дворянскими слоями через Отрепьевых и Повадиных, с высшими – через Романовых и Бельских и, наконец, с древнейшими аристократическими родами – через Шуйских; в этом обширном заговоре, внушенном отвращением и ненавистью, они объединяли всех недовольных, всю безыменную толпу ссыльных и беглых, которых Палицын насчитывает в Польше и Украйне до двадцати тысяч; наконец, они возмущали массы простого народа, среди которого уже волновалось казачество. И в то же время целая сеть монастырей, которой уже была покрыта страна, давая приют и тем и другим, давая убежище опальным, находившимся в бегах, осужденным на изгнание и просто бродягам, благоприятствовала заговору и поддерживала возбуждение в безмолвном сумраке той подпольной России, которая и теперь еще укрывает столько тайн.
И было бы безумной смелостью пытаться точно определить действительную долю участия каждого из этих элементов в подготовлении мятежного восстания, разросшегося в революцию, для которого претендент – кто бы он ни был – послужил только предлогом. Находясь в ссылке в 1601 году, Феодор и Василий Романовы открыто обвиняли бояр, что они были причиной их погибели.[148]148
Акты исторические, II, 38, 41, 51.
[Закрыть] Вот почему на них можно было смотреть только как на невольных соучастников восстания, отчасти вызванного их опалой.[149]149
Белов, Журнал Мин. Нар. Просв., август 1873 г.
[Закрыть] Цель, которую преследовали и с той и с другой стороны, в равной мере остается неясной. Для Романовых и их друзей претендент, быть может, был только орудием, чтобы свергнуть Годунова. Если бы это совершилось, у них оставалась возможность устранить это орудие: для этого стоило только разгласить, что он расстрига; и действительно, они не преминули это сделать. Но если Дмитрий был самозванец, разве вдохновители этого самозванства не имели возможности разгласить об этом в подходящее время и подтвердить это неопровержимо вопреки всевозможным возражениям? А между тем они даже не попытались сделать это, как мы увидим! И это служит одним из самых решительных доводов в пользу подлинности «Лжедмитрия»; но у меня будет повод указать и другие основания.
Что касается доводов в пользу противного мнения, по правде сказать, они сводятся к очень немногому. После свидетельства Варлаама не более убедительно и свидетельство князя Катырева-Ростовского, составителя тоже весьма запутанного повествования.[150]150
Находится в одном из хронографов, изданных Поповым: Изборник, Москва, 1869 г.
[Закрыть] Один из подписавших избирательную грамоту Годунова и шурин царя Михаила Романова, этот летописец не мог уклониться и не признать тождества претендента с Отрепьевым. Вот пример его доказательства: достигнув трона, Дмитрий заточил в монастырь патриарха Иова, у которого служил Гришка; значит, он боялся, что патриарх узнает его. Но разве у Дмитрия, обличенного и преданного анафеме этим первосвятителем, не было других превосходных поводов покарать его?
По свидетельству архиепископа Арсения,[151]151
Тот же Изборник, стр. 212, и Рус. Истор. Библ., XIII, 652.
[Закрыть] два архимандрита Чудова монастыря разделили участь главы русской церкви. Не потому ли, как это полагали, что Дмитрий и с их стороны боялся разоблачений? Но ни один из этих архимандритов не был Пафнутием, а бывший гость знаменитого Чудова монастыря должен был бы избегать встречи именно с этим последним.
После гибели Дмитрия польский король несколько раз свидетельствовал против подлинности его личности. Но прежде, принимая его в Кракове и соглашаясь на его брак с дочерью одного из своих фаворитов, он подавал повод предполагать другое мнение, и свидетельство его, во втором случае, подлежит сомнению. Убитый во второй раз и теперь уже как следует, Дмитрий в то время под видом нового претендента снова появился на сцене, а его прежний гостеприимный хозяин в Кракове, в свою очередь, становится кандидатом на московский престол. Последуя своему государю, и канцлер его, Лев Сапега, бывший прежде рьяным сторонником Дмитрия, становится его обличителем, обнаруживая в то же время и по тем же соображениям такое непостоянство убеждений, более изумительный пример которого и теперь еще являют нам историки.
Как на молчание Дмитрия, которое он будто бы хранил о своих приключениях до появления в Польше, ссылались также и на молчание его тестя. Ни перед московскими боярами на другой день после катастрофы, положившей конец карьере претендента, ни впоследствии, перед польским сеймом, Мнишек не мог представить никакого доказательства в пользу того происхождения, на которое заявлял притязания его зять. Но что мы знаем о первом случае? Показания воеводы, собранные в Москве, во всяком случае, не внушающими доверия слушателями, сохранились записанными в документах, – но эти документы исходят от правительства Василия Шуйского, а потому не менее подозрительны.[152]152
Собрание государственных грамот и договоров, II, № 140.
[Закрыть] С другой стороны, Мнишек принужден был молчать в Варшаве, может быть, по иным причинам, по чисто личным соображениям. Он только что заключил договор со вторым Дмитрием – на этот раз несомненным самозванцем – и был намерен предъявить добытое таким образом долговое обязательство новому московскому правительству. Итак, ему было выгодно в одном и том же признании своего сугубого легковерия, перешедшего всякую меру, слить воедино два предприятия, которые он последовательно эксплуатировал.
Еще один последний довод: в 1671 году Отрепьевы просили разрешения переменить старую фамилию, потому что она тяготила их. Это указывало лишь то, что счастливым преемникам Дмитрия удалось внушить народу ту веру, которая служила им в пользу.
И вот вывод, к которому я пришел: в настоящее время научным путем невозможно доказать подлинность первого «Лжедмитрия». Она основывается всего только на вероятностях; но я надеюсь, что те предположения, которые я привел в подтверждение, на дальнейших страницах покажутся более обоснованными. Противоположное положение теперь, как и двадцать лет тому назад, основывается лишь на сведениях явно неточных, недостаточных или нелепых.
Перейдем теперь к похожему на роман началу необыкновенной судьбы Дмитрия.
III. Роман Дмитрия. Марина Мнишек
Уже окружив взятого под свое покровительство юношу такой внешней обстановкой, чтобы она соответствовала сану, на который он изъявлял притязания, в блестящем экипаже и в сопровождении многочисленной свиты, вероятно, в конце 1603 года (более точного времени не удалось определить), Константин Вишневецкий отвез его в Самбор к своему тестю Юрию Мнишеку. Здесь, в завязавшихся таким образом сношениях с этой семьей, претендент мог многое выиграть, но также кое-что и потерять. Довольно влиятельные при дворе, Мнишеки соединяли с этим привилегированным положением равную ему и вполне заслуженную неприязнь в народе. Чехи по происхождению, они были недавними пришельцами в Польше; отец Юрия Николай Мнишек переселился сюда около 1540 года из Моравии. Родовое имя Мнишеков стяжало сомнительную славу в летописях Священной империи, но носитель его принес с собой надежное состояние, нажитое им на службе у чешского короля Фердинанда. Выгодная женитьба на дочери санокского кастеляна Каменецкого породнила его с одной из аристократических фамилий Польши и открыла ему доступ к самым высшим должностям в государстве. Скоро он получил звание великого коронного подкормия. Подобно своим предкам, его потомки никогда не блистали военными доблестями. Оба сына чешского выходца, Николай и Юрий, вели бездеятельную жизнь при дворе Сигизмунда II до тех пор, пока смерть нежно любимой супруги этого государя, Варвары Радзивилл, не вызвала глубокой перемены в его характере. Стараясь размыкать свою скорбь о ней, король предался разврату и суеверию, – и Мнишеки обнаружили тогда свои таланты. Проворные маклеры и искусные сводники, они доставляли своему безутешному государю колдунов, вызывателей духов, любовниц и разные зелья и средства для возбуждения похоти. В одном монастыре бернардинок воспитывалась юная красавица, носившая имя Варвары и удивительно похожая на покойную королеву; Юрий Мнишек пробрался туда, переодевшись в женский костюм; она согласилась еще более реальным образом напомнить государю о прелестях столь горячо оплакиваемой подруги. Она была дочь простого мещанина Гижи; ее поселили во дворце, и два раза в день виновник ее счастья являлся к ней, чтобы проводить ее к королю.[153]153
Orzelski. Interregni Poloniae, libri VII, I, 66 и сл.; II, 234.
[Закрыть]
Такое ремесло доставило ему должность коронного кравчего и управляющего королевским дворцом; здесь к его обязанностям относилось также и наблюдение за другими любовницами государя, помещенными во дворце. В то же время, действуя заодно со своим братом, он успел приобрести большое влияние на большинство государственных дел, а в особенности забрать в свои руки распоряжение королевской казной. Но оба брата больше всего обогатились в день смерти государя. Сигизмунд, изнуренный всякими излишествами и совсем уже больной, только с несколькими приближенными отправился в Книшинский замок в Литву. Разумеется, Мнишеки и покровительствуемая ими красавица сопровождали короля в его путешествии. В ночь, которая последовала за кончиной государя, они отправили из замка несколько плотно набитых сундуков. Расхищение, произведенное ими, оказалось до того полным, что не нашлось даже одежды, в которую можно было бы благопристойно облечь тело державного покойника.








