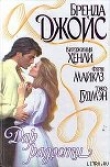Текст книги "Роман императрицы. Екатерина II"
Автор книги: Казимир Валишевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Кто идет? – окликнул часовой с крепостной стены.
– Император.
– Нет больше императора! Отъезжайте. Графа де-Вьера опередил посланный Екатерины, адмирал Талызин.
Но Миних не отчаялся. Вместе с Гудовичем он умолял Петра высадиться, несмотря ни на что. По ним не осмелились бы стрелять. Они за это отвечали. Но Петр спустился уже вглубь трюма. Ему до сих пор приходилось иметь дело только с картонными крепостями. Он дрожал всем телом. Женщины пронзительно кричали. Пришлось повернуть назад.
Тогда Миних предложил Петру другое: доехать до Ревеля, сесть на военный корабль, отправиться в Померанию и принять там командование армией.
– Сделайте это, государь, – говорил старый солдат, – и через шесть недель Петербург и вся Россия будут опять у ваших ног. Ручаюсь вам в том головою.
Но у Петра истощился уже весь запас энергии. Он мечтал только о том, как бы вернуться скорее в Ораниенбаум и начать оттуда переговоры с императрицей. Поехали в Ораниенбаум. Здесь Петр опять встретил неожиданное известие: Екатерина покинула Петербург и вместе со своими полками шла навстречу Петру и голштинцам.
Шествие Екатерины, в противоположность Петру, было триумфальным. Она ехала впереди войск на коне, в мундире, взятом у одного из семеновских офицеров. Ее меховую соболью шапку украшал венок из дубовых листьев, а длинные волосы развевались по ветру. Рядом с нею, в таком же мундире, скакала на коне княгиня Дашкова. Солдаты были в восторге. Они в дружном порыве сбросили с себя мундиры, в которые их нарядил Петр III, изорвали их или продали старьевщикам и надели на себя старую боевую форму, ту, что Петр I тоже выписал для них из Германии, но считавшуюся теперь уже национальной. Они горели желанием помериться с голштинцами силой.
Но им не доставили этого удовольствия. После длинного ночного перехода их встретил в пять часов утра парламентер Петра. Это был князь Александр Голицын. Император предлагал императрице разделение власти. Екатерина не удостоила его ответом. Через час она получила от мужа акт отречения. Она остановилась в Петергофе, куда привезли также и Петра. Панин, которому было поручено передать ему последнюю волю императрицы относительно его личной участи, нашел его в самом жалком состоянии. Петр порывался целовать ему руки, умоляя его, чтобы его не разлучали с его любовницей. Он плакал, как провинившийся и наказанный ребенок. Фаворитка бросилась к ногам посланного Екатерины и тоже просила, чтобы ей позволили не оставлять любовника. Но их все-таки разлучили. Воронцова была послана в Москву, а Петру назначили временным пребыванием дом в Ропше, «местности очень уединенной, но очень приятной», по уверению Екатерины, и расположенной в тридцати верстах от Петергофа, – в ожидании, пока ему будет приготовлено подходящее помещение в Шлиссельбургской крепости, этой русской Бастилии.
На следующий день, 14 июля, Екатерина торжественно въехала в Петербург. Таким образом, ее пребывание в Петергофе продолжалось не более нескольких часов. Но и за это короткое время, – не считая отречения Петра, – там совершилось нечто знаменательное. Княгиня Дашкова сделала там открытие, – она говорит об этом с грустью в своих «Записках», – сильно поразившее ее, что показывает, как она была еще наивна для устроительницы заговоров. Войдя к императрице в час обеда, она увидела в зале человека, растянувшегося во весь рост на диване. Это был Григорий Орлов. Перед ним лежала куча запечатанных пакетов, которые он собирался небрежно вскрыть.
– Что вы делаете? – вскричала княгиня. Она узнала по внешнему виду документов, что это бумаги из государственной канцелярии, которые ей приходилось часто видеть в доме своего дяди. – Это государственные бумаги. Никто не смеет читать их, кроме императрицы и лиц, специально ею для того назначенных.
– Совершенно верно, – ответил Орлов, не меняя позы и с тем же видом пренебрежительного равнодушия. – Она просила меня просмотреть их.
Эта работа казалась ему, по-видимому, очень скучной, и он хотел поскорее отделаться от нее.
Княгиня была поражена. Но скоро ей снова пришлось изумиться. На противоположном конце залы был накрыт стол на три прибора. Вошла императрица и пригласила подругу сесть к столу. Третье место предназначалось для молодого поручика. Но он не двинулся. Тогда императрица приказала перенести стол к дивану. Они с княгиней Дашковой сели против молодого человека, который продолжал лежать. У него, кажется, болела нога.
Становилось ясно, какое место он займет возле новой государыни: это было начало фаворитизма.
III. Последние испытания. – Волнение в войсках. – Письмо к Понятовскому. – Что думал последний караульный солдат при виде императрицы. – Самообладание Екатерины. – Ее хладнокровие. – Щедрость. – Подарки и вознаграждения. – Возвращение Бестужева. – Разочарованные и недовольные. – Миних. – Княгиня Дашкова. – Генерал Бецкий. – Светлая заря нового царствования. – Туча.
В Петербурге Екатерину ожидали еще испытания. В самую ночь ее возвращения вокруг дворца поднялся страшный шум. Солдаты Измайловского полка хотели видеть императрицу, чтобы убедиться, что ее не похитили. Она должна была встать с постели, опять надеть свой мундир, чтобы их успокоить.
«Я не могу и не хочу, – писала она несколько месяцев спустя Понятовскому, – говорить вам о препятствиях к тому, чтобы вы приехали сюда… Мое положение таково, что я должна быть очень осторожна, и последний солдат, видя меня, говорит в душе: Вот дело моих рук! Я умираю от страха за письма, которые вы мне пишете».
Впрочем, она изумительно стойко держалась среди затруднений и опасностей своего положения. Во время подготовки и затем выполнения государственного переворота она не проявила некоторых способностей, необходимых для человека, стоящего во главе заговора: в ней не было ни большой предусмотрительности, ни особенной ловкости. Но зато она поражает нас в эти минуты смелостью, хладнокровием, решительностью и, главное, удивительным искусством придавать внешний декорум своим поступкам. Этими же качествами она отличалась и в первые месяцы по вступлении на престол: все свидетели событий, разыгравшихся в то время в Петербурге, единодушно восхищаются ее спокойствием, ее приветливым, но царственным видом, величием, любезностью ее обхождения и манерой держать себя. Она уже выказывала себя непоколебимой.
Но Екатерина не пренебрегала и другим избранным ею еще издавна излюбленным средством, чтобы покорять себе чужие воли и привлекать сердца: с первого же часа она явилась великодушной государыней, умеющей награждать тех, кто служит ей, и щедрой до избытка. Из рук ее полился настоящий Пактол на создателей ее счастья. К 16 ноября 1762 года цифра розданных ею наград, не считая жалованных имений землями и крестьянскими душами, достигла уже 795.622 рублей, т.е. почти четырех миллионов франков по тогдашнему курсу. При этом деньги выдавались обыкновенно в значительно уменьшенном размере против назначаемого вознаграждения. Так, Григорий Орлов получил только 3.000 рублей вместо 50.000, пожалованных ему. Но казна была в то время сильно истощена. Княгине Дашковой, как значится по счету, было выдано 25.000 рублей. Сумма в 225.890 рублей была истрачена на уплату полугодового жалованья штаб-офицерам полков, принимавшим участие в государственном перевороте. На долю солдат досталось меньше. Их щедро угостили вином в день 12 июля. И, благодаря этому, расход на них возрос в общем до 41.000 рублей, т.е. более чем до 200.000 франков. Но нужно признаться, что некоторое время спустя после великого события значительное число этих преторианцев очутилось в полной нищете, и Екатерина уже ничего не стала делать, чтобы спасти их: они ей были теперь больше не нужны.
Она не забыла и отсутствующих. Одной из первых ее забот было послать гонца к бывшему канцлеру Бестужеву, чтобы возвестить ему о своем восшествии на престол и призвать его в столицу. Екатерина выбрала к нему гонцом с этою доброю вестью Николая Ильича Колышкина, служившего в феврале 1758 года сержантом в гвардии; он был приставлен тогда наблюдать за ювелиром Бернарди, замешанным в процессе Бестужева, и облегчил уже известную нам переписку великой княгини с заключенными. Екатерина помнила обо всем этом. Однако она готовила разочарование своему бывшему политическому сообщнику. Бестужев сейчас же примчался на ее зов. Она встретила его с распростертыми объятиями. Екатерина была искренне рада иметь под рукою человека такой опытности и такого авторитета. Она всегда превозносила его имя и былые заслуги, часто спрашивала его советов. Но он наверное рассчитывал на большее: он думал занять свой прежний пост всемогущего министра и пользоваться теперь еще большим влиянием, чем при Елизавете. И в этом он совершенно ошибся.
Таким образом, возле Екатерины были все-таки обиженные ею. Одним из первых среди них был фельдмаршал Миних, который поспешил присягнуть новой императрице. Она, по-видимому, не ставила ему в вину то содействие, притом бесполезное, которое он оказал Петру. Он исполнял тогда только свой долг. Он с большим достоинством высказал ей это, и она с таким же достоинством выслушала его. Но она поступила с ним, как с Бестужевым. Она вежливо отклонила его услуги. По выражению одного современного государственного деятеля, она находила, что при новом положении вещей нужны и новые люди.
Разочарованной была также и княгиня Дашкова. Она представляла себе царствование Екатерины, как непрерывную феерию, в которой она по-прежнему будет потрясать каждый день судьбы империи, гарцуя на прекрасном коне во главе колонны гренадер. Она вошла во вкус военных мундиров, интриг и парадов. И она находила, что ее не сумели ни вознаградить по заслугам, ни использовать по способностям. Мы еще встретимся с нею впоследствии со всеми ее мечтаниями, претензиями и сумасбродствами, отравившими ей жизнь и причинившими немало неприятностей и ее августейшей подруге. Мы встретимся также и с Бестужевым, и с Минихом.
Екатерина чуть было не создала недовольного и в лице своего таинственного друга, о котором мы уже говорили. Не одна княгиня Дашкова приписывала себе первенствующую роль в событии 12 июля. Через четыре дня после переворота императрице доложили о генерале Бецком. Ему было поручено раздавать деньги солдатам, завербованным Орловыми, и за это ему дали теперь ленту и несколько тысяч рублей; Екатерина думала, что он пришел благодарить ее. Но он опустился на колени и, не вставая с пола, стал умолять императрицу, чтобы она при свидетелях сказала ему, кому она обязана короной.
– Богу и избранию моих подданных, – ответила просто Екатерина.
Услышав это, Бецкий поднялся и трагическим жестом снял с себя ленту.
– Что вы делаете?
– Я недостоин больше носить эти знаки отличия, награду за мои заслуги, если они не признаются государыней. Я считал, что один создал ее величие. Разве не я поднял гвардию? Разве не я бросал золото направо и налево? Государыня отрицает это. Я самый несчастный из людей.
Императрица повернула дело в шутку.
– Хорошо, я согласна, это вы дали мне корону, Бецкий! Но зато я возьму ее теперь только из ваших рук. Поручаю вам изукрасить ее, как возможно лучше, и отдаю в ваши руки все драгоценности императорского дома.
Бецкий принял эту шутку серьезно. Он наблюдал за работой ювелиров, приготовлявших царский венец для коронования Екатерины, и этим удовлетворился.
Так, по крайней мере, рассказывает нам эту историю княгиня Дашкова. Но возможно, что этот рассказ является отчасти плодом ее воображения.
В общем, как мы уже говорили выше, Екатерина показала себя настолько же щедрой к друзьям, как и великодушной к врагам. Ее царствование начиналось счастливо. Восторг, с которым встретила столица ее восшествие на престол, отозвался той же радостью даже в самых отдаленных провинциях. Но внезапно эта ясная заря омрачилась темной тучей. 18 июля, вернувшись из сената, где она читала манифест с искусно составленным описанием событий, доставивших ей власть, Екатерина собиралась уже выйти ко двору, когда в ее уборную ворвался человек, весь в поту и в пыли и в растерзанном платье. Это был князь Барятинский. Он во весь опор примчался из Ропши и привез императрице письмо от Алексея Орлова, возвещавшее ей о смерти Петра III.
IV. Драма в Ропше. – Виновные. – Екатерина, Орлов или Теплов? – Преступление или отказ от правосудия? – Кровавое пятно. – Заключение.
При каких же обстоятельствах скончался Петр? Это тайна. Нигде в Европе историк не наталкивался на такие затруднения, как в России, чтобы прочитать истину сквозь официальные пояснения, которые придаются здесь великим государственным событиям. Гранитные стены дворцов непроницаемы, и уста их обитателей замкнуты.
Петр с поразительной легкостью примирился со своим положением. Он сводил все свои жалобы только к трем просьбам: чтобы ему вернули его любовницу, его обезьяну и его скрипку. Время он проводил в том, что пил и курил. 18 июля его нашли мертвым. Вот почти все, что мы знаем достоверно.
Что смерть его была насильственной, почти нельзя сомневаться. В то время все были твердо уверены в этом. В своем письме к герцогу Шуазелю заведующий делами французского посольства Беранже говорит, что у него в руках есть ясные доказательства, «подтверждающие основательность всеобщего убеждения». Сам он не видел праха государя, выставленного, по обычному церемониалу, для поклонения, так как дипломатический корпус не был приглашен туда явиться, и Беранже знал, что всех, отправлявшихся в церковь на поклонение Петру, отмечали. Но он послал посмотреть на покойного государя верного человека, рассказ которого подтвердил его подозрения. Тело несчастного монарха было совершенно черно, и «сквозь кожу его просачивалась кровь, заметная даже на перчатках, покрывавших его руки». У лиц, которые по народному обычаю сочли долгом приложиться к устам покойника, распухли потом губы.
Из этих слов видно, какую большую роль играло воображение в рассказах о кончине Петра даже в дипломатических документах. Но факт насильственной смерти, тем не менее, кажется вполне достоверным. Что же касается до рода убийства, – приходится, по-видимому, признать, что убийство здесь действительно имело место, – то предположения о нем очень разноречивы. Одни говорили об отравлении бургундским, любимым вином несчастного Петра; другие – об удушении. Большинство указывало на Алексея Орлова, как на автора, вдохновителя и даже исполнителя propria manu этого преступления. Но существует еще другой рассказ, внушающий к себе известное доверие. Он содержит совершенно иные данные. По этой версии, Орлов был вовсе непричастен этому делу. Не он, а Теплов сделал все, или, по крайней мере, всем руководил. Повинуясь его приказанию, один шведский офицер на русской службе, Шваневич, задушил Петра ремнем от ружья. Убийство было совершено при этом не 18, а 15 июля.
Был ли убийцей Орлов или Теплов, может показаться на первый взгляд вопросом второстепенным и неважным. Но в сущности это не так. Если преступление было совершено Тепловым, то, несомненно, он действовал по внушению самой Екатерины. Как бы он мог решиться иначе на такой шаг? Орлов же – дело другое. Он и брат его Григорий были и оставались еще некоторое время как бы хозяевами созданного ими положения, и могли по собственному желанию довести до конца игру, в начале которой поставили на карту собственную жизнь: они не спрашивали мнения Екатерины, когда решили произвести государственный переворот; они и теперь могли обойтись без ее согласия.
«Императрица ничего не знала об этом убийстве, – уверял Фридрих двадцать лет спустя графа Сегюра: – она услышала о нем с непритворным отчаянием; она предчувствовала тот приговор, который теперь все над ней произносят».
«Все» – сказано несколько сильно. Но большинство, бесспорно, разделяло убеждение, повторенное потом Кастера, Массоном, Гельбигом и другими. В одной газете того времени, печатавшейся в Лейпциге, кончину Петра прямо сравнивали со смертью английского короля Эдуарда, убитого в тюрьме по приказанию своей жены Изабеллы (1327 г.). Впоследствии, после опубликования «Записок» княгини Дашковой, в общественном мнении произошел некоторый поворот. По ее словам, после смерти Екатерины Павел будто бы нашел в бумагах императрицы письмо Алексея Орлова, написанное сейчас же после трагического события, в котором Орлов открыто признавал, себя автором преступления. Это письмо было полно и опьянения кровью, и ужаса, и раскаяния. Император поднял тогда глаза к небу и сказал: «Благодарение Богу!» Но княгиня Дашкова, которая рассказывает об этой сцене, сама не присутствовала при ней, а граф Ростопчин, сохранивший копию с этого письма (напечатанного потом в «Архиве князя Воронцова», XXI, 430), говорит, что оригинал его был уничтожен.
Даже в мнениях и догадках современных авторов существуют насчет смерти Петра III большие разногласия. Но нужно признать, что сама Екатерина способствовала тому, чтобы странная загадка осталась невыясненной; она окружила ее такой тайной, какая только была во Власти самодержавной императрицы. И если Екатерину осуждают теперь несправедливо, то она сама вызвала эту клевету на себя, так как не допустила, чтобы обнародовали правду. Ожесточение, с которым она преследовала опубликование всего, что имело отношение к печальному событию, дошло до того, что она напала даже на сочинение Рюльера, хотя он и не высказал своего мнения относительно ее участия в убийстве. Затем, вопреки своему необыкновенному умению владеть собой, она не сумела в минуту катастрофы так держать себя, чтобы заставить замолчать злые языки, хотя и проявила тогда, несомненно, большую силу воли и недюжинный актерский талант. В совете, созванном ею впопыхах, было решено держать страшное известие в тайне в течение двадцати четырех часов. И после совета императрица показалась при дворе, не выказывая на лице ни малейшего волнения. Только на следующий день, когда манифест оповестил сенат о мрачной кончине Петра, Екатерина сделала вид, что впервые узнает об этом: она долго плакала в кругу своих приближенных и не вышла вовсе к собравшимся придворным.
Еще одно последнее замечание, чтобы закончить обсуждение этого неразрешимого вопроса: ни Орлов, ни Теплов, никто другой, – это достоверно известно, – не были преданы суду за драму в Ропше. Таким образом ответственность за это преступление перенеслась как бы на голову самой императрицы: во всяком случае она не восставала, если и не против намерения убить Петра, то против самого убийства, как уже совершившегося факта. Руки ее, только что схватившиеся за императорский скипетр, были уже запачканы кровью. Впрочем, не одно это кровавое пятно было впоследствии на них. Но, может быть, достигнув известной высоты человеческого величия, люди принуждены почти всегда нести на себе какое-нибудь позорное клеймо, что опять низводит их до всеобщего уровня. А Екатерина, бесспорно, была великой. Как, благодаря каким качествам и несмотря на какие недостатки, мы попытаемся доказать это теперь. Не задаваясь целью написать историю ее жизни, мы прервем здесь рассказ, которым хотели объяснить, как зародилась и началась удивительная судьба Екатерины. Этот предварительный исторический очерк казался нам необходимым, чтобы ярко и верно осветить то, что считаем истинной задачей своего труда: нарисовать портрет женщины и государыни, которая – и та, и другая – почти не знала себе соперниц в истории мира, и картину царствования, равного которому еще не было в истории великого народа.
Мы рассказали, каким образом Екатерина стала тем, чем она была; теперь же расскажем, какою она стала.
Часть вторая
«ИМПЕРАТРИЦА»
Книга первая
«Женщина»
Глава перваяВнешность. – Характер. – Темперамент
I. Красота Екатерины. – Противоположные показания. – Голубые или карие глаза? – Портреты пером, карандашом и кистью, сделанные самой Екатериной, Рюльером, Чемесовым, Ричардсоном, принцем де-Линь, графом Сегюром, госпожой Виже-Лебрен. – Анекдот русского двора. Император Николай. – Впечатления принцессы Саксен-Кобургской. – Легенды.
«Сказать по правде, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась, и думаю, что в этом была моя сила». Так определяет сама Екатерина характер женской привлекательности, данной ей от природы. Наслушавшись за свою жизнь, как ее сравнивали со всеми Клеопатрами мира, она, следовательно, не признавала все-таки эти сравнения справедливыми. Не потому, чтобы не знала им цены. «Верьте мне, – писала она Гримму: – красота никогда не бывает излишней, и я постоянно придавала ей громаднейшее значение, хотя сама и не была очень хороша». Но, может быть, она имела обыкновение говорить о своей красоте в уничижительном тоне, поступая так по неведению или скромности, или из особого, утонченного кокетства? Мысль об этом невольно приходит на ум, когда прислушиваешься к почти единодушным отзывам современников о ее внешности. Образ «Северной Семирамиды» сиял во второй половине восемнадцатого столетия и на пороге девятнадцатого перешел в предания потомков, не только как чудесное воплощение могущества, величия и торжествующего счастья, но также очаровательной женственности. В глазах всех или почти всех она была не только величественной, царственной и грозной: она была в то же время и обворожительной и прекрасной, даже среди записных красавиц. Это была настоящая царица как по. праву своего гения, так и по праву красоты. Pallas и Venus victrix!
Но ошибалась-то, по-видимому, не Екатерина, а именно эти современники, которые, при взгляде на необыкновенную императрицу, видели не ее, а какое-то созданное их собственным воображением волшебное существо. Иллюзия и обман зрения были при этом настолько полны, что почти никто не замечал даже бросавшихся в глаза, хотя и незначительных самих по себе, недостатков во внешности Екатерины. Так, все лица, представлявшиеся государыне, говорят о ее высоком росте, возвышавшем ее над толпой. А между тем в действительности она не только была ниже среднего роста, но скорее маленького, и при этом с преждевременной наклонностью к полноте. Впрочем, даже цвет ее глаз дал повод к странным противоречиям. По словам одних, они были карие, по словам других – голубые. Рюльер примирил эти два крайних мнения, изображая их в своем описании карими с синеватым отблеском. Вот дословно портрет Екатерины, набросанный им приблизительно в год ее восшествия на престол. Ей было тогда тридцать три года. У нас нет другого такого подробного описания ее внешности, относящегося к более ранней эпохи. Портрет, сделанный Понятовским, имеет в виду время лишь за четыре или пять лет до того, и притом он написан пристрастной рукою влюбленного.
«Стан ее, – пишет Рюльер, – изящен и благороден, поступь гордая; все ее существо и манеры полны грации. Она имеет царственный вид. Все черты ее лица говорят о сильной воле. У нее длинная шея, и лицо сильно выдается вперед; это особенно заметно в ее профиле удивительной красоты и в движениях головы, что она подчеркивает с некоторым старанием. Лоб у нее широкий и открытый, нос почти орлиный; губы – свежие, их очень украшают зубы; подбородок несколько велик и почти двойной, хотя она и не полна. Волосы у нее каштановые и необыкновенно красивые; брови темные; глаза карие, прекрасные, они отсвечивают синеватым отблеском; цвет лица чрезвычайно свежий. Гордость – вот истинный характер ее лица. В нем есть также и приветливость и доброта, но для проницательных глаз они кажутся только следствием ее крайнего желания нравиться».
Рюльер не был ни влюбленным, ни энтузиастом. Но сравним теперь его портрет с другим, нарисованным карандашом около того же времени русским художником Чемесовым. Сохранилось предание, что этот портрет был заказан по просьбе Потемкина, которого Екатерина стала отличать вскоре после июльской революции, а может быть, и несколько раньше. Екатерина осталась очень довольна работой Чемесова и назначила его секретарем при своем кабинете. А между тем, что за удивительную императрицу изобразил он, и как мало она у него похожа на то, что рисуют нам другие художники, скульпторы и авторы записок, начиная с Беннера и Лампи и кончая Рюльером и принцем де-Линь! Лицо Екатерины вышло у Чемесова, если хотите, даже приятным и умным, но таким не одухотворенным; скажем прямо: таким мещански-заурядным. Может быть, виною тому костюм – какое-то странное траурное одеяние с причудливым головным убором, закрывающим лоб до бровей и возвышающимся сверху в виде крыльев летучей мыши. Но само лицо улыбающееся и в то же время жесткое; ее крупные и точно мужские черты выступают все-таки очень отчетливо и под этим чепцом: это какая-то немецкая маркитантка, переряженная в монахини, но только не Клеопатра.
Впрочем, изображая Екатерину таким образом, Чемесов оказался, может быть, просто предателем, а Екатерина, узнав себя в его портрете, проявила лишь то полное непонимание художественных произведений, в котором она впоследствии искренно признавалась Фальконэ? До известной степени это возможно. Однако сохранился еще как бы снимок с рисунка русского художника: это портрет Екатерины, описанный несколько лет спустя Ричардсоном. Взгляд и ум этого англичанина, по-видимому, не поддавались ни иллюзиям, ни ослеплению. И вот в каких словах он излагает свои впечатления:
«Русская императрица выше среднего роста, сложена пропорционально и грациозна, хотя и склонна к полноте. У нее хороший цвет лица, и она старается еще украсить его румянами, по примеру всех женщин ее страны. Рот у нее красиво очерчен; зубы – прекрасные; в синих глазах – пытливое выражение: не настолько сильное, чтобы назвать ее взгляд инквизиторским, и не такое неприятное, как у человека недоверчивого. Черты лица правильны и приятны. Общее впечатление такое, что нельзя сказать, чтобы у нее было мужественное лицо, но в то же время его не назовешь и вполне женственным».
Это написано не совсем в тоне Чемесова с его наивным и почти грубым реализмом. Но и в том, и в другом изображении встречается все-таки одна общая черта, которая, кажется нам, и была характерна для лица Екатерины, клала на него особый отпечаток и, с пластической точки зрения, сильно уменьшала, если и вовсе не убивала, его прелесть: это мужской склад, проглядывающий, впрочем, и на других портретах сквозь волшебные и льстивые краски художников с менее добросовестной кистью, – даже в том, который так нравился Вольтеру и находится до сих пор в Фернее. А между тем Екатерина всегда зорко следила за тем, как ее изображали на полотне. Когда в ее портрете, написанном Лампи незадолго до ее смерти, она нашла у себя возле носа морщинку, придававшую ей, как ей казалось, суровое выражение, то это возбудило в ней враждебное отношение и к самому портрету, и к художнику. А Лампи даже славился тем, что никогда не говорил слишком жестокой правды своим моделям. Он стер морщинку, и императрица – ей вскоре должно было минуть семьдесят лет, – стала походить на нем на молодую нимфу. История умалчивает о Тим, осталась ли она на этот раз довольной.
«Какою вы меня себе представляли? – спросила Екатерина у принца де-Линь, когда он в первый раз приехал в Петербург: – высокой, сухой, с глазами, как звезды, и в больших фижмах?» Это было в 1780 году. Императрице исполнился тогда пятьдесят один год. И вот какою принц де-Линь нашел ее: «Она еще недурна, – говорит он в своих „Записках“. – Видно, что она была прежде скорее красивой, нежели хорошенькой: величавость ее лба смягчается приятным взглядом и улыбкой, но этот лоб выдает ее всю. Не надо быть Лафатером, чтобы прочесть на нем, как в открытой книге: гений, справедливость, смелость, глубину, ровность, кротость, спокойствие и твердость. Ширина этого лба указывает и на большую память и воображение: в нем для всего хватает места. Ее немного острый подбородок не слишком выдается вперед, но все-таки обозначается резкой линией, не лишенной благородства. Вследствие этого овал ее лица неправилен, но она, вероятно, чрезвычайно нравится, потому что в ее улыбке много искренности и веселья. У нее должен был быть свежий цвет лица и великолепные плечи: они стали, впрочем, красивы в ущерб ее талии, бывшей когда-то тонкой, как ниточка: в России очень быстро полнеют. Она заботится о своей внешности, и если бы не натягивала так волосы кверху, а немного спускала бы их, чтобы они обрамляли ей лицо, то это шло бы к ней несравненно больше. Что она маленького роста, как-то не замечаешь».
Но это опять слова энтузиаста. Впрочем, граф Сегюр, который в качестве дипломата, считал себя более беспристрастным, описывает Екатерину почти в тех же выражениях. «Из ее былой красоты дольше всего сохранились белизна и .свежесть цвета лица», – говорит он. Кастера же объяснял по-своему эту победу Екатерины над невозвратными утратами. По его словам, «она сильно румянилась в последние годы царствования». Но Екатерина никогда не соглашалась признаться в этом. В ее письме к Гримму, написанном в 1783 году, мы читаем например:
«Благодарю вас за банки с румянами, которыми вы хотели украсить мое лицо; но когда я стала употреблять их, то нашла, что они так темны, что придают мне вид фурии. Поэтому вы извините меня, что, несмотря на всю мою знаменитость в том месте, где вы находитесь (Гримм был в то время в Париже)… я не могу подражать или следовать этой прекрасной тамошней моде».
Самое авторитетное с эстетической точки зрения и, по-видимому, самое достоверное из всех – это описание, сделанное m-me Виже-Лебрен, которая, к сожалению, не видела Екатерину в ее лучшие годы. При этом она не могла похвалиться обращением с ней государыни, что тоже является гарантией искренности: Екатерина не согласилась позировать перед ней. Впоследствии m-me Виже-Лебрен написала императрицу кистью по воспоминаниям. Пером же она описывает ее так: «Прежде всего я была страшно поражена, увидев, что она очень маленького роста; я рисовала ее себе необыкновенно высокой, такой же громадной, как и ее слава. Она была очень полна, но лицо ее было еще красиво: белые приподнятые волосы служили ему чудесной рамкой. На ее широком и очень высоком лбу лежала печать гения; глаза у нее добрые и умные, нос совершенно греческий, цвет ее оживленного лица свежий, и все лицо очень подвижно… Я сказала, что она маленького роста; но в дни парадных выходов, с своей высоко поднятой головой, орлиным взглядом, с той осанкой, которую дает привычка властвовать, она была полна такого величия, что казалась мне царицей мира. На одном из празднеств она была в трех орденских лентах, но костюм ее был прост и благороден. Он состоял из расшитой золотом кисейной туники, с очень широкими рукавами, собранными посредине складками, в восточном вкусе. Сверху был надет доломан из красного бархата с очень короткими рукавами. Чепчик, приколотый к ее белым волосам, был украшен не лентами, а алмазами самой редкой красоты».