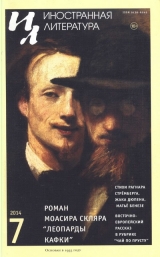
Текст книги "Чай по Прусту: восточно-европейский рассказ"
Автор книги: Казимеж Орлось
Соавторы: Норман Маня,Бела Риго,Виктор Фишл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Норман Маня
© Перевод А. Старостина

От переводчика
То, что Норман Маня пишет в манере недоговоренности, не всегда прописывает логику фраз и темнит с обстоятельствами – это не просто изыски стиля. Если принять во внимание и полное отсутствие спецификации места и времени, можно догадаться, что это еще и нажитая при социализме привычка обходить цензуру, обеспечивая свободу толкования текста и предполагая включение нашей интуиции. Ни слова «еврей», ни слова «холокост» не встретишь в его новеллах. Концлагерь в Транснистрии, куда его, пятилетнего, отправили со всей семьей, никак не называется и больше похож на гетто: паек не получают, но хлеб можно выменять или заработать, под прицелом ружей детям разрешено играть, взрослым – пускаться в супружеские измены, старикам – сплачивать семью чаепитиями вприглядку.
Норман Маня родился в 1936 году в Румынии, в местечке Бурдужень на Буковине, под городом Сучавой. В 1941-м был депортирован со всем еврейским населением города в Транснистрию, в девять лет вернулся с теми из семьи, кто остался в живых, в Румынию. Закончил лицей в Сучаве. Высшее образование получил инженерное, в Бухаресте. Дебютировав как прозаик в 1969 году, с 1974-го он целиком переключился на труд писателя.
Мы познакомились в начале 1980-х, когда он, по писательскому обмену, приехал в СССР. Было ему за сорок, но в облике – в округлости черт, в бездонности черных глаз – сохранилось что-то юношеское. Юноша, окутанный непроницаемым молчанием, тайной. Он не спешил рассказывать о себе. Даже включая в сборник румынского рассказа («Художественная литература», 1986) его рассказ «Свитер» в переводе Светланы Флоринцевой, – об изможденной матери, которая уходит из гетто вязать крестьянам теплые вещи за несколько свеколок и картофелин, о магическом свитере, связанном из обрывков шерсти, – я не знала, что речь идет о его личной судьбе. Со «Свитера», кстати, началось знакомство с ним западного читателя (журнал «Акценты», Германия, 1985). В Европе Нормана Маню стали переводить с подачи Генриха Бёлля («У меня нет ни малейшего сомнения, что Норман Маня более чем кто бы то ни было заслуживает мировой известности»).
Лагерный отпечаток лежит на всей беллетристике Нормана Мани. Это, собственно, лагерь и это Румыния «эры Чаушеску». Детство, с пяти до девяти лет, как самый большой ужас своей жизни, он не зачеркнул, не замкнул в себе. Он сумел облечь нетривиальными словами страшный опыт лагерной жизни, и после войны сохранившей, в других формах, свои репрессивные черты (отца через несколько лет арестовали, мать отправили на принудительные работы). С первой же книги Норман Маня встал на позиции диссидента. Впоследствии он опишет, с каким трудом приходилось пробивать сквозь цензуру буквально страницу за страницей. В 1984 году он получил литературную премию Союза писателей Румынии, но в том же году ее отозвал Совет по социалистической культуре и образованию. Атмосфера злопыхательства, созданная вокруг него, вынудила Нормана Маню к эмиграции, год он прожил в Западном Берлине, потом перебрался в Америку. Преподает в Бард-колледже, в Нью-Йорке. Выступает с публичными чтениями на конференциях, на съездах ПЕН-центров различных стран. Темы его курсов в университете: «Холокост и литература», «Литература об экстремальных ситуациях: Холокост и Гулаг», «Изгнание и отчужденность в современной литературе», «Кафка и его соседи», «Писатель как персонатор и миф: Фернандо Пессоа», «Восточноевропейские писатели», «Современные мастера (Сол Беллоу, Филип Рот, Жозе Сарамаго, Синтия Озик…)». Получил внушительное количество всяческих наград, последние два десятилетия не раз выдвигался на Нобелевскую премию персонами и институциями литературного и академического мира Соединенных Штатов, Швеции, Румынии, Италии и Франции. В этом году выдвинут на Нобелевскую премию по литературе Союзом писателей Румынии.
Норман Маня сегодня – самый переводимый на Западе румынский писатель. В 1991 году много шума наделала его статья о Мирче Элиаде, где он разбирает пролегионерские взгляды крупного ученого в перспективе его послевоенной жизни, проводя мысль о пользе, которую приносят признания великих людей «в грехах молодости» (для Элиаде грех оказался блаженным – Felix culpa, так и названа статья, вызвавшая в Румынии шквал нападок на ее автора). Побывав на родине после десятилетнего перерыва, в 1997 году, Норман Маня выпустил по следам поездки сборник эссе «О клоунах: диктатор и художник» (1999). А в 2003-м исповедальную прозу «Возвращение хулигана» – перекличку с книгой «Как я стал хулиганом» Михаила Себастьяна (автора «Безымянной звезды»), роман которого «Две тысячи лет» приобрел в предвоенные годы скандальную славу. Скандал вызвал не столько сам роман о судьбе ассимилированного еврея в Румынии, сколько антисемитское предисловие к нему Нае Йонеску, поборника идей Железной гвардии, университетского преподавателя Себастьяна и Элиаде. «Возвращением хулигана» Н. Маня солидаризировался с судьбой Себастьяна, который «стал хулиганом», подвергаясь ударам как со стороны правых, так и, не будучи ортодоксальным евреем, со стороны «своих».
Трудно сказать, чем больше – прозой или публицистикой – Норман Маня завоевал мировое признание. Вероятно, немалую роль тут сыграла, кроме остроты поднимаемых проблем, значительность личности и взгляд на вещи. Вот свидетельство самого писателя (1991 год): «…потребность говорить о жизни под диктатурой в Румынии – и, еще важнее, об уроках, которые можно было бы извлечь из такого биографического опыта, – уперлась в брезгливое опасение умножить клише о страдании, уже затверженные и коммерциализованные в репертуаре восточноевропейского диссидентства. Тоталитарное общество, из которого я вышел, при всей фантастичности его мизансцен, не было, как предпочитала бы считать западная аудитория, какой-то неземной, дьявольской аберрацией, но человеческой реальностью, которая могла бы, в других формах, снова возродиться как идеология и даже как общественная структура. Что я хотел обсудить с самого начала эмиграции, было скорее отношение между писателем, властью и не такими уж невинными угнетенными массами. И, конечно, отношение между писателем и его собственной уязвимостью».
Отобранные нами рассказы взяты из книги «Октябрь, 8 часов», которая особенно ценится в мире и по художественным достоинствам, и как прямое биографическое свидетельство автора о детстве, проведенном за колючей проволокой.
«Жизнь в режиме чрезвычайного положения зловещей нитью связана с его письмом, – отмечает Филип Рот, посвятивший Норману Мане свой роман „Умирающий зверь“ (2001), – отсюда такое архимучительное впечатление от его судьбы и книг. Борьба существ уязвимых, отнюдь не героических, однако упрямо, вопреки всем трудностям, противостоящих деградации и тому, что Норман Маня называет „крахом человечности“. Никакие нравственные усилия не трогают больше, чем эти».
Публикация рассказов Нормана Мани – первая в России после перерыва более чем в четверть века.
Анастасия Старостина.
Смерть
По правилам игры, в тот момент, когда их ударяло звуком, девочки замирали. Нельзя было ни моргнуть, ни вздохнуть, ни шелохнуться. Даже если окрик или особым образом запущенный в ограду камень, имитация выстрела, или дребезг стекляшки, ударившей о стену, заставали их на бегу или на скаку, несущими воду, плетущими косы, в самых немыслимых позах, в которых долго равновесие не удержишь.
Случилось, недавно, что двух из них сигнал застиг в проеме окна, их качнуло вниз, а окно было чуть ли не под потолком барака. Они повисли, еле перебирая тонкими ножками, еще секунда-другая – и сверзнулись бы навзничь. Повезло: мимо проходил один крепкий парень, он успел вовремя их подхватить.
Девочкам случалось простоять без движения и целый час, как того требовали правила, в той позе, в которой их остановил сигнал. Либо руки на взмахе – нога занесена в воздух, либо шея вывернута назад – скрючена спина. А не то пальцы зависали над самой землей, нацеленные на обшлаг рукава чьего-то бывшего пальто или даже – трудно поверить – на пергаментную бумагу со следами масла, невесть как залетевшую сюда прямо из столовой охранников. При всей жгучести желания, не было такой силы, чтобы стронуть их с места. Они были мертвы – слепы и глухи к любому соблазну.
От этой игры ответвлялись другие. Девочки придумали игру «в манекены». Надо было – раз – и застыть грациозной барышней или дамой. Застывшие позы маленьких чумазых статуэток в обносках действительно были не лишены элегантности, какая подобала, по их представлениям, миру, сохранившему идеал благородной изысканности дам, чье совершенство воплощалось в неподвижности манекенов.
Игру можно было бы назвать, однако, и по-другому. Их оцепенелость, в том виде, до какого они дошли, почти голые, почти скелетики, одолевавшая их бездвижность, внезапность остановки и отказа от любого движения, чуть ли не от дыхания, – во всем этом было что-то, предвещавшее недоброе.
Глядя на них, мальчик много раз думал, не притянет ли игра, не поторопит ли это недоброе. Он словно бы чуял поблизости скрытый ружейный ствол, целящийся из-за стены или из постовой будки… Развлечение что надо для часовых. Когда девочкам подадут сигнал, – крик, часто подражающий звуку выстрела, – они не поймут, что одна из них рухнула без дыхания. Не подумают, что выстрел был настоящий и что падение мишени вышло за рамки игры.
Они стояли в жеманных позах, упиваясь добытым ими самими знанием, что неподвижностью можно сберечь горделивость, нежное кокетство другого мира, в котором, по их представлениям или по рассказам кого-то из взрослых, еще были дамы и господа, нарочно созданные для того, чтобы ими восхищались издали, через стекла витрин… Мальчик словно бы видел дуло ружья или укрытую в нескольких шагах отсюда маленькую дырочку револьвера, стерегущую их, готовую возвестить другую игру, которая на славу развлекла бы солдат.
В тот день, когда, застигнутые сигналом в проеме высокого окна, почти под потолком барака, набитого тесными, в два этажа, рядами коек, те две девочки потеряли равновесие и были подхвачены в последний миг Ликой, здоровенным парнем с рыжими, а теперь и с проседью, курчавыми волосами, неподражаемого цвета, блекло-розово-кирпичного, мальчик был уверен, что на сей раз несчастье стряслось. В ужасе он нескоро открыл глаза: смуглянки снова носились по двору. Да, испуг не вполне прошел, но они были живы и чудо как веселы.
…Вокруг, за оградой, вспыхнули цветы. Наступила весна, запели птицы. Он не умел их распознавать, называть по имени, никто не нашел времени рассказать ему о цветах и птицах. Ни о множестве букашек, которые ожили вместе с солнцем.
Он прислонился к столбу ограды. Закрыв глаза, млея. Его проняло теплом, он расстегнул рубашку до пояса. Рубашку очень колоритную, из разномастных кусков: их добыла, бог весть как, мама. Он расстегнул две свои пуговицы: одну розовую, от одеяла, на вороте, другую, пришитую низко, почти у пояса, большую и черную, «от макинтоша», как дразнил его Лика, кузен. Он расстегнул обе пуговицы, распахнул рубашку, открыв слабенькую грудь с желтоватой кожей, одни ребра. Стоял с закрытыми глазами, веки подрагивали, пульсируя, от света.
Солнце грело тонкие, несформировавшиеся косточки… подставленные пуле, которая только того и ждала.
Его ударило точно в грудь. Первая мысль, пока он еще не открыл глаза: «Где же выстрел, звука не было?» В самом деле, ничего. Вот разве что-то прожужжало.
Он почувствовал глубоко вонзившуюся пулю и место укола. Беспорядочно замахал руками, закричал. Это была смерть, она длится считаные секунды, все рушилось, времени не оставалось. Он побежал, бледный, простреленный мертвец: глаза вылезли из орбит, перепуганные, черные, какая-то желтая тварь гналась за ним, вилась над плечами. Он завертелся на месте, закрылся руками, защищаясь, споткнулся, рубашка спала с плеч. Он бросился бежать, больше не оглядываясь. Он бежал вприпрыжку, земля расходилась под каждым прыжком, он несся с раскрытым ртом, белый как мел, в поту – не потерять последние секунды, успеть добежать. Боль нарастала, тонкая скоростная трасса, яд шел вверх, будет слишком поздно… он с размаху ударился о дверь барака, влетел внутрь.
Дядя, как всегда, смотрел наружу в щель между досками. Старуха молилась в углу. Они бы не смогли ему помочь, они его просто не видели. Он покачнулся, скоро его оставят силы, он это знал, толкнулся в дверь к соседям, потом к другим, потом еще дальше по коридору. Он не мог говорить, задыхался, лицо горело, слезы жгли щеки.
Перепрыгнул через порог, обежал, рыдая в отчаянии, двор. Время уходило стремительно, он бросился в другой барак, он нашел ее, наконец-то! Он еще успеет показать ей вздутие на груди, место раны. Задыхаясь, он просил, скорее, скорее, надо сделать все, не тянуть. Может, его еще можно спасти… в него целились, его прострелили, что-то желтое, с ядом… Но шершавая ладонь погладила его по макушке, успокаивая. Дурацкие нежности, это мама умеет – канителить. Вот у него силы на исходе, он умирает, и даже она не понимает катастрофы. «Ничего, это пчела, ничего». Но он содрогнулся от ее спокойного голоса. Даже она не понимает, а значит…
Он хотел было уже поднять на нее глаза, завыть, как вдруг сзади раздался дикий хохот. Голос был знакомый – это сотрясался от хохота двоюродный брат, Лика. Верзила-братец тощал, выглядел не ахти, но у него еще были силы. И все силы он собрал, толстокожий, чтобы обрушить на него этот смех.
Чай по Прусту
Те, кто теснился у массивных деревянных дверей, любопытствуя, были, скорее всего, сами пассажирами, или провожающими, или зеваками, которые обычно околачиваются на вокзалах, но в тот день в зал ожидания не пускали никого. И посмотреть, что происходит внутри, тоже не удавалось. Окна были слишком высоко, стеклянные вставки в дверях – грязные и запотевшие.
Зал ожидания поражал размерами, все терялось в нем, все он проглатывал – трудно было представить, что и в него можно вдохнуть жизнь. Примостившиеся на своих узлах люди в лохмотьях жались друг к другу от стен к центру, кругами. Стоял нестихающий гул.
Голоса, тонкие и отчаянные, сиплые, стенающие, зазвучали истошно при появлении сестер милосердия. Белые халаты едва пробирались по ногам, через сплетение стольких тел, отовсюду к ним тянулись руки, норовя ухватить чистеньких сестер за подол или за рукав, а не то и за плечи и шею. Кто вскрикивал, как бы молясь, кто хрипел, кто заклинал. Некоторые плакали, особенно сидящие по краям и не надеющиеся, что им достанется кулек и стакан.
Любопытные, сбившиеся по ту сторону деревянных дверей и толстого стекла, напрасно пытались бы разглядеть лица в мешанине скелетов, одетых в тряпье, подвязанное веревками, определить возраст и пол тех, кого втиснули в вокзальный зал ожидания. Женщины, все, казались дряхлыми старухами-арестантками, дети, высовывающиеся между ними, с синюшными мордочками, – апокалиптическими мужчинами, словно бы сплюснутыми, примятыми теми же орудиями пыток, что урезали их в размерах.
Сестры милосердия, конечно, знали, что в зале не было ни одного мужчины и, кроме того, не было ни девушек, ни молодых женщин. А ведь именно их отсутствие вызывало жалобы и стенания, которые не могли уразуметь сестры милосердия, именно оно усугубляло панику: люди не понимали и не хотели принять факт своего спасения, они подозревали тут новое коварство, совсем уж дьявольское и, разумеется, готовящее им новые муки, а может, кто знает, и вовсе конец. Почему придержали мужчин и трудоспособных женщин? Чтобы привезти их в другой раз, другим поездом? Дескать, не хватило места? Неужели кто-то противился тому, чтобы ехать в тесноте и давке? Да, они могли отказаться от этих больших и шикарных вагонов, покачивающихся, как царские барки… пусть бы их везли на телегах, пусть бы заставляли идти пешком десятки километров, но вместе: мужья, жены, сыновья и дочери, старики и дети, вместе.
Стриженая, как все, в наголовнике из мешковины, женщина, перед которой остановилась сестра милосердия, тоже не имела возраста. Она хранила молчание. Не ответила соседке, когда та вынула у нее из рук останки одеяла и обернулась в них. Даже не шелохнулась, когда старуха слева, увидев в ее немоте подтверждение собственных предчувствий, забилась, воздевая руки к небу. В конце концов она подняла голову: изрытая морщинами, древняя финикийская маска. Не дрогнула и когда сестра милосердия отшатнулась, как будто ей в нос ударил запах… Только смотрела, не мигая. Как и карлик, прислонивший маленькую желтую головку к ее оголившемуся плечу.
Зал ходил ходуном, согреваясь. Непрерывный, ритмический гул спустил вниз потолок и сблизил стены. Зал поуменьшился. Все шевеление происходило внизу, невысоко от пола. Надо было сильно запрокинуть голову, чтобы потолок отдалился, как уходит вверх недостижимое небо. Шум оставался позади, далеко, где-то внизу, приглушенный. Тех, внизу, оглушал гвалт, изнурял страх, у них отшибало память.
И она забыла. Перестала все время думать о том, что могло случиться в непришедшем поезде. Ее бы не пустили туда, она знала – она выглядела, как старуха, никто бы не поверил, что ей нет и тридцати. И потом ей незачем было хотеть на поезд, предназначенный для мужчин и молодых женщин. Она ведь тоже видела, как припали друг к другу, бесстыдно, отец и моя кузина в ту минуту, когда выходили из ряда. Она не смотрела на них, но видела, конечно же, все. Смирно встала в колонну, бессильно держа за руку карлика, который волокся за ней. Даже не дернула его, понукая. Помогла взобраться по высоким ступеням вагона. Она почувствовала, как мальчик обернул с верхней площадки ссохшееся сморщенное личико к тем двоим, оставшимся стоять на перроне, слишком близко друг от друга. Но ничего не сказала, опустилась на мягкую скамейку, закрыла в изнеможении глаза.
Может быть, тут, внизу, ее вконец одолел гвалт стольких растерянных голосов, она забылась… пока не вздрогнула, оттолкнув тонкую шейку карлика, лишая его гнездовья, где он притулился. Ее острое и влажное плечо не заменило бы, правда, даже во сне или в памяти ребенка, свежие и пухлые, такие желанные щеки подушки.
Пальцы, которые притронулись к плечу дикарки, а после к ее худым, как палки, рукам, принадлежали даме в белом халате. Дама улыбнулась карлику, склонив красный крест, сиявший над ее лбом. Протянула кулек с бисквитами и кружку.
Стенки кружки были горячие. Щеки зверька ушли в желтизну жидкого круга, в пар с немыслимым запахом. Неимоверное блаженство, которое не могло длиться долго, в котором страшно было бы задержаться кому угодно, как бы оно ни услаждало. Неимоверное, но все-таки всамделишное, потому что и зал был всамделишный, гудящий, он услышал над головой, как рвется кулек, ладонь наполнилась бисквитами.
Мальчик пил глоточками, осоловелый от неги, в испуге. Он понял, что это все правда, а значит, имеет конец; он сам, в полуобмороке от блаженства, торопливый, приближал конец. Кружка была уже наполовину пустая. Он оторвался от нее, посмотрел на свою ладонь с маленькими пышными бисквитами. Осторожно надкусил первую сладкую мучную ракушку. Только тогда он почувствовал голод. Он ухватил одной рукой кулек. В другой он держал кружку. Затолкал горсть бисквитов в рот. Трогательный карлик, хотя и жутковатый на вид, так что дама вложила в руку его матери еще один кулек.
– Пей чай. Пей, пока горячий.
Говорят, души тех, кого мы потеряли, на самом деле затворяются в чем-то неодушевленном. Таятся, пока не почуют наше приближение, и зовут нас – чтобы мы их узнали, чтобы высвободили из смерти. Может быть, прошлое и впрямь нельзя вернуть по приказу памяти, а оживает оно только через непонятно как, само по себе и вдруг возникающее чувство – через запах, вкус, ощущение на языке при встрече с какой-то мелочью из давних времен, с чем-то проходным и инертным.
Но аромат этого божественного напитка не напоминал ничего: такого блаженства – по крайней мере среди известных вещей – просто не было. Никоим образом такой колдовской напиток не мог называться чаем.
А значит, следовало обратить взгляд вверх, к небу из грязного камня, где роились черные тучи мух и откуда должен был появиться дедушка, единственный, кто мог дать ответ.
Они собрались, как обычно, вокруг него, каждый держал в обхват горячую кружку с зеленой водой. Окрестные травы этих чужих мест, к которым дедушка изредка, когда находил, добавлял цветы акации.
На высоком своде зала ожидания, где на лампочки слетелись тучи проснувшихся мух, возникли, как на круглом экране, дедушка, бабушка, родители, тетя, все грели ладони о дымящиеся кружки и все смотрели вверх, в одну и ту же точку. Подсаживалась, как ни в чем не бывало, и Анда… Сидела смирная, кроткая, хотя, конечно, это было порядочным бесстыдством – участвовать в чайном ритуале, на который дедушка созывал семью и окидывал каждого пристальным взглядом, давая понять: он знает все про всех – не только про дочерей, но и про зятя, и про свою красивую и грешную внучку.
…Дедушка, снова живой, не сводил глаз с белого кубика сахару, подвешенного, как всегда, к лампе на потолке. Все должны были смотреть на него, сосредоточась, не одну минуту, прежде чем приняться за теплую воду. Те, кто помнил вкус сахара, то есть те, кто успел, до катастрофы, приучить нёбо к сладости маленьких белых кубиков, постепенно начинали ощущать липкую влагу на губах. Горьковатая зелень воды делалась сладкой, приятной, «доподлинный чай», говорил дедушка.
Ритуал повторялся почти каждый день ближе к вечеру. В строгой, но и не без юмора режиссуре старика с всклокоченной, местами еще черной бородой. Он был уверен, что вернется, он сохранил как знак оттуда и пропуск туда грязноватый кусочек сахару. После того как начинали разливать кипяченую воду, никому не дозволялось смотреть никуда, кроме как в свою кружку, дожидаясь, пока вода, клокоча, нальется в соседнюю и наполнятся по очереди кружки у всех. Потом все поднимали глаза к лампе, с которой свисал на веревочке маленький, почти белый параллелепипед сахару. Смотреть на него надо было терпеливо, долго, а чай отпивать по глоточку, пока не почувствуешь, как освежаются, как ублажаются губы, язык, рот, все существо воспоминанием о мире, от которого нам не следовало отказываться, потому что, так он верил, мир не отказался от нас и не мог бы без нас обойтись. Чай дымился в кружках, они молчали, сосредоточат, как от них требовалось, на кусочке сахару, маленьком и грязном, который дедушка придумал сохранить для каждодневного чаепития вприглядку.
Свысока, поверх гула, сопровождающего отчаянные попытки несчастных вернуться к прежней жизни, со своего высока, из свободного пространства дедушка, отделенный от огромного зала и столь верящий в возвращение, которое ему не выпало, мог бы подтвердить, что волшебный напиток был и вправду свидетельством, что мир принял их обратно, однако напиток этот даже отдаленно не напоминал то неподражаемое питье, «доподлинный чай».
– Обмакни бисквитик в чай. Пей, пока горячий.
– Пей, пока горячий, – повторяла то одна то другая сестра милосердия.
У пышных кругляшей из теста, когда их обмакнешь в чай, был бы, бесспорно, именно вкус счастья, явись они вовремя. Уход в головокружительную полноту ощущения – они могли бы быть бесценным даром, заслужить который есть надежда только у немногих избранных, – с тем, чтобы когда-нибудь, каким-то волшебным обменом возвратить его, отплатить тем же.
У бисквитов был вкус мыла, грязи, ржавчины, жженой кожи, снега, листьев, дождя, костей, песка, плесени, мокрой овечьей шкуры, грибов, губки, мышей, гнилого дерева, рыбы, не имеющий себе подобия вкус голода. Голода.
Так что бывают и дары, единственное свойство которых и единственный изъян – это то, что их нельзя ни на что обменять. Их никогда больше не позовешь, не воротишь, не обретешь вновь.
Страх и голод, унижение, слепая, звериная торопливость, беспощадное одиночество – все осталось. Таким осталось детство.
Острота чувств, осененность милостью и волшебством, хмель и самозабвение? Дух и запах, и переполненность жизнью тех зыбок, где ожидание как бы длит рождение без конца?
Если впоследствии я что-то утратил, так это именно жестокость безразличия. Только много позже; с трудом; много, много позже. Потому что только много позже я стал тем, что называется… существо чувствующее.








