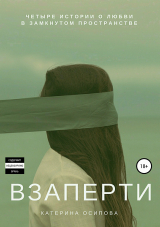
Текст книги "Взаперти"
Автор книги: Катерина Осипова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Катерина Осипова
Взаперти
В оформлении обложки использованы фотография и готовый макет с https://www.canva.com по лицензии CC0.
Взаперти
Рассказ о любви, которой не было
Любая красивая цитата об одиночестве.
(Автор, которого всем хочется цитировать)
Передо мной стоит пустая коробка. Я могу положить в неё все свои книжки по клинической психологии, «Призраков прошлого» и чашки, куда литрами лью кофе, пока они не почернеют. Я могу положить в неё сто часов личной терапии, а сверху еще столько же. Могу положить пару десятков дневников, исписанных от руки, и пару сотен картинок, нарисованных мной и не мной одновременно. Могу положить шрамы от скальпеля и затушенных сигарет, дни голодовки и недели неконтролируемого поглощения разнообразной еды. Четыре попытки самоубийства и бесконечное число попыток вернуться к нормальной жизни.
Единственное, что я никогда не смогу положить в пустую коробку, а потом отнести на помойку – моя память. Осьминожьи щупальца прошивают её тут и там, как нитки на лоскутном одеяльце, и потому я никогда не бываю одна. Ни днем, ни ночью. Ни во сне, ни в сладкой дреме, ни в разгар работы. Никогда.
Интересный факт: у осьминогов три сердца. Значит ли это, что они могут любить и ненавидеть в три раза сильнее, чем люди? Кстати, осьминоги и правда очень чувствительны. Улепетывающий со всех ног от опасности октопус белеет, а разгневанный на весь мир и свой кусочек океана в частности – краснеет.
Еще один факт: крошечный голубокольчатый осьминожек одним укусом гарантирует человеку либо смерть, либо мучительную искусственную вентиляцию легких, пока яд не рассосется и не покинет несчастного.
И последний: гектокотиль осьминогов-аргонавтов похож на маленького захватчика вражеской территории – он отделяется от тела самца и самостоятельно проникает в тело самки, приговаривая её к неизбежному материнству.
В общем, у осьминогов очень насыщенная жизнь.
Мне недавно звонила знакомая, уверенная, будто она подруга. Я как раз складывала чистое белье, целые кипы чистого белья. Она сказала:
– Почему ты отказалась от насыщенной жизни?
Часть I. Три сердца
ТунецХорошего тунца днем с огнем не найти. Тот, что лежит на прилавках из льда и «воссоздан» из замороженного сырья, можно пустить разве что на корм кошке.
У меня нет кошки.
Приходится брать консервированного; и чувствовать себя кошкой, поедающей кошачий корм из специальной кошачьей консервной банки. Если бы у меня были кошачьи лапки в придачу, с острыми коготками и упругими подушечками, я могла бы прямо в отделе консервов запустить их под шапку и счесать с головы весь скальп со всеми крошечными жесткими шариками омертвевших кожных выделений. Вокруг меня так много людей, вещей, огней и неожиданных происшествий, что голова чешется больше обычного, куда больше обычного. Может быть, я даже заразилась вшами от старушки с вороньим гнездом на голове. А вот тот сопливый ребенок наверняка наградил меня пневмонией.
Такие высокие потолки!
Мысленно проверяю список покупок:
– Яблоки зеленые
– Яблоки красные
– Груши
– Куриное филе
– Гречневая лапша
– Тунец
– Помидоры черри
– Молоко
– Кофе
– Чипсы
Да, остался только тунец.
Такие чертовски высокие потолки в этом супермаркете!
А чипсов хватит, чтобы обеспечить гастритом полную детсадовскую группу. После разговора с А. съем все под какой-нибудь дурацкий ужастик, чтобы отвлечься от мыслей о вшах, пневмонии и потолках. Нужно только найти на бесконечно длинных полках тунца, взять побольше и – бегом на кассу. Потолки становятся все выше, будто их притягивает огромный магнит в самом сердце Вселенной, и они плывут, плывут вверх все быстрее, утягивая за собой банки с тунцом, кошачий корм, полные ведра чипсов, острые коготки, колючую шапку, сопливого ребенка, нечесаный парик старушки…
Так трудно дышать.
Улица 1905 годаЕсли бы я была компанией, меня бы звали «Что-то там лимитед». Эксперт в чем-то там. Ведущий производитель чего-то из чего-то еще.
«Что-то там лимитед». Добро пожаловать в наш офис:
Вот старый пятиэтажный дом, весь в заплатках шпаклёвки. Старая-старая улица 1905 года, где осталась всего пара таких домов плюс пара модернизированных бараков плюс училище какого-то там сервиса для тех, у кого руки не из того места растут. В этом доме перманентно ломается, течет и разваливается все, что возможно. Должно быть, устроившаяся здесь компания не может похвастаться хорошим доходом.
Вот первый этаж с двумя однотипными квартирами и двумя рядами грязно-рыжих почтовых ящиков. Половина из них цепляется дверцами за хлипкие, замусоленные резинки – замки канули в лету еще лет двадцать назад, когда в этом доме жили благопристойные семейные кланы. Сейчас такого нет. Жилое пространство поделено в равных долях между семьями-однодневками, стариками и теми, кто занял квартиры после их смерти (наконец-то!). Все смотрят друг на друга чуть подозрительно. Оценивающе. С кем могут быть проблемы? Кто потенциальный дебошир?
«Что-то там лимитед» примостилась по соседству с дочкой алкоголиков. Алкоголики, по понятным причинам, до старости не дожили. Дочке от тридцати до сорока лет, она выглядит как великовозрастное пропитое дитя. Вместе с квартирой ей достались: многолетний бардак, долг под сотню тысяч за коммунальные услуги и мелкая шавка, что не затыкается ни на минуту.
В квартире «Что-то там лимитед» две комнаты, кухня, ванная комната тире санузел и небольшая прихожая. Прямо напротив входной двери висит зеркало в половину человеческого роста. Сразу видишь себя в неровном свете старой, как дом, лампочки: все морщинки, накопленные за день и все синяки под глазами, что наслаиваются друг на друга изо дня в день. И слой пыли на трюмо, что отражается в такой же пыльной зеркальной поверхности – руки не доходят сделать добросовестную уборку. Всему виной усталость, что видна невооруженным глазом наравне с морщинами и синяками. Свинцовая усталость землисто-серого цвета.
На кухне стоит холодильник, всегда до отказа набитый долгохранящимися продуктами. Пришлось отказаться от зелени, большей части овощей и фруктов, яиц, свежих молочных продуктов. Никакого греческого йогурта, никаких салатов из брынзы, черри и рукколы – слишком часто нужно ходить в магазин, чтобы иметь подобное в еженедельном меню. С каждым месяцем рацион сужается все больше и больше. Все, что сейчас можно себе позволить: замороженные овощные смеси, полуфабрикаты и прочую ерунду. Омерзительное нечто, что и едой-то назвать трудно. Но альтернатива ей – улицы, магазины, люди. Пожалуй, с такого угла обзора перемороженные блинчики обретают особую ценность.
В одной из комнат на столе стоит моноблок, лежит графический планшет и пачка бумаги для набросков. Ящики стола забиты художественным барахлом, и тут есть решительно все: от скетчбуков и акварельных красок до огромной коллекции линеров, ластиков, кистей, механических карандашей и бог знает, чего еще. Все это – и работа, и способ как-то прожить большую часть времени, не занятую сном. На сон, кстати, уходит не меньше двенадцати часов.
Еще на столе лежит (одиноко и неприкаянно) старенький ноутбук, весь покрытый царапинами. На него выливали в разное время и в различных пропорциях газировку, апельсиновый сок и даже воду, предназначенную для поливки цветов. Почти все цифры и знаки препинания не работают, а буква «К» регулярно вываливается из пазухи и отлетает черт знает куда.
«Что-то там лимитед». Добро пожаловать в наш офис.
«Что-то там лимитед» зовут Христиной.
А.У меня нет ностальгических чувств к ноутбуку. Он нужен, чтобы созваниваться с А., сидя на полу или на диване – многочасовое сидение за столом давно угробило мою спину. Особенно, если хорошенько сгорбиться и накрениться к стене, будто Пизанская башня. Балансирующие на кончиках больших пальцев ноги уместить под стулом и ждать, пока их не сведет судорогой. Работа работается, процесс в самом разгаре. И тут левая рука тянется к голове и начинает перебирать волосы, пока правая вырисовывает виньетки на рекламной иллюстрации.
Не знаю, почему я подумала, что А. сможет помочь мне. А если и помочь, то в чем? Выйти за меня из дома? Состричь все волосы и оставить в покое кожу? Собрать три сердца воедино?
Он говорит:
– Что вы чувствуете?
Я говорю:
– Чувствую что-то.
Он смотрит внимательно и дружелюбно, но ничего не понимает, и потому говорит. Говорит снова и снова:
– Что вы чувствуете?
И я говорю:
– Чувствую что-то.
А в итоге все сводится к:
– Есть что-то, влияющее на что-то. Или что-то в этом роде.
А то даже и так:
– Просто что-то начтотало что-то.
Всполохи бессмысленной болтовни. Сто минут в неделю вокруг да около.
У А. большие темные глаза, как у мультяшного персонажа – широко распахнуты, но в них ничего не видно и без подсказки решительно не понятно. Мне нравится неровная форма его головы, похожая одновременно на камень и головку домашнего сыра в обертке. Его кошка любит приходить в самый неудобный момент разговора, запрыгивать на кровать за спиной А. и устраивать там поудобнее большой пушистый зад, отвлекая мое внимание. Это мне тоже нравится. Чего не скажешь об аккуратно заправленной постели и двух подушках – иногда я вижу в них большие черные «трупные» мешки, иногда старые покрышки, иногда больничные резиновые подголовники.
Бывает, я подолгу сижу на полу, смотрю в окно или в угол комнаты и жду, пока запиликает скайп. Раз, и раздражение накатывает приливной волной, захватывая по пути жар и пунцовую краску для моих щек.
Первое время мы много говорили о том, что важно. Я рассказывала А., как еще год назад любила выходить по вечерам во двор, тихонько тарабанить про себя считалочку и так выбирать, в какую сторону идти.
– Ночные прогулки?
– Не совсем. Я бродила от дома к дому и заглядывала в окна. Ну, понимаете, без всякого злого умысла. Просто смотрела.
– Просто смотрели… Хорошо.
Я почувствовала, как на слове «хорошо» что-то зачесалось, зашебуршело на затылке. Как хотелось снять этот кусочек кожи вместе с еще влажными после душа волосами! И отдать А. со словами:
– Сделайте биопсию и скажите, наконец, что со мной не так.
А. как будто услышал мои мысли и наклонился вперед, заполняя собой экран все больше и больше. Еще чуть-чуть, и ему там станет слишком тесно – голова, похожая одновременно на камень и головку домашнего сыра в обертке, упадет прямо мне на колени, глядя большими темными глазами мультяшки на мой рот, что вдруг разучился говорить.
Первое сердцеКровяные сгустки на раскаленном песке, где пахнет морем и солнцем, где лежат сухие арбузные корки и виднеются тут и там лунки липкого морковного сока. Сердце бьется в оковах остро заточенных ребер.
Над головой Христины – безоблачное голубое небо. Жарким летним днем эта голубизна становится такой же пугающе бесконечной, как Вселенная, что еще выше и дальше. Песок и мелкая галька царапают её спину. К вечеру кожа будет невыносимо саднить и зудеть, как если бы сотня разъяренных муравьев кусала её снова и снова. Сердце кровит и ноет.
Тело Христины елозит по песку вверх-вниз, в волосах путается пляжный мусор, а за ушами скапливаются влажные комья – это песок смешивается с потом и слезами. Христина смотрит в голубое небо, а красное сердце все кровит и кровит, и бьется о ребра, не в силах покинуть это место.
Где-тоНе знаю, как, но я сразу поняла: что-то изменилось. Неуловимое что-то, незримое что-то. Что-то, до чего пока нельзя дотронуться. На мгновение мне почудилось, будто остро пахнет жареным хлебом, а потом – оно. Вот это самое ощущение, что с нынешнего момента все будет совершенно по-другому, и с этим ничего нельзя поделать. Фатальная неизбежность.
Я лежала на своем маленьком диванчике, закрыв глаза, и пыталась поймать остатки хлебного запаха. Руки по привычке тянулись ощупать череп, пошуршать повсюду, словно в волосах застрял щекочущий песок.
Я думала о всяком, как и всегда.
Я чувствовала, как подбирается страх. И отгоняла его, составляя списки: что купить в магазине, что сегодня сделать по работе, что посмотреть вечером перед сном, что пораскрашивать до завтрака и что послушать в процессе.
Я никак не могла заставить себя открыть глаза. Неясное предчувствие – а что, если?.. А что, если надо мной навис кто-то. А что, если в соседней комнате поджидает что-то.
Но все равно нужно встать.
Кругом лишь тени. И неуловимое нечто. А на завтрак – блины. С вареном сгущенкой и сиропом из топинамбура. Можно включить телевизор, а можно не включать.
Я бродила из кухни в прихожую, а потом обратно, пытаясь надумать какое-нибудь решение. С грехом пополам съела совсем холодный блинчик, посмотрела на гору пластиковых контейнеров (ждут, когда их отмоют дочиста) и вернулась в комнату.
Со вчерашнего дня остался целый список не сделанных дел: что купить в магазине, что сделать по работе, что посмотреть, что пораскрашивать и даже о чем подумать. Спроси меня А. прямо сейчас, чем же я в принципе занималась весь день – у меня не нашлось бы ответа. Было лишь очень нервное, очень тревожное ощущение, что на следующий день все изменится, а потом изменится больше и дальше, а в конечном итоге я не узнаю ни себя, ни мир вокруг.
Сегодня утром, да, сегодня утром, так и получилось.
И сегодня утром все опять валится из рук, и не знаешь, чем занять себя, и думаешь о ста вещах одновременно, пока голова не закипает чайником на пылающей плите.
То одной, то другой волной меня относит в ванную, где я прижимаюсь лбом к зеркалу и смотрю на отражающееся дыхание: вдох-выдох, туман-просвет, вдох-выдох, сожмет-отпустит, вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Песчинка в волосах. Вторая и третья. Упали на ладошку с тремя светлыми волосками. Намертво слиплись с волосяными луковицами, отяжелели.
И так весь день – от одной пристани к другой, слоняясь из угла в угол и выскабливая из головы песок. Кажется, будто никогда не удастся избавиться от него полностью. Тогда, на солнце, кожа стала мягкой, как теплый студень. Тающее желе, куда руки проваливаются по локоть без сопротивления. Песок просочился внутрь и остался там на долгие годы. В медицине это называется инкапсуляция: если тело не может вытолкнуть наружу инородный предмет, оно отращивает для него оболочку, мембрану, защитную капсулу или все сразу. Десятки неровных капсул с острыми кромками день ото дня движутся у меня под кожей от уха к уху, через затылок, быстро пробегая виски и всегда задерживаясь над лбом.
К вечеру мне хотелось выйти на улицу и покурить, но ничего из этого не вышло. Где-то бухали тяжелые мужские шаги, смеялся ребенок тоже где-то. Свернувшись клубочком на диване, я вспоминала сегодняшний сон. А. и я. В пугающей комбинации, что казалась во сне восхитительной.
Этот сон мог бы прописать и срежиссировать сам Такаси Миике, история очень в его стиле – болезненная, прекрасная. Вот Такаси сидит в кресле босса, в ярко-желтом пиджаке и красной вязаной шапке, из-под которой выбиваются на висках серебристые волосы. Он похож на возрастную азиатскую версию Трики; но, в целом, также хорош и притягателен.
Все готовы?
Хлопушка.
Мотор.
Погнали.
Я лежу в своей постели, прямо напротив режиссерского кресла. В комнате тихо и жарко. Мое тело выделяет, а потом испаряет воду – снова и снова, снова и снова. Все присутствующие в комнате ждут чего-то.
(Камера тихо жужжит, наводя фокус на Христину. Когда на рабочем экране появляется крупный план, в комнате загорается свет – на потолке и стенах установлены галогеновые лампы)
Стало еще жарче. Я больше не думаю о стеснении и откидываю в сторону простыню. Такаси безразличен и к голой груди, и к обнаженным гениталиям. Такаси следит за тем, чтобы свет с каждой секундой разгорался все ярче, пока комната не превратится в гигантскую кабинку солярия. А. появился как будто из ниоткуда, пока я терла слезящиеся глаза.
(Камера дает общий план героя: черная футболка и джинсы, босые ноги, аккуратный срез на шее – тело обезглавлено. В руках большая хэллоуинская тыква с ухмыляющимся разрезом на месте рта, внутри которой – темнота)
Дрожащая в горячем воздухе фигура все время уплывает куда-то, стоит только мне прищуриться. Я пытаюсь приподняться на локтях или хотя бы перевернуться, чтобы добраться до края кровати и подойти к нему, но… Меня вдавливает в жесткий матрас ярким светом, отражателями, внимательным взглядом Такаси Миике.
И вдруг моя кожа начинает плавиться, а простыня стремительно нагреваться, словно под кроватью развели большой костер. Но вот и кровати больше нет, есть только где-то. Где-то, где я лежу на дне сковороды-вок, шкварчу и таю, растекаюсь чистым жиром, я – сливочное масло, на котором Такаси пожарит на обед тыкву для всей съемочной команды.
(Такаси Миике снимает шапку, закатывает рукава пиджака. Ассистент подает ему нож, обезглавленное тело А. – тыкву. Под тыквой чуть заспанное лицо, моргающее быстро-быстро на ярком свету. Такаси мастерски разрубает тыкву напополам, шинкует съедобную часть и кидает в вок, где в глубокой луже канареечно-желтого масла плавают глазные яблоки, пара надтреснутых зубов и лоскут кожи со следами татуировки. Съемочная команда аплодирует)
Наваждение спало по щелчку пальцев. Где-то в соседней комнате протяжно заскрипели половицы. Кто-то громко шикнул, и после все стихло. А. подошел ближе, взял простыню и стер пот с моего живота. Снял футболку и джинсы, лег сверху. Пара ламп треснула от перенапряжения и осыпалась со стен вихрем осколков. Сразу стало спокойнее, интимнее. Я больше не видела на том месте, где должна быть голова, черного трепещущего пятна. Нет, там была пустота, а под ней холодное тело, долгое время лежавшее в холодильнике. Фиолетовая кромка шеи, белая кость, обескровленные ткани. В неоновом свете А. был бы похож на персонажа из фильма ужасов. Его черные любопытные глаза наблюдали за происходящим с маленького столика в углу.
(Камера делится и множится, и вот уже два десятка жужжащих мини-камер кружат над сплетенными телами Христины и А. Тело А. начинает оттаивать, нагреваясь от тела Христины. Он все еще синюшно-фиолетовый, она уже не такая розовая. А. медленно умирает, оставаясь внутри Христины до последней секунды. Такаси Миике доволен)
Стоп.
Снято.
Где-то.
Второе сердцеКто-то оставил на пляже большое пластиковое сердце. Повесил на ветку дерева, что сразу за линией песка. Сердце прозрачное, с плотно завернутой крышкой на самом верху. Внутри густая белесая жидкость, сверкающая на солнце. Кажется, будто сердце висит там не просто так – впитывает происходящее на пляже, поглощает и прячет внутри этой вазелиновой неподвижной жижи.
Оно уже запечатлело:
• Темные взъерошенные волосы. Жесткие и густые мужские волосы, по которым плачет шампунь или хотя бы мыло.
• Оранжевое полотенце на груде вещей чуть в стороне от двух людей на песке.
• Крик чайки в вышине, больше похожий на плач покинутого ребенка.
• Пару грубых словечек, с трудом проскользнувших сквозь крепко сжатые зубы.
Сердце, по большому счету, совершенно безучастно.
АМы встречаемся с А. по вторникам и пятницам, в семь часов вечера. Но встречаемся – это громко сказано, конечно. Две говорящие головы, разделенные экраном. Когда я смотрю на свою голову в углу скайпа, мне становится стыдно за то, что она такая неприлично большая.
– Здравствуйте, Христина.
– Здравствуйте, А.
– Мы не виделись с вами четыре дня. Что успело произойти за это время?
– Две аварии и три экологических катастрофы.
Дружеская улыбка.
– А., вы смотрели «Экзистенцию»?
– Нет, не приходилось.
– Суть в том, что погружение в игровое пространство со временем полностью стирает грань между реальным и игровым мирами. Получается замкнутая петля: а что, если это игра, которая похожа на реальность, в которой мы играем в другую игру, которая, в свою очередь, еще более реалистична? Знаете, это ведь своего рода шизофрения – с тем же успехом можно просто сказать себе: «Все, баста. Дело не в игре. Я просто окончательно свихнулся». Мне доводилось испытывать что-то подобное, и опыт был малоприятным.
– Что это было?
– Я примерно также запуталась внутри своей головы. Где есть я и где есть что-то отличное от меня, потому что быть всем сразу я точно не могу.
– В этом была амбивалентность?
Нет, милый А., в этом была натуральная шизофрения в лучших традициях Голливуда. Даже если на самом деле это называется каким-нибудь другим умным медицинским термином – суть от этого совершенно не меняется. Не знаю, чего такого вы сказали в прошлый раз (или же не сказали, кто его знает), но все полетело к чертям за какие-то четверть часа, как в многократно ускоренной съемке. Та-дам! Сюрприз. Приехали.
Вот я с какой-то неведомой радости придумываю сюжеты для авторской колоды карт таро. А. я сделала бы Повешенным, себя Дураком, а на самый верх Башни посадила бы ощерившуюся собаку с голодными глазами и навостренными ушами.
Плавный переход, и вот я уже сижу перед экраном ноутбука и разговариваю с А., как ни в чем не бывало. Если бы собака на Башне могла улыбаться, у неё бы точно растянулась ухмылка, как у меня в этот момент. Резиновая кукольная кожа, неровно покрашенная в ядреную смесь розового, белого и голубого (тонкими продольными мазками) – она натягивается слева, когда уголок губ уходит в сторону, обнажая пару зубов сверху и снизу. Всего секунда, и губы собираются обратно. Губы открываются чуть позже, чтобы сказать:
– Я хочу, чтобы вы отрезали мне какую-нибудь часть тела. Провели ампутацию. Что скажете?
Что тут скажешь, правда? Я показываю коробку со скальпелями, что стояла у меня на коленях все это время.
– Или я могу сама, прямо здесь и сейчас.
Я никак не могу вспомнить, какой была реакция А. Все мое (и не мое) внутреннее внимание было сосредоточено на мне (но и не на мне тоже). Я видела свои улыбки, свою длинную хрустящую шею, медленно склоняющую голову то к одному плечу, то к другому. Еще я видела, как быстро меняются на лице аффекты: бежать! замирать! резать! отбрасывать от себя коробку!
Вот я делаю почти все и почти сразу. Вонзаю со всего размаху скальпель в бедро, и это совсем не больно. Не больнее, чем воткнуть его в деревяшку, которая не имеет ко мне никакого отношения. Беру другой и выкалываю им глаз, глядя прямо в красную точку камеры, прямо в глаза А.
– Я говорила вам, что чувствую порой, как вы нагло сталкерите за мной через веб-камеру?
– До этого момента не говорили.
– Ну и хорошо. Не хватало еще, чтобы вы меня в безнадежные сумасшедшие записали.
– Не переживайте, этого вы от меня точно не дождетесь.
Еще одна дружеская улыбка. Но я все еще во вчерашнем дне, где развертывается психоделическая картина возможного будущего нашего скромного терапевтического альянса.
Вот я беру взявшееся из ниоткуда полотенце и промакиваю кровь, сочащуюся из разорванной глазницы. На короткое мгновение мне кажется, что вокруг глубокой алой расщелины, что была глазом, смыкаются запачканные влажным песком бедра, и где-то в вышине протяжно стонет чайка.
– Слышите это?
– Что именно?
– Песня. Где-то играет сильно искаженная «The End». Я сначала даже не узнала.
– Почему?
– Потому что перепеть Джима Моррисона мог бы только Джим Моррисон, но он давно отправился на рок-н-ролльные небеса. Неужели не слышите песню?
– Честно говоря, нет.
«Нет» прозвучало глухо, словно из туго затянутого мешка.
Меня словно мотало туда-сюда приливом и отливом: то подносило к берегу, где на экране ноутбука мелькала фигура А., то уносило в сине-черные океанские воды, где только кораллы, водоросли, диковинные рыбы и галлюцинирующая бездна.
И вот, наконец, последний эпизод. Изогнутый скальпель, похожий на крошечный ятаган, взрезает с тихим хлопком кожу на шее, цепляет яремную вену – как провод – и перерезает.
– Что скажете?
– О песне?
– Да нет же! О том, что я только что рассказала.
– Вы мне пока рассказали об «Экзистенции»; о том, что был некий похожий на кино опыт; о том, что я смотрю на вас через веб-камеру; о песне. Разве нет?
Немая сцена.
А потом что-то мелькнуло в углу комнаты.








