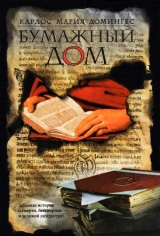
Текст книги "Бумажный дом"
Автор книги: Карлос Домингес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Карлос Мария Домингес
«Бумажный дом»
Памяти великого Джозефа
Один
Весной 1998 года Блюма Леннон купила в книжном магазине в Сохо антикварный экземпляр сборника стихов Эмили Дикинсон и, когда дошла до второго сонета, на первом переходе через улицу попала под машину.
Книги меняют людские судьбы. Некоторые, прочитав «Малазийского тигра» [1]1
Или «Сандокан», роман Эмилио Сальгари, итальянского писателя начала XX века, автора приключенческой литературы, которого называют «итальянским Жюлем Верном». – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть], стали преподавателями литературы в далеких университетах. «Демиан» [2]2
Роман Г. Гессе «Демиан. История юности Эмиля Синклера».
[Закрыть]обратил в индуизм десятки тысяч молодых людей, Хемингуэй превратил их в спортсменов, Дюма перевернул жизнь тысяч женщин, и многих из них спасли от самоубийства кулинарные книги. Блюма стала жертвой книг.
Но не единственной. Пожилого преподавателя древних языков Леонарда Вуда разбил паралич, когда на голову ему с полки книжного шкафа рухнули пять томов энциклопедии «Британика»; мой друг Ричард сломал ногу, пытаясь добраться до книги «Авессалом! Авессалом!» Уильяма Фолкнера, так неудачно стоявшей на полке, что он свалился с лестницы. Другой мой друг из Буэнос-Айреса заболел туберкулезом в подвалах государственного архива, и я знавал чилийскую собаку, которая умерла от заворота кишок после того, как в приступе ярости однажды вечером сожрала «Братьев Карамазовых».
Когда моя бабушка видела, как я читаю в постели, она всегда говорила мне: «Оставь это занятие, книги – вещь опасная». Долгие годы я думал, что это говорит ее невежество, но время показало, сколь мудра была моя бабушка-немка.
На похороны Блюмы собралось множество светил Кембриджского университета. Во время панихиды профессор Роберт Лорел обратился к ней с пышным прощальным словом, которое впоследствии было издано отдельной книжицей ввиду ее академических заслуг. Он говорил о ее блестящем университетском образовании, ее сорока пяти годах чуткости и интеллектуальности, а в основной части речи упомянул о ее решающем вкладе в исследования англо-саксонского влияния на латиноамериканскую литературу. Но завершил он выступление противоречивой фразой: «Блюма посвятила свою жизнь литературе, – сказал он, – не подозревая, что именно литература заберет ее из нашего мира».
Обвинившие профессора в том, что он испортил всю свою речь «неуклюжим эвфемизмом», натолкнулись на решительное противостояние помощников Лорела. Через несколько дней в гостях у моей подруги Энни я слышал, как Джон Бернон говорил группе последователей Лорела:
– Ее убила машина. А не поэзия.
– Ничто не существует за рамками своей репрезентации, – возразили двое юношей и девушка-еврейка с певучим голосом. – Все мы вправе выбрать такую репрезентацию, какую захотим.
– И создавать плохую литературу. Согласен, – парировал старик, приняв обманчиво примирительный вид, который снискал ему в университете славу циника, и переживая по поводу близящегося конкурса на должность в аспирантуре, где Бернон должен был сразиться с Лорелом. – По улицам города носятся тысячи необузданных бамперов, которые докажут вам, на что способно хорошее существительное.
Полемика об этой пресловутой фразе распространилась по всему университету, и студенты даже провели дебаты на тему «Взаимоотношения языка и действительности». Были просчитаны шаги Блюмы по тротуару Сохо, строфы сонетов, которые она должна была прочесть, скорость автомобиля, прошли рьяные дискуссии о семиотике движения в Лондоне, культурном, городском и лингвистическом контексте той секунды, когда литература и мир врезались в тело возлюбленной Блюмы. Мне пришлось заменить ее на кафедре испанской филологии, занять ее кабинет и взять на себя ее лекции, хотя меня вовсе не прельщал ход дискуссий.
Однажды утром я получил конверт, адресованный моей покойной коллеге. На нем были почтовые марки Уругвая, и, если бы не отсутствие адреса отправителя, я подумал бы, что это одно из авторских произведений, которые ей частенько присылали в надежде, что она опубликует рецензию в академическом издании. Блюма никогда этого не делала, разве что в случае настолько известных авторов, что с них можно было получить какую-то компенсацию. Обычно она просила меня отнести книгу в библиотечное хранилище, предварительно сделав на обложке пометку «UTC» («Unlikely to consult» – «запрос маловероятен»), которая, казалось, выносила им окончательный приговор.
Это действительно была книга, но не та, что я ожидал увидеть. Едва распечатав конверт, я инстинктивно сжался. Подошел к двери кабинета, закрыл ее, снова посмотрел на старый растрепанный экземпляр «Теневой черты». Я был знаком с диссертацией о Джозефе Конраде, которую писала Блюма. Однако удивительным было то, что на обложку и форзац книги налип толстый слой грязи. На краях страниц виднелись мелкие комки цемента, с которых на деревянную полированную столешницу сыпалась тонкая пыль.
Я вытащил платок и, недоумевая, взял им небольшой камешек. Вне всяких сомнений, это был портландцемент, остатки смеси, которая наверняка крепко-накрепко прилипла к книге до того, как кто-то намеренно постарался ее отчистить.
В конверте не было записки, только потрепанная книга, которую я не решался взять в руки. Перевернув двумя пальцами обложку, я обнаружил дарственную надпись Блюмы. Почерк был ее, зеленые чернила, буковки – плотные и круглые, как вся Блюма, и я без труда разобрал надпись: «Эта повесть, следовавшая за мной из аэропорта в аэропорт, – мой дар Карлосу в память о безумных днях в Монтеррее. Жаль, что я чуть-чуть колдунья и сразу поняла: ты никогда не сможешь совершить ничего, что способно меня удивить. 8 июня 1996 года».
Мне была знакома квартира Блюмы, диетическая пища в ее холодильнике, запах ее простыней, аромат нижнего белья. Я делил ее постель вместе с еще одним заместителем заведующего кафедрой и студентом, затесавшимся в список без очереди. И, как и все остальные, я знал о ее поездке на конгресс в Монтеррей, где, похоже, у нее случился один из тех молниеносных романов, какие Блюма дарила себе, чтобы подпитывать собственное тщеславие, которому угрожали потеря молодости, два мужа и мечта проплыть на каноэ реку Макондо, унаследованная от «Ста лет одиночества». Но почему два года спустя книга вернулась в Кембридж? Где она побывала? И что должна была прочесть Блюма по остаткам цемента?
Мне привелось держать в руках замечательное издание «Ирландских волшебных и народных сказок» с прологом Уильяма Батлера Йейтса и оригинальными иллюстрациями Джеймса Торренса, сборник «Неизданная переписка маркиза де Сада, его семьи и близких», у меня была возможность на несколько кратких минут коснуться инкунабул [3]3
Инкунабулы – печатные издания, выпущенные в Европе до 1501 года ( лат.incunabula – начало).
[Закрыть], перелистать их страницы, почувствовать их вес, одинокое превосходство над всеми, но никогда ни одна книга не приводила меня в такое замешательство, как этот грубоватый экземпляр, чьи влажные, покоробившиеся страницы уже сами по себе требовали прочтения.
Я положил книгу в конверт, спрятал его в портфель и осторожно, словно вор, стер пыль со стола.
В течение недели я просмотрел записи Блюмы в поисках адресов, которыми обычно обмениваются на конгрессах критиков и писателей. Я нашел их перечень в папке охристого цвета под названием «На память о Монтеррее». Ни одного из двух писателей, приехавших из Уругвая, не звали Карлосом, но я записал их почтовые и электронные адреса. Я твердил себе, что не должен лезть в личную жизнь Блюмы, и в то же время – что такая необычная и бесполезная книга, если не считать смысла, скрытого в цементе, который могла прочесть лишь она одна, должна вернуться к тому, кто ее послал.
Я пристроил книгу на подставке на одном из столов в моем кабинете и, признаюсь, иногда по вечерам смотрел на нее с заинтригованным волнением. Быть может, потому, что пылесос Элис не оставлял ни грамма пыли даже на самых верхних полках моей библиотеки, и на ковре или на каком-нибудь столе о ней даже речи быть не могло, эта книга нарушала равновесие комнаты, словно бродяга на пиру в императорском дворце. Книга вышла в издательстве «Эмесе» в Буэнос-Айресе в ноябре 1946 года. Приложив немного усилий, я выяснил, что она входила в серию «Врата слоновой кости», которую вели Борхес и Бьой Касарес. Под слоем извести и цемента еще проглядывал рисунок корабля и что-то вроде рыб, хотя тут я не был уверен.
Через несколько дней Элис подложила под подставку фланелевую тряпочку, чтобы пыль не пачкала стекло, и каждое утро меняла ее с той безмолвной тактичностью, которой с самого начала завоевала мое полное доверие.
Первые электронные сообщения от коммуны штата Нуэва-Леон ничего не дали. Мне прислали список участников, который у меня уже был, программу конгресса и карту города. Впрочем, один из уругвайских писателей подтвердил, что в качестве слушателя в конгрессе участвовал Карлос Брауэр, библиофил из его страны, которого он видел выходящим после ужина в обществе Блюмы, когда оба уже отдали должное не одной рюмке текилы и станцевали невероятные па вальенато [4]4
Вальенато – колумбийский танец.
[Закрыть]. «Прошу вас о конфиденциальности, – добавил он, – поскольку речь идет об интимных подробностях».
Я представил, как она танцует в колониальном дворике при свечах в неверную жаркую ночь, какими бывают все ночи в Мехико, стараясь доказать, что, может, она и гринго [5]5
Так в Мексике презрительно называют иностранцев, не говорящих по-испански.
[Закрыть], но вовсе не какая-то неуклюжая кукла, серьезна, но не идиотка, элегантна и чувственна. Я видел, как потом она, пошатываясь, идет по мощенной булыжником улочке, держась за руку ведущего ее мужчины – возможно, счастливого? – а их тени прячутся в темных подъездах.
Писатель сообщил мне, что Брауэр переехал в Рочу – округ, омываемый Атлантическим океаном, – и больше он ничего о нем не слышал, но если я дам ему несколько дней, он попытается узнать через своего друга, как с ним связаться.
Пятнадцать лет – немалый срок, именно столько я прожил в Англии. Каждые три года я возвращался в Буэнос-Айрес навестить мать, возобновить контакты с друзьями из прошлого и окунуться в язык бассейна Рио-де-ла-Плата среди пестрой фауны Буэнос-Айреса, однако Уругвай я почти не знал. У меня сохранилось слабое воспоминание о ночном путешествии на пароходе в Монтевидео, когда мне было пять лет, и отец поднимал меня на руках; друг как-то пригласил меня пожить несколько дней на Пунте-дель-Эсте [6]6
Курортная зона в Уругвае.
[Закрыть], но в Роче я не был. Едва мог представить себе, где это находится.
Нет, не пляжи аргентинского юга оставили у меня впечатление грязного ветрового стекла в дождливый день. Быть может – небо в избытке, открытый простор песка и ветра вместе с историей Карлоса Брауэра связали побережье Рочи с ветровым стеклом и со страшным предупреждением, которое возвращается ко мне всякий раз, как кто-то похвалит мою библиотеку. Каждый год я дарю студентам не меньше пятидесяти книг, и все равно приходится добавлять новый книжный шкаф или ставить книги в два ряда; они с невинным видом бесшумно заполоняют дом. Я не в состоянии остановить их.
Много раз я задавался вопросом, зачем храню книги, которые могут пригодиться только в неопределенном будущем, названия, далекие от привычных путей, раз прочитанные экземпляры, страницы которых я не открою еще много лет. Быть может, никогда! Но как я могу избавиться, к примеру, от «Зова предков» [7]7
Повесть Джека Лондона.
[Закрыть], не уничтожив при этом один из немногих кирпичиков моего детства, или от «Грека Зорбы» [8]8
Приключенческая повесть Никоса Казандзакиса.
[Закрыть]– слезы, пролитые над ним, положили конец моему отрочеству; «Двадцать пятый час» [9]9
Повесть Константина Виргиля Георгиу (1916–1992), румынского франкоязычного писателя.
[Закрыть]и многие другие, давным-давно вытесненные на самые верхние полки в священной верности, которую мы себе приписываем, но тем не менее невредимые и немые.
Часто избавиться от книги труднее, чем ее приобрести. Книги лепятся к нам на основе соглашения о необходимости и забвении, словно были свидетелями эпизода нашей жизни, в который нам нет возврата. Но пока есть книги, нам кажется, что эти мгновения еще здесь. Я видел, как многие отмечают день, месяц и год прочтения; прочерчивают скромный календарь. Другие записывают на первой странице свое имя и, перед тем как отдать книгу кому-то почитать, заносят в дневник получателя и добавляют дату. Я видел запечатанные тома, как в публичных библиотеках, и тома с маленькой визиткой владельца, аккуратно вставленной в середину книги. Никому не хочется потерять книгу. Уж лучше потерять кольцо, часы, зонтик, чем книгу, страницы которой мы уже не перевернем, но в звуках названия которой кроются старые и подчас утраченные чувства.
В конце концов выходит, что размер библиотеки все же имеет значение. Книги выставляют напоказ, словно большой открытый мозг, под жалкими предлогами и покровом ложной скромности. Я знавал преподавателя классических языков, который нарочно мешкал на кухне, готовя кофе, чтобы гости могли полюбоваться названиями на полках. Когда он видел, что все свершилось, он входил в гостиную с подносом, а на лице его играла довольная улыбка.
Мы, читатели, тайком заглядываем в библиотеки друзей хотя бы просто для развлечения. Иногда для того, чтобы найти книгу, которую хотим почитать, но у нас ее нет, а иногда – чтобы знать, чем кормили стоящего перед нами зверя. Оставьте коллегу на диване в гостиной, и когда вернетесь, вы непременно обнаружите, что он стоит, вынюхивая ваши книги.
Но наступает момент, когда тома пересекают невидимую грань, наложенную количеством, и былая гордость превращается в обузу, потому что место – всегда проблема. Я как раз раздумывал, где бы повесить новую полку, когда в мои руки попал экземпляр «Теневой черты», который с тех пор возвращается ко мне словно постоянное предупреждение.
Впрочем, экзаменационная сессия отвлекла мое внимание от книги. Она осталась на подставке, а я занялся своими студентами и студентами Блюмы. Дни были заполнены горами монографий и практических работ. Но когда настали летние каникулы, я решил пораньше поехать к матери, сделать себе подарок и вернуть книгу, а заодно сообщить мужчине, который в то время ничего для меня не значил, о трагической кончине Блюмы. Впрочем, не стану отрицать: помимо всего прочего, я хотел узнать его тайну.
Два
Спустя неделю я приехал в Буэнос-Айрес. Город показался мне более современным и стеклянным, мать и друзья – более уставшими, словно оглушающий рев машин, огни, телевизоры в барах находили в смятении жителей те легкие, из которых город черпал воздух, чтобы расти.
Проспект Санта-Фе затмил собой Коррьентес [10]10
Знаменитый бульвар в Буэнос-Айресе с множеством кафе и театров.
[Закрыть]. Теперь здесь были большие роскошные книжные, огромные магазины компакт-дисков и аудиозаписей, громадные кондитерские, кинозалы и театры, а у дверей тянулись ряды нищих.
Жители города ходили с мобильниками у уха, водили машины, зажав плечом мобильник, говорили по мобильнику и в автобусах, и в супермаркетах, и подметая дорожки, словно их жизнью завладела словесная лихорадка.
Однажды вечером я отправился на прогулку в порт по маршруту, который любил, пока жил в Буэнос-Айресе, между большими галсовыми канатами, старыми бараками с обнажившейся кирпичной кладкой, кранами, судами, среди моряков и чаек. Я совершал эту прогулку каждый раз, будто возвращался на страницы книги моей юности, где хранились одновременно и вход в город, и его задворки. Но тут я наткнулся на пышные рестораны, бары, кафе со швейцарами, принадлежащие к настолько иному миру эксгибиционизма и непристойной дороговизны, что убежал со скоростью брошенного камня.
В тот вечер в подземке я наткнулся на девочку с аккордеоном. Печальный взгляд, рваная одежда – на какое-то мгновение я предположил, что она прибыла сюда из провинций Коррьентес, Тукуман, Мисионес вслед за другими обездоленными. Но, похоже, она заметила мой интерес, потому что, не сводя с меня глаз, принялась наигрывать на аккордеоне цыганскую мелодию, которая предала моим догадкам неожиданный оборот. На первой же станции, когда поезд остановился, она прекратила игру и вышла из вагона. Не знаю почему, но у меня возникла потребность пойти за ней. В ее глазах было нечто, предвещающее несчастье, мягкое и потрясающее, роднящее ее с исчезнувшим уголком порта. Меня остановили двери. Потом мне рассказали, что это косовары и что они ездят по Буэнос-Айресу в автобусах и поездах с аккордеонами – дети играют, а родители просят милостыню. Это вульгарное и однозначное объяснение, казалось, исключало всякое удивление со смирением, обезболивавшим его смысл. Буэнос-Айресу всегда удавалось меня удивить, но нечто грязное и непристойное прилипло к нему прочнее, чем цемент к обложке моей книги.
Кое-кто из друзей подарил мне только что опубликованные ими повести, но разговор об этом почти не шел. Они спорили, есть ли у Пильи [11]11
Знаменитый современный аргентинский писатель Рикардо Пилья.
[Закрыть]или Саэра [12]12
Хуан Хосе Саэр – аргентинский писатель, создававший сначала реалистическую и регионалистскую прозу, а потом перешедший на роман «новой волны», умер в Париже в 2005 году.
[Закрыть]стратегия, чтобы вписаться в исторический процесс аргентинской литературы, хорошо ли заявить свое имя на круглый стол с дебатами или на презентацию какой-то книги, а потом не явиться, следует ли «нацеливаться» на академическую критику или на рецензии в журналах, выгодно ли скрываться, играть в прятки, искать скромные издательства, которые опубликуют твою книгу, или месяц блистать в испанском издательстве, а потом исчезнуть со стенда новинок, как падающая звезда.
Их литературные притязания были политикой и – даже более принципиально – военной тактикой, так самоотверженно старались они обрушить стены неизвестности, непроходимый барьер, который лишь немногим удавалось одолеть в выгодном положении. На карте литературы были сверкающие звезды, какие-то типы, которых ни с того ни с сего осыпали деньгами за ужасные книги, потому что они находились под крылом издательств, воскресных приложений, маркетинга, литературных премий, жутких фильмов и витрин книжных магазинов, взимавших мзду за то, чтобы выставить книгу на видное место. И за столиком бара все это представало пестрым полем сражения, сквозь которое нужно пробиться писателю уже не в погоне за опытом написания книги – хотя некоторые начинали писать именно так, – а уже сразу после его обретения. Издатели жаловались на отсутствие хороших книг, писатели – на «дерьмо», которое публикуют в крупных издательствах, и все они предъявляли возмущенные протесты, оправдания своим неудачам, несбывшиеся надежды. В Буэнос-Айресе книги стали центром виртуальной войны стратегий, вездесущности и власти.
Через неделю я сел на речную «ракету» и пересек Рио-де-ла-Плата, направляясь к неведомому берегу. Река была бурая, неспешная, и по мере того, как я удалялся от Буэнос-Айреса, мне казалось, что я вновь обретаю пропорцию, которая в этой шири воды и горизонта возвращает мне дыхание, внутреннее пространство.
Прибытие в порт Монтевидео было скромным и вдохновляющим. Город вступал в реку с беззащитной решительностью, которая придавала немногочисленным высоким зданиям вид кранов, будто стоящих на большом севшем на мель траулере, а бухта, увенчанная на дальнем конце невысоким холмом, искрилась с материнской сосредоточенностью.
Несколько часов спустя я входил в магазинчик в старом городе, где меня ожидал Хорхе Динарли, хозяин книжной лавки с лучшим набором старинных изданий. Служащий провел меня через просторную гостиную в колониальном стиле к сумрачному письменному столу, который был завален книгами, погруженными в тень, образованную кругом низкой, склонившейся над зеленой папкой с бумагами лампы. Меня принял седой мужчина с очень тихим голосом, чье имя назвал мне писатель, побывавший в Монтеррее.
Он действительно уже несколько лет был знаком с Брауэром, хотя поддерживал с ним – как и с другими библиофилами в городе – только деловые отношения.
– Позвольте пояснить вам, это люди двух типов: одни – коллекционеры, посвятившие себя собирательству редких изданий, журналов Орасио Кироги [13]13
Орасио Кирога – известный уругвайский прозаик, автор рассказов, который в конце XIX века работал журналистом в своем родном городе Сальто.
[Закрыть]в Сальто, книг Борхеса и всех его журнальных публикаций, экземпляров, отпечатанных Коломбо, издателем Гвиральдеса [14]14
Аргентинский писатель, автор романа «Дон Сегундо Сомбра», его издателем выступал Франсиско А. Коломбо.
[Закрыть], или изысканных переплетов, подписанных Бонетом [15]15
Поль Бонет, французский переплетчик, один из тех, кто ввел стиль модерн в искусство создания книг в начале XX века.
[Закрыть], хоть и открывают их разве только, чтобы взглянуть на страницы, как смотрят, к примеру, на красивый предмет, на дорогую вещицу. Другие – заядлые читатели, как в случае Брауэра, которые за свою жизнь собрали большие библиотеки. Влюбленные в книги люди, способные немало заплатить за томик, с которым они проведут много часов, заботясь лишь о том, чтобы изучить и постичь его.
Знаете, наверное, я не тот человек, который может рассказать вам о Брауэре. Есть другие, более близкие ему люди, они знали его лучше и смогут рассказать вам о случившемся, особенно Агустин Дельгадо, я дам вам его телефон. Я же способен сказать вам только очень общие вещи.
Динарли произнес слова «о случившемся», опустив взгляд с внезапным смущением. Что он имел в виду? Переезд в Рочу? Или что-то еще? Я открыл чемодан, вытащил конверт и положил книгу на стол.
Он уставился на нее и на несколько секунд окаменел, не решаясь прикоснуться к обложке.
– Я приехал, чтобы вернуть ему эту книгу, – сказал я, внимательно наблюдая за его реакцией на мои слова.
Тогда он нагнулся и посмотрел поближе.
– Откуда она у вас?
– Ее доставили в мой кабинет в Кембриджском университете. Не на мое имя, а на имя моей коллеги. Но посылка прибыла слишком поздно, и я решил ее вернуть.
– Ну, не знаю, получится ли у вас.
– Роча – это далеко?
– Это не город Роча. Он поехал в окрестности Ла-Паломы. Но, кажется, его уже там нет.
– Почему?
– Прошу вас, пожалуйста, спрячьте это, – попросил Динарли, указывая на книгу.
Вдвойне заинтригованный, я снова убрал томик в чемодан.
– Понимаете, я об этом знаю понаслышке. Я боюсь что-то говорить. Вам лучше побеседовать с Дельгадо. Он все расскажет. Позвоните ему после десяти вечера или рано утром. Я дам вам номер. Не волнуйтесь. К вам в руки попала злополучная вещь. Вы сами поймете. Не знаю, что вы с ней сделаете. Не знаю, как бы я поступил с такой книгой. Не обижайтесь. Мы здесь любим книги, – добавил он, указывая на свои шкафы. – То есть вам нужно поговорить с Дельгадо.
Он открыл записную книжку и на обороте своей визитки записал номер.
– Я могу рассказать вам сущие пустяки. Познакомился я с ним много лет назад на распродаже, потому что Брауэр вошел в доверие к старому Мартелю. Знаю, что он работал в министерстве иностранных дел, и если Мартель не поднимал карандаш, когда объявляли какой-то лот, его покупали Брауэр или Дельгадо. В основном – американская литература. Но нужно было дождаться решения старика, потому что он всегда был там, где чуял добычу. Сначала Мартель вроде как усыновил Брауэра и отдавал то, что его самого особо не интересовало. Вы наверняка знаете: в лоте идет все вперемешку. Издания, не имеющие ни малейшей ценности, и настоящие сокровища. Книга, выпущенные тиражом в триста, пятьсот экземпляров, которые со временем стало очень трудно найти, и, конечно же, очень дорогие. Предполагалось, что типографии с этим покончат. Машина, которая может воспроизводить книги тысячами, сотнями тысяч. Но видите, как вышло… Время берет свое. Время – и кретинизм, с которым нынешние переплетчики рубят на гильотине страницы старых книг, чтобы соединить их вместе, не понимая, что отрезают сотни долларов, перерубают рубин, отсекают крыло Нике Самофракийской, если позволите так выразить мое возмущение. Никак не могу убедить их отказаться от темной радости гильотины.
Динарли взял себя в руки и снова заговорил тем же тихим голосом, что вначале. Тема разговора ему не нравилась, и, казалось, он сомневается в том, что я верно восприму его слова.
– Брауэр интересовался литературой, – продолжил он, – брал в основном испанские издания, книги по искусству, роман XIX века, французских и русских писателей. Этим он и занимался. Однажды он купил у меня роман-фельетон [16]16
Роман, разбитый на части или короткие главы, публиковавшийся в периодических изданиях.
[Закрыть]братьев Каррерас [17]17
Участники войны за независимость Чили в начале XIX века.
[Закрыть], из тех, что интересовали Неруду, который, если вы помните, много лет назад приезжал сюда по одному делу…
– У него была любовница, на каком-то курорте, вроде бы в Атлантиде, – помог я.
– В общем, он тут бывал, всегда интересовался романами-фельетонами Каррерас, которые издавались в полевых условиях в разгар чилийской революции. Но дело в том, что один раз Брауэр предложил мне подборку журнала «Мартин Фьерро» [18]18
Литературное издание, выходившее в Аргентине в 1924–1927 годах, в котором среди прочих печатался Х. Л. Борхес.
[Закрыть], которая была у него в дубликате. Мы заключили хорошую сделку. Он, несомненно, был исследователем. Журналы на полях были испещрены комментариями – весьма краткими. Но это уже показывает, что человек скорее не коллекционер, а ученый старой школы, как Мартель [19]19
Аламиро де Авила Мартель (1918–1990) – чилийский библиофил, историк и нумизмат.
[Закрыть], Орасио Арредондо [20]20
Орасио Арредондо (1888–1967) – уругвайский историк и общественный деятель.
[Закрыть], Симон Люкви [21]21
Уругвайский коллекционер и библиофил.
[Закрыть]. По крайней мере могу вас уверить, что таким он был.
Я знаю, что он жил в большом доме на улице Квареим, хотя я никогда там не был. Перед тем, как он уехал, перед тем, как принял это непостижимое решение, мы беседовали о его мексиканской коллекции. Не беспокойтесь. Его друг Дельгадо все вам расскажет. Видите ли, мы могли бы купить его библиотеку. Я знаю, что она была большой, и со временем выяснил, что в ней были очень редкие тома, хотя, как я уже говорил, сам я их не видел. Только понаслышке я знал, к примеру, что у него были полные издания Леона Пальера [22]22
Хуан Леон Пальер(1823–1887) – аргентинский художник французского происхождения.
[Закрыть]и Видаля [23]23
Э. Видаль опубликовал в 1820 году книгу с описанием Буэнос-Айреса и окружавшей его пампы, снабженную большим количеством иллюстраций.
[Закрыть]с гравюрами, которые сегодня стоят около двадцати тысяч долларов. Но когда происходит что-то необычное, возникают слухи, и тогда уже невозможно точно определить, где правда, где вымысел. Лучше всего обратитесь к Дельгадо, хотя, откровенно говоря, сомневаюсь, что он сможет исполнить отведенную ему роль. Думаю, никто не знает, куда уехал Брауэр. А теперь, если вы не обидитесь, прошу вас, не тратьте на меня время.
Динарли встал, и я обратил внимание, что, обходя вокруг стола, он заколебался.
– Если позволите дать вам совет, – сказал он, – я рекомендовал бы проявить деликатность, показывая Дельгадо эту книгу. Вы сразу увидите, это несколько странный человек.
Он проводил меня до двери кабинета. Вручил визитку и пожелал удачи.
Когда я вернулся в гостиницу, первоначальное недоумение развеялось, и я начал понимать, что «Теневая черта» привела меня к холодному высокогорью с разреженным воздухом.
Я прошелся по этому умеренно грязному, умеренно старому городу, умеренному даже в призваниях своих обитателей. Меня поражал усталый бег автобусов, любезность официантов в барах, администраторов гостиниц, таксистов – словно остановившееся и замшелое время прячет под спокойной осторожностью густое сплетение тайн.
Возможно, я находился под действием фразы из пролога к изданию, которое не мог доставить, и час от часу мое волнение все нарастало. В своих путешествиях Конрад не бывал в Монтевидео, но, чтобы опровергнуть фантастический поток своего рассказа, он утверждал: «Мир живых уже сам по себе скрывает достаточно чудес и тайн; чудес и тайн, которые действуют на наши чувства и разум таким необъяснимым образом, что этого было бы почти достаточно, чтобы оправдать мнение о том, что жизнь – это волшебство».
Я не мог отделаться от этой фразы, размышляя над словами Динарли, вспоминая впечатление, которое произвел на меня его письменный стол, и огромный нос корабля в конце улицы, по которой плотным потоком ехали машины, расхаживали банковские служащие, повсюду стояли газетные киоски; все друг на дружке и вне масштаба, красный нос, серый город, словно два мира, наложившиеся один на другой и от этого некоторым образом ставшие неправдоподобными.








