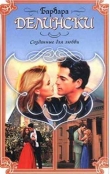Текст книги "Инстинкт Инес"
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
– Кто это? – спросила Инесса, пригубив кофе и не отрывая взгляд от фотографии; казалось, она не слушала рассказ маэстро о местных традициях.
– Мой брат, – просто ответил Габриэль, отводя взгляд от погребальных скамеечек.
– Вы совершенно не похожи.
– Ну, я сказал брат, а мог бы сказать товарищ.
– А вот мы, женщины, между собой никогда не называем друг друга сестрами или товарищами.
– Солнышко, подруга…
– Да. Полагаю, мне не следует настаивать. Извини. Я не любопытна.
– Нет-нет. Только давай договоримся, Инесса. Если ты хочешь – не настаиваешь, а просто хочешь, – чтобы я рассказал о себе, тебе тоже придется рассказать о себе.
– Хорошо, – рассмеялась она, ее позабавило, как Габриэль повернул разговор.
Молодой маэстро обвел взглядом свой отнюдь не роскошный домик и сказал, что лично он вообще бы обошелся без мебели и без утвари. В пустых домах царит эхо, царят – если мы умеем слушать – голоса. Он приехал сюда, – тут он пристально посмотрел на Инессу, – чтобы слушать голос своего брата…
– Твоего брата?
– Да, потому что прежде всего он был моим товарищем. Товарищ, брат, ceci, cela [14]14
И так далее, и тому подобное (фр.).
[Закрыть]и все в таком роде…
– А где он сейчас?
Габриэль отвел глаза. Взгляд его сделался пустым.
– Не знаю. Ему всегда нравилось таинственным образом надолго исчезать.
– Он не связывался с тобой?
– Было несколько писем.
– Выходит, ты знаешь, где он?
– На письмах нет ни даты, ни обратного адреса.
– А откуда они приходят?
– Последний раз мы виделись во Франции. Поэтому я и выбрал это место.
– Кто их тебе приносит?
– Отсюда рукой подать до Франции. Я даже вижу берег Нормандии.
– А о чем он тебе пишет в письмах? Извини… Сожалею, но ты мне сам разрешил…
– Да. Ладно, не волнуйся. Ну, он любит вспоминать нашу молодость. Скажем, как он мне завидовал, когда я приглашал танцевать самую красивую девушку, и мы были в центре внимания. Он сознается, что ревновал меня, но ревновать кого-то означает, что человек настолько важен для нас, что не хотим его ни с кем делить: ревность, Инесса, а не зависть. Зависть отравляет нас ядом бессильного желания быть другим. Ревность же облагораживает – мы хотим, чтобы другой стал нашим.
– А каким он был? Он сам не танцевал?
– Нет. Он предпочитал смотреть, как я танцую, а потом говорить мне, что ревновал. И так во всем. Он словно жил моей жизнью, а я его. Мы дружили, понимаешь, у нас была та глубокая внутренняя связь, которую люди редко понимают и всегда стараются разрушить. Жизнь стремится разлучить нас: работа, честолюбие, женщины, привычки – все то, чего человек добивается в одиночку… Вот такая история.
– Может, и хорошо, что так все вышло, маэстро.
– Габриэль.
– Габриэль. Возможно, если бы ваша чудесная юношеская дружба продолжалась, она бы лишилась былого блеска.
– Ты хочешь сказать, исчезла бы ностальгия, которая ее питает.
– Что-то в этом роде, маэстро… Габриэль.
– А ты, Инесса? – резко сменил тему Атлан-Феррара.
– Ничего особенного. Меня зовут Инесса Розенцвейг. Мой дядя – дипломат, работает в мексиканском посольстве в Лондоне. С детских лет у меня был хороший голос, поэтому я поступила в консерваторию в Мехико, а теперь я в Лондоне, – засмеялась она, – вношу сумбур в пение хора в «Осуждении Фауста» и довожу до белого каления знаменитого молодого дирижера Габриэля Атлан-Феррара.
Шутливым жестом она приподняла чашку с кофе, словно это был бокал шампанского. Чашка была горячей, обжигала пальцы. Инесса уже собиралась спросить маэстро:
– Кто тебе приносит письма? Но Габриэль ее опередил.
– У тебя есть жених? У тебя кто-то остался в Мексике?
Инесса отрицательно покачала головой. Ее медно-красные волосы рассыпались по плечам. Она украдкой потерла обожженные пальцы о юбку. Лучи восходящего солнца золотом пронизывали ореол ее волос, казалось, само солнце ей завидует. Но девушка, не отрываясь, смотрела на фотографию Габриэля и его брата-товарища. Юноша был очень красив, но совершенно не похож на Габриэля. Они отличались друг от друга, как канарейка и ворон.
– Как его звали?
– Зовут, Инесса, зовут. Он не умер. Он просто исчез.
– Но ты же получаешь его письма. Откуда они приходят? Европа сейчас в изоляции…
– Ты говоришь так, будто хочешь с ним познакомиться…
– Конечно. Он очень интересен. И очень красив.
Нордическая красота, такая отличная от средиземноморской внешности Габриэля. Он действительно был милым парнем или только казался таким, производил впечатление? Брат, товарищ? Но этот вопрос не очень заботил Инессу. Было невозможно смотреть на фотографию юноши и не испытывать к нему какие-то чувства – любовь, волнение, желание, возможно, близость, а может, холодное презрение… Но не безразличие. Не оставляли равнодушными его глаза, прозрачные, как озера, чью гладь никогда не нарушал плеск весел, его светлые прямые волосы, напоминающие крыло великолепной королевской цапли, его стройное сильное тело.
Юноши на фотографии были без рубашек, но сняты только до пояса. Обнаженный торс юного блондина и скульптурные черты его лица – точеный нос, узкие губы, гладкие скулы – все создавало впечатление немыслимой гармонии, казалось, еще один лишний штрих – и эта гармония нарушится или, быть может, совсем исчезнет.
Юноша без имени явно заслуживал внимания. Инесса так себе и сказала в то утро. Любовь, которую требовал к себе этот брат или товарищ, должна быть внимательной любовью. Не допускать случайностей. Не отвлекаться. В каждый момент жить для него, потому что он живет для тебя.
– Тебя взволновала эта фотография?
– Буду с тобой откровенна. Не фотография. Он.
– Но и я там есть. Он не один.
– Но ты сейчас здесь, рядом со мной. Тебе фотография не нужна.
– А ему?
– Он – это лишь его образ. Первый раз вижу такого красивого мужчину.
– В любом случае, я не знаю, где он, – заключил Габриэль и кинул на нее взгляд, в котором раздражение мешалось с какой-то затаенной гордостью. – Если хочешь, можешь думать, что я сам пишу себе эти письма. Они приходят из ниоткуда. Но не удивляйся, если в один прекрасный день он появится.
Инесса решила не выказывать удивления. Определенно, одно из правил общения с Габриэлем Атлан-Феррара гласило: вести себя как ни в чем не бывало, «нормально» – если речь не шла о музыке. Поэтому пусть кто-нибудь другой раздувает огонь его неукротимой тяги к творчеству и театральности, а она даже не стала смеяться над ним, случайно застав его в единственной ванной комнате – дверь была полуоткрыта, она не нарушила никаких табу, – когда он красовался перед зеркалом, как павлин, который знает, что на него смотрят. Габриэль засмеялся первым, испустив принужденный смешок, быстро причесался и, небрежно пожав плечами, объяснил:
– Я сын итальянки. У нас в семье был культ прекрасного. Не беспокойся. Это чтобы произвести впечатление на других мужчин, а вовсе не на женщин. Одна из загадок Италии.
На ней был только легкий халат, который она впопыхах успела сунуть в чемоданчик, собираясь на уикенд. На нем одежды не было вовсе. В порыве желания он обнял ее. Инесса отстранилась.
– Извини, маэстро, ты думаешь, я здесь для того, чтобы спать с тобой?
– Ложись в спальне, пожалуйста.
– Нет, подойдет и диван в гостиной.
Инессе снилось, что все двери закрыты, а в доме полно пауков. Она хотела спастись бегством, но стены дома начали сочиться кровью и преградили ей путь. Бежать было некуда. Невидимые руки начали выстукивать на стенах мелодию – рат-тат-тат, рат-тат-тат… Она вспомнила, что совы едят мышей. Ей удалось вырваться из объятий сна, но она уже не могла отличить сон от яви. Она видела, как приближается к обрыву, видела свою тень на серебряном песке. Только сейчас эта тень смотрела на Инессу и приказывала ей бегом возвращаться в дом. Путь ее лежал через розарий, в котором зловещего вида маленькая девочка баюкала на руках мертвого зверька. Девочка посмотрела на Инессу и вдруг улыбнулась ей, обнажив прекрасные, но перепачканные кровью зубы. Инесса поняла, что мертвый зверек – это серебристая лиса, последнее творение Бога.
Когда Инесса проснулась, Габриэль Атлан-Феррара сидел рядом с ней и смотрел на нее.
– В темноте лучше думается, – сказал он нормальным голосом, таким нормальным, что голос казался искусственным и заранее отрепетированным. – Мальбранш мог писать только при задернутых шторах. Демокрит ослепил себя, чтобы стать истинным философом. Гомер смог увидеть море винного цвета только потому, что был слеп. И только слепой Мильтон смог узреть, как Адам, рожденный из грязи, обращается к Богу: верни меня в тот прах, из которого я появился на свет.
Габриэль пригладил черные непокорные брови.
– Никто не просил, чтобы его привели в этот мир, Инесса.
После скромного завтрака, состоявшего из яиц и колбасы, они вышли прогуляться к морю. На нем был неизменный пуловер с высоким воротом и бархатные брюки. Она надела костюм из плотной шерсти, а голову снова повязала шарфом. Габриэль начал шутить, говорить, что в этих местах великолепная охота; если приглядеться, различишь, как птицы с длинными клювами ходят по берегу в поисках пропитания, а дальше от моря увидишь красного тетерева, который ищет себе завтрак в вереске, или куропатку с красными лапками, или строгого стройного фазана; дикие утки и синие селезни… а я, подобно Дон Кихоту, могу тебе дать лишь «боль и страдание».
Габриэль попросил прощения за вчерашнее. Он хочет, чтобы она его поняла. Проблема любого артиста в том, что он иногда не может провести различие между нормальной обычной жизнью и творчеством, которое для него тоже обычно и нормально. Известно, что артист, ожидающий вдохновения, умирает в этом ожидании; он смотрит на тетеревов и в конце концов завтракает яичницей с колбасой. Для него же, для Габриэля Атлан-Феррара, вселенная живет каждую минуту, в каждый момент и в каждом предмете. От камня до звезды.
Инесса, как завороженная, продолжала гипнотизировать взглядом островок, едва различимый на горизонте. Луна забыла, что ночь закончилась, и продолжала светить прямо над их головами.
– Ты видела когда-нибудь луну днем? – спросил он.
– Да, – ответила она без улыбки. – Много раз.
– Знаешь, почему сегодня такой высокий прилив?
Она не знала, и он продолжал: потому что луна прямо над нами, в этот момент у нее самая большая магнитная сила.
– Луна успевает совершить два оборота вокруг Земли за двадцать четыре часа и пятьдесят минут. Поэтому каждый день у нас два прилива и два отлива.
Она смотрела на него, забавляясь, с любопытством и нетерпением гадая: к чему все это?
– Когда дирижируешь таким произведением, как «Осуждение Фауста», ты все время вынужден обращаться к силам природы. Нужно все время помнить о непостижимости сотворения мира; ты должен представить себе, как однажды солнце, подобное нашему, взорвалось и разлетелось на бесчисленные планеты; ты должен представить себе вселенную как необъятный прилив без начала и конца, находящийся в вечном движении; ты должен скорбеть о солнце, которое через пять миллиардов лет осиротеет, съежится, как лопнувший воздушный шарик.
Он говорил так, словно дирижировал оркестром, утверждая свою власть в мире звуков одним только жестом вытянутой руки или сжатого кулака.
– Ты должен представить себе, что опера словно окружена туманом, скрывающим невидимую извне сущность; музыка Берлиоза – это сияющий центр темной галактики, и ее свет можно увидеть только благодаря пению хора, оркестру, жесту дирижера… Благодаря тебе и мне.
Он на минуту замолчал и снова с улыбкой посмотрел на Инессу.
– Каждый раз, когда начинается прилив или отлив здесь, на побережье Англии, в противоположной точке земного шара тоже происходит прилив или отлив. И я спрашиваю себя и спрашиваю тебя, Инесса, не все ли в нашей жизни подобно приливам и отливам, которые в один и тот же момент происходят на разных концах света, словно исчезает и снова возникает время? И история повторяется, отражается в обратном зеркале времени, исчезает и снова возникает по воле случая?
Габриэль поднял камушек и ловким стремительным броском запустил его по водной глади, как стрелу из лука, как метательный нож.
– И если иногда мне становится грустно, то какое это имеет значение, если вся вселенная пронизана радостью? Слушай море, Инесса, слушай, будто это музыка, которой я дирижирую, а ты поешь. Разве мы слышим то же, что рыбак или официантка в баре? Возможно, нет, потому что рыбак должен уметь спасти свой улов от птиц, которые с раннего утра зорко стерегут добычу, а официантка должна уметь раскрутить и оставить без гроша перебравшего клиента. Конечно же – нет, ибо мы с тобой призваны узнавать и ценить тишину природы, хотя она покажется оглушительным грохотом, если ты сравнишь ее с тишиной Бога, истинной тишиной…
Он метнул в море еще один камушек.
– Музыка находится где-то посередине между природой и Богом. Таким образом, она их объединяет. А мы, музыканты, благодаря нашему искусству служим посредниками между Богом и природой. Ты меня слушаешь? Ты будто за тридевять земель отсюда. О чем ты думаешь? Посмотри на меня. Не надо смотреть вдаль. Там дальше ничего нет.
– Там есть остров, окутанный туманом.
– Нет там ничего.
– Я только что его увидела. Будто он родился этой ночью.
– Ничего нет.
– Есть Франция, – произнесла Инесса. – Ты сам мне это вчера говорил. Что ты живешь здесь потому, что отсюда видно побережье Франции. Но я не знаю, что такое Франция. Когда я сюда приехала, Франция уже капитулировала. Что такое Франция?
– Это родина, – сказал Габриэль, не изменившись в лице. – А родина – это верность или неверность, преданность или вероломство. Вот смотри, я играю Берлиоза потому, что это культурная реалия, подтверждающая существование другой реалии, территориальной, которую мы называем Франция.
– А твой брат, или товарищ?
– Он исчез.
– Может, он во Франции?
– Может быть. Видишь ли, Инесса, когда ничего не знаешь о любимом человеке, его легко представить где угодно.
– Нет, я так не думаю. Если ты хорошо знаешь человека, то понимаешь, скажем, репертуар его возможностей. Собака не станет есть собаку, дельфин не убьет дельфина…
– Он вообще был очень спокойным. Мне довольно лишь вспомнить о его хладнокровии, чтобы понять, что именно это его и доконало. Его невозмутимость. Его хладнокровие.
Он рассмеялся.
– А может, моя невоздержанность – просто неизбежная реакция на его безмятежное обаяние.
– Ты мне не скажешь, как его зовут?
– Допустим, его звали Шолом, или Саломон, или Ломас, или Солар. Называй его как хочешь. Не имя в нем главное, а инстинкт. Понимаешь? Свой инстинкт я воплотил в искусстве. Я хочу, чтобы музыка говорила за меня, хотя прекрасно знаю, что музыка говорит только о самой себе, даже когда вынуждает нас слиться с ней. Мы не можем наблюдать музыку извне, со стороны, потому что тогда мы перестанем существовать для нее…
– О нем, расскажи мне о нем, – нервничая, попросила Инесса.
– Он, или Не-Он. Ему подойдет любое имя, – Габриэль улыбнулся взволнованной девушке. – Он всегда сдерживал свои инстинкты. И очень тщательно обдумывал все, что сделал или сказал. Поэтому невозможно предсказать его судьбу. Он чувствовал себя неуютно в современной жизни, которая заставляла постоянно размышлять, останавливаться, маневрировать. Я полагаю, ему хотелось бы жить в естественном, свободном мире, без сковывающих правил и ограничений. Я говорил ему много раз, что жизнь никогда не была таковой. Свобода, которой он жаждал, была в поиске свободы. Цель недосягаемая, но делающая нас свободными в борьбе за нее.
– А не бывает судьбы без инстинкта?
– Нет. Без инстинкта человек может быть прекрасным, но безжизненным, как статуя.
– Полная твоя противоположность.
– Не знаю. Откуда берется вдохновение, энергия, неожиданный образ – все то, что заставляет тебя петь, сочинять, дирижировать? Ты знаешь?
– Нет.
Габриэль округлил глаза в притворном изумлении.
– А я-то всегда думал, что у всех женщин от рождения намного больше ума и опыта, чем мужчине удается приобрести за всю жизнь.
– Это и называется инстинкт? – спросила Инесса, успокаиваясь.
– Нет! – воскликнул Габриэль. – Я уверяю тебя, что дирижеру оркестра нужно нечто большее, чем инстинкт. Нужно больше индивидуальности, больше силы, больше дисциплины – именно потому, что он не творец.
– А твой брат? – настаивала Инесса, уже не боясь скрытого подвоха.
– Il est ailleurs, [15]15
Он другой (фр.).
[Закрыть]– сухо отрезал Габриэль.
Это утверждение дало Инессе простор для догадок. Она оставила при себе мысль о поразившей ее красоте юноши и стала задавать вопросы, которые лежали на поверхности: Франция, проигранная война, немецкая оккупация…
– Он герой или предатель, Габриэль? Если он остался во Франции…
– Нет, конечно, герой. Он был слишком благороден, слишком предан, не думал о себе, мечтал о служении… Даже если речь шла только о сопротивлении, а не о действии.
– Тогда можно предположить, что его уже нет в живых.
– Нет, я полагаю, что он в плену. Я предпочитаю думать, что он в плену. Знаешь, в детстве у нас была любимая игра: по карте мира или на глобусе мы разыгрывали в кости какую-нибудь страну – Канаду, Испанию или Китай. Когда кто-то из нас выигрывал, он начинал издавать вопли, знаешь, Инесса, как эти ужасные вопли из «Фауста», которых я вчера от вас добивался; мы кричали, как звери, как визгливые обезьяны, которые криками обозначают свою территорию и сообщают об этом всем остальным обезьянам: Здесь я. Это моя земля. Это мое пространство.
– Выходит, пространство твоего брата может оказаться камерой?
– Или клеткой. Иногда я представляю себе, что он заперт в клетке. Я даже захожу дальше в своих предположениях. Иногда я представляю себе, что он сам выбрал себе клетку и перепутал ее со свободой.
Темные глаза Габриэля неотрывно глядели на другой берег Ла-Манша.
Море, отступая, постепенно обретало прежние границы. Стоял серый, холодный вечер. Инесса ругала себя, что не взяла шаль.
– Быть может, мой брат, словно пойманный зверь, будет защищать свое пространство, я хочу сказать, территорию и культуру Франции. От вероломного, дьявольского врага – нацистской Германии.
Пролетела стайка птиц. Габриэль взглянул на них с любопытством.
– Кто учит птицу петь? Ее родители? Или у нее только и есть что смутные инстинкты, и птица сама должна всему учиться, ничего не переняв по наследству?
Он снова обнял ее, неистово, почти грубо; Инесса усмотрела в этом порыве проявление деспотического мужского начала, этакий мачизм, решимость не дать ей спастись живьем… Хуже было то, что он притворялся. Маскировал свой сексуальный аппетит артистической экзальтированностью и тоном наставника.
– Представить себе можно все, что угодно. Куда он поехал? Какова его судьба? Он был великолепен. Намного лучше меня. Тогда почему, Инесса, мне выпала победа, а ему поражение? – Габриэль обнимал ее все крепче, он прижался к ней всем телом, и, избегая смотреть ей в лицо, стал горячо нашептывать на ухо:
– Инесса, я рассказал тебе все это, чтобы ты меня полюбила. Пойми это. Он на самом деле существует. Ты видела его на фотографии. Это доказывает, что он существует. Я видел, как ты смотрела на снимок. Этот человек тебе нравится, ты его хочешь. Но сейчас его уже нет. Есть я. Инесса, я все это говорю, чтобы…
Она спокойно отстранилась от него, не выказав своего неудовольствия. Он не стал протестовать.
– Если бы он сейчас был здесь, Инесса, как бы ты с ним обошлась? Как со мной? Кого из нас двоих ты бы предпочла?
– Я даже не знаю, как его зовут.
– Шолом, я же тебе сказал.
– Прекрати выдумывать, – произнесла Инесса, уже не скрывая горечи, которую вызывала у нее вся эта ситуация. – Ты на самом деле увлекся. Я иногда начинаю подозревать, что мужчины любят не нас, а просто любят соревноваться с другими мужчинами и выигрывать… Вы до сих пор играете в солдатиков. Шолом, Саломон, Солар… Ты злоупотребляешь.
– Представь себе, Инесса, – продолжал настаивать Габриэль Атлан-Феррара. – Представь, что если бы ты бросилась в море с четырехсотметрового обрыва, ты бы погибла, не достигнув в падении волн…
– Ты был тем, чем он не мог быть? Или он был всем тем, чем ты не смог стать? – резко произнесла Инесса, чувствуя подступающую ярость и давая волю своему инстинкту.
Взволнованный и раздосадованный Габриэль стиснул кулаки от накатившего гнева. Инесса с силой разжала его пальцы и положила на открытую ладонь какой-то предмет. Это была хрустальная печать, излучающая свой собственный свет, сквозь который проступали загадочные письмена…
– Я ее нашла в кладовке, – сказала Инесса. – Мне показалось, что она не твоя. Поэтому я беру на себя смелость тебе ее подарить. Подарок непорядочной гостьи. Я была в кладовке. Я видела фотографии.
– Инесса, фотографии часто лгут. Что с ними делает время? Ты думаешь, что фотографии не живут своей жизнью и не умирают?
– Ты это уже говорил. Со временем наши портреты начинают лгать. Это уже не мы.
– Какой ты сама себе кажешься?
– Я кажусь себе девственницей, – она принужденно улыбнулась. – Я любимица семьи. Мексиканка. Мещаночка. Такая неопытная. Учусь. У меня обнаружился голос. Поэтому я совершенно не понимаю, почему в самый неподходящий момент ко мне возвращаются воспоминания. Наверное, у меня слишком короткая память. Мой дядя-дипломат всегда говорил, что память о большинстве событий длится не больше семи секунд и требует не больше семи слов.
– Разве твои родители тебя ничему не научили? Вернее, так: чему тебя научили родители?
– Они умерли, когда мне было семь лет.
– Для меня прошлое совсем не здесь, – сказал Габриэль, напряженно вглядываясь в противоположный берег пролива.
– А мне нечего забывать, – она как-то неестественно повела плечами, это был странный, будто не ее жест, – но я чувствую настоятельную необходимость оставить прошлое позади.
– А я, напротив, иногда хочу оставить позади будущее.
Песок заглушал звук их шагов.
Он уехал внезапно, не попрощавшись, покинув ее одну в военное время, на пустынном берегу.
Габриэль мчался на своем MG, возвращаясь той же дорогой – через лес Ярбери и Дерноверскую пустошь. Он остановился только на высоком земляном холме неподалеку от реки Фрум. Отсюда уже не было видно море. Местность походила на нейтральную полосу, на границу без пограничных столбов, на убежище без крыши, заброшенные руины, без обелисков и колонн из песчаника. Небо над Англией столь стремительно, что человек может остановиться и вообразить, что он сам быстро движется вместе с небом.
Только там Габриэль смог признаться себе, что никогда не умел постичь женщину и разобраться, что же перед ним – похотливая доступность или абсолютная чистота и искренность. Ему хотелось, чтобы она его простила. Наверное, Инесса понимает, что он просто ошибался, что бы он там ни сделал… Габриэль не отрицал, что испытывает желание, поэтому и чувствовал потребность покинуть ее. Он надеялся, что она не думает о нем как о трусе или предателе. И что воспоминания о нем, Габриэле Атлан-Феррара, не сольются с образом другого, товарища, брата, того, кто сейчас где-то в другом месте… Он молил, чтобы юной мексиканке, которая столь явно себя недооценивала, всегда хватало ума и чувства проводить границу между ним и другим. Он жил сегодня, в реальном мире, был связан обязательствами, путешествовал, отдавал распоряжения, в то время как другой был свободен, имел возможность выбора, мог целиком посвятить себя ей… Любить ее, даже так, любить ее… Он был где-то в другом месте. Габриэль же был здесь.
Однако не исключено, что она сама видела в Габриэле то же самое, что и он видел в ней: путь к неизвестному. Его вдруг озарило понимание того, почему он и Инесса никогда не должны заниматься любовью. Она отказала ему, увидев в его взгляде отражение другой. Но в то же время и он знал, что Инесса смотрит на другого, не на него. И все же, разве не могут он и она, рабы времени, оставаться самими собой и при этом быть совершенно другими в глазах каждого из них?
– Я не стану занимать место своего брата, – сказал он себе, трогаясь с места и направляясь в сторону охваченного огнем города.
Габриэль почувствовал горечь во рту. Он прошептал:
– Все говорит о прощании. Дорога, море, воспоминания, погребальные скамейки, хрустальные печати.
Он улыбнулся:
– Декорации для Инессы.
Инесса ничего не стала предпринимать, чтобы добраться до Лондона. К репетициям «Осуждения Фауста» она уже не вернется. Что-то удерживало ее здесь, словно она была обречена жить в домике у моря. Она вышла пройтись по берегу и вдруг почувствовала страх. Пернатые в воздухе затеяли драку, они бились с какой-то первобытной яростью. Дикие птицы не могли что-то поделить, она не видела, что именно, но явно, что было нечто, ради чего стоило бороться не на жизнь, а на смерть.
Зрелище испугало ее. Ветер внес сумбур в мысли. Она чувствовала, что ее голова раскалывается, как надтреснутое стекло.
Море внушало ей страх. Воспоминания внушали ей страх.
Ей внушал страх остров между берегами Англии и Франции, который все менее четко вырисовывался под бездонным небом.
Ей внушала страх мысль о возвращении по пустынному одинокому шоссе; шум леса казался ей невыносимым, хуже, чем гробовая тишина.
Как странно идти по морскому берегу рядом с мужчиной; их влечет друг к другу, но они испытывают страх… Габриэль уехал, но осталась ностальгия, которую он заронил в душу Инессы. Франция, прекрасный белокурый юноша; сливаясь воедино, Франция и юноша навевали такую тоску, о которой лишь Габриэль мог поведать открыто. Она нет. И втайне сердилась на него. Атлан-Феррара заронил в ее душу тягу к недосягаемому. Мужчина, которого Инесса отныне и всегда будет желать, но никогда не увидит. Атлан-Феррара же знал его. Он унаследовал сходство с прекрасным белокурым юношей. Потерянная земля. Запретная земля.
Ее охватило невыносимое предчувствие разлуки. Между ней и Габриэлем встал непреодолимый запрет, табу, которое никто не захотел нарушить. Инесса возвращалась одна в домик на пляже, шептала какие-то слова и ощущала, как этот запрет вторгается в ее душу и завладевает ее инстинктом. Она чувствовала себя пойманной, как в ловушке, между двух временных границ, которые никто не захотел нарушить.
Она вошла в дом и услышала скрип лестниц, будто кто-то беспокойно и безостановочно ходил вверх-вниз, не осмеливаясь показаться.
И тогда, вернувшись в домик у моря, она легла на две погребальные скамеечки; прямая и застывшая, как мертвец, голова на одной скамеечке, а ноги на другой, а на груди – фотография двух друзей, товарищей, братьев, подписанная: Габриэлю, с нежностью и любовью. Только прекрасный белокурый юноша исчез. На фотографии его уже не было. Габриэль, с обнаженным торсом и распахнутыми объятиями, стоял один, он никого не обнимал. На прозрачных веках Инессы лежали две хрустальные печати.
В конце концов после всего было совсем не трудно лежать прямо, как застывший мертвец, на двух скамеечках, заживо погребенной в бездне сна.