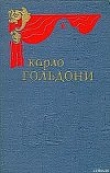Текст книги "День за днем"
Автор книги: Карло Лукарелли
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
На квадратную площадку четвертого этажа выходили две двери. Первая дверь открылась, когда полицейские с топотом ворвались, и чей-то голос проговорил: «Кто это? Ой, боже мой, мамочки!» – и не успел Матера обернуться, как дверь закрылась опять.
Второй была дверь Джимми. Все трое уставились на нее, стиснув зубы, затаив дыхание, потому что ничего хорошего они не увидели. Дверь была не заперта.
– Черт возьми, они не могли уйти! – зарычал Саррина. – Здесь только один выход – парадная дверь внизу. Они не могли удрать!
Грация сделала знак рукой, чтобы он замолчал. В этой команде она была старшей, и от мысли, что случилась какая-то беда, что Джимми сбежал, что по ее вине операция провалилась ко всем чертям, вдруг неудержимо захотелось плакать. Слезы подступили к глазам, веки зачесались, и тогда Грация стиснула зубы, крепче стянула липучки на бронежилете и дулом автомата распахнула дверь.
– Эй, детка, осторожнее! – пробормотал Матера. – А вдруг там бомба?
Бомбы там не было. Был узкий коридор, тонущий в серой, зернистой полутьме. В коридор выходили три двери, еще одна, наполовину прозрачная, виднелась в глубине. Будильник до сих пор пищал, упорно, нескончаемо, в своем прерывистом ритме. И чувствовался какой-то странный запах, настолько сильный и терпкий, что Грация оторвала одну руку от автомата и прижала пальцы ко рту. Этот запах она хорошо знала. Запах смерти.
В первой комнате справа, той самой, что выходила к лифту, Молодчик-фашист лежал в постели, в трусах и майке. Тот, кто перерезал телохранителю горло, должно быть, прижимал ему лицо подушкой, она так и осталась там, смятая и без единого пятнышка, хотя все вокруг было пропитано кровью: постель, трусы и майка, даже простыня, сбившаяся в ногах у парня, который, должно быть, долго брыкался, прежде чем умереть.
В дальней комнате за стеклянной дверью Джимми и его жена тоже лежали в постели. Она – справа, голые плечи торчат из-под простыни, рука свесилась до пола. Он – на спине, слева, одна рука покоится на изгибе ее ягодиц, выступающих под одеялом, вторая вцепилась в простыню, судорожно, так крепко, что простыня завернулась, оголив ногу. И ей, и ему, должно быть, выстрелили в голову, в упор, потому что от голов практически ничего не осталось.
Грация, опустив автомат, прислонилась к дверному косяку. От запаха, от вида мертвых тел, от изумления пропала охота плакать, но колени дрожали. Она вошла в комнату и, стараясь не смотреть на постель, стукнула по кнопке ребром ладони и выключила будильник. И тогда она его увидела, или, скорее, услышала.
Ноутбук, тихо шелестящий на комоде. Монитор пригнули к клавиатуре, и когда Грация медленно подняла крышку, логотип «Майкрософта» заплясал из угла в угол, освещая полутемную комнату своим разноцветным хвостом. Грация дотронулась до красной кнопки мыши, утопленной между клавиш, и заставка исчезла.
На ее месте появилась картинка во весь экран, видимо выловленная из Интернета, из сайта, посвященного собакам, такая цветная и яркая, что Грация на мгновение отвела взгляд.
Когда она снова повернулась к экрану, прямо на нее с острой, покрытой коричневыми пятнами морды смотрели маленькие, широко расставленные, почти у самых висков, глаза.
«American pit bull, – гласила надпись под фотографией, – the most dangerous dog in the world».
Питбуль. Самая опасная собака в мире.
Охота тебе всегда так коротко стричься, сказала мать, протягивая руку.
Витторио инстинктивно отпрянул, но замер столь же инстинктивно: мускулы шеи напряглись, сдерживая движение, чтобы она могла запустить пальцы в немного отросшую прядь, светлую, блестящую, чуть ниспадавшую на лоб.
У тебя волосы красивые, в меня, тебе шло, когда ты их носил длинными.
Грубоватая материнская ласка. Руки маленькие, тонкие, ухоженные – а кажутся какими-то тяжелыми. Она не дотрагивалась, а толкала, сдавливала, будто хотела убедиться, что все, ей принадлежащее, до сих пор еще здесь, рядом, под рукой. Не прикасалась ласково, а сдвигала с места, и Витторио так и стоял, напряженно вытянув шею, пока не почувствовал на коже под волосами твердые, холодные пальцы, а когда ласка откатилась и ушла в песок, как морская волна на пляже, безразлично пожал плечами.
Мне так нравится.
Мать уже думала о другом, о бифштексе, который шипел на сковородке; о том, чтобы в нужный момент ткнуть в него вилкой и перевернуть; посолить; подождать, пока кровь вытечет и испарится на раскаленном металле, ибо она была уверена, что Витторио любит хорошо прожаренное мясо, и ему так и не удалось ее переубедить. Так же Витторио не мог добиться, чтобы она оставалась на диване в гостиной и продолжала смотреть телевизор, когда он возвращался в десять, в одиннадцать часов вечера: бесполезно было говорить, что в тридцать лет он как-нибудь сумеет поджарить себе бифштекс, – нет, она все равно вставала, бросала фильм на середине и шла на кухню, а если сын настаивал, твердила, что они так редко видятся, что его никогда нет дома, и вот наконец выпал случай немного поговорить. Говорила в основном она, а Витторио едва отвечал.
Вот, хорошо прожарился, по твоему вкусу. Не склоняйся к тарелке, нос обожжешь. Салат, помидоры? Надо поесть зелени, неизвестно, чем ты там питаешься в дороге. Не слишком ли много ты работаешь? Мне кажется, ты устал, или мне только кажется? Ну так чего тебе – салата, помидоров?
Помидоров.
Он думал о другом. О носе, носе старика, который он заметил в этот день. Нос стоял у Витторио перед глазами, пока он резал мясо, белое, волокнистое, слишком сильно зажаренное, вперив невидящий взгляд в клетчатую скатерть. Сломанный нос, нависающий над губой, плоский посередине, чуть клонящийся влево. Нос человека, пережившего много; много претерпевшего, потрудившегося на своем веку.
Мать придвинулась поближе, положила руки на край стола.
Слышишь? Это – Праздник единства, но вся улица жаловалась, и теперь торжества проходят в сторонке, почти ничего не слышно. Правда, почти ничего?
Правда. Почти ничего.
Аннализа жаловалась, говорила, что все время тебе звонит, но твой сотовый отключен. По-моему, ты совсем забросил девушку – уж не морочишь ли ты ей голову? Когда вы увидитесь? Завтра вечером?
Да. Мы увидимся завтра вечером.
Эту неделю ты дома? Если дома, давай сходим навестим папу. Сколько времени ты уже не видел папу, месяц, наверное?
Да. Я эту неделю дома.
Может, завтра утром и сходим? Не слишком рано, тебе надо отоспаться. Пойдем завтра утром, хорошо?
Да.
Ты доел? Можно убрать тарелку?
Да.
Съешь еще парочку помидоров, это тебе полезно.
Да.
Пойду досмотрю фильм. Оставь все, как есть, я завтра приберу.
Да.
Витторио подождал, пока мать выйдет из кухни, положил на тарелку три ломтика помидора, один съел, другой подцепил на вилку и встал из-за стола.
Идешь в свою комнатушку? – крикнула мать из гостиной. Долго не засиживайся, ты устал.
Витторио не ответил. Он прошел через темный коридор и стал подниматься по ступенькам. При голубоватом, мигающем мерцании телевизора можно было сосчитать деревянные ступеньки, не дотрагиваясь до них носком ботинка, – седьмая, как всегда, громко скрипит. В коридоре верхнего этажа тоже было темно, и свет от телевизора не попадал туда, но Витторио слишком хорошо там ориентировался, чтобы пропустить дверь в свою комнату. Комнатушку, как ее называла мать.
Оказавшись внутри и закрыв за собой дверь, он зажег лампу под абажуром, стоявшую на письменном столе у стены, отошел на середину комнаты и остановился там, пока глаза привыкали к новой полутьме, понемногу различая распятие над изголовьем кровати, керамическую фигурку ангела-хранителя, плакат с освещенными силуэтами нью-йоркских небоскребов и еще один, с разноцветными парусами серфинга. Подумал, что мать права: праздник Единства проходит тихо, криков и музыки почти не слышно, хотя действо разворачивается в другом конце улицы, на стадионе, который находится в конце жилого квартала, застроенного маленькими особнячками на одну семью, такими же, в каком живут они с матерью. Потом открыл один из двух ящиков письменного стола и вытащил пластмассовую модель самолета, «Мессершмит-262» времен Второй мировой войны, марка «Эр-фикс», масштаб 1:150. Поставил ее на полированную столешницу: фюзеляж открыт, кабина еще не закреплена, в нее нужно поместить пилота длинными щипцами для бровей, которые он положил рядом с моделью, вместе с моментальным клеем, ручными тисками и напильником, чтобы зачищать наплывы пластмассы, остающиеся после сварки. Потом сдвинул все это на край стола, нашел в кармане ключ и открыл другой ящик. Извлек оттуда деревянную шкатулку, раскрыл ее под настольной лампой и стал придирчиво вглядываться в нос.
Нос был не такой, как ему хотелось. Не такой, какой был нужен, пока не такой. Витторио вытащил его из шкатулки, снял эластичную пленку с массивного гипсового слепка и пристроил резиновый нос к своему лицу, расправляя пленку на скулах и придерживая переносицу, чтобы случайно не уронить. Нос пришелся впору. Даже трубочки, вставленные в резину, ибо он еще не провертел до конца дырочки для ноздрей, воткнулись прямо в его ноздри, как будто эта толстая беловатая шишка выросла сама собою у него на лице. Однако нос был не такой, как надо; пока не такой.
Витторио взял гипсовый слепок, вложил его в оболочку из латекса и крепко прижал. Отломил кусочек пластилина от блока, лежавшего в шкатулке, размял его, повертел так и сяк, прилепил к переносице, расплющил и стал моделировать большим пальцем. Ногтем отковырнул от блока еще один завиток пластилина, крохотную, почти невидимую запятую, и пристроил у переносицы слева, как раз там, где заканчивалось утолщение.
Облокотился о столешницу, приподнял нос большим и указательным пальцами и долго, прищурившись, созерцал его под настольной лампой. Нос достиг совершенства. Новые детали гармонировали с грубыми линиями слепка, и только контраст между темно-серым пластилином и матово-белым латексом обнаруживал, что это – новые, более поздние накладки к фальшивому накладному носу. Теперь оставалось снова покрыть его гипсом, чтобы получить однородную форму, потом через специальные отверстия заполнить латексом до нужной густоты, до нужной плотности. И вот вам массивный стариковский нос, раздувшийся, деформированный, искореженный жизнью.
За пределами комнаты, за дверью, седьмая ступенька на лестнице, как всегда, громко скрипнула. Витторио сунул стариковский нос в деревянную шкатулку и потянул к себе модель самолета. Мать уже давно перестала входить без стука в комнату Витторио, в «комнатушку», но он считал, что следует постоянно, каждый раз придерживаться рутинных правил защиты – это помогает сохранять бдительность на должном уровне.
Мать, из коридора: я иду спать. Не засиживайся допоздна, ты устал.
Витторио подождал, пока мать хлопнет дверью, потом снял латексную пленку со слепка, нанес тонкий слой мастики на нос старика: совсем немного, просто чтобы нос удержался на лице, – и нацепил его. Чего-то еще не хватало.
И вот, со свистом дыша через трубочки, выходящие из резиновых ноздрей, он вынул из шкафа длинный металлический крюк и оттянул вниз крышку люка, ведущего в мансарду, вытаскивая заодно и стремянку. Может быть, из-за слишком низкого потолка или из-за узких окошек, расположенных у самого пола, он без особой охоты поднимался в мансарду, разве для того, чтобы выполнить какую-нибудь рискованную или компрометирующую работу, например вставить в глушитель «брюггер-томе» абсорбирующий слой войлочных прокладок, взятых из воздухоочистительного фильтра подвесного мотора. Глушитель лежал на полке, покрытый каким-то тряпьем, рядом с «зиг-зауэром» 9-го калибра, к которому его нужно было приспособить. Но теперь – другое: открыть одно из окошек, сесть верхом на подоконник и через маленький бинокль «сваровски» наблюдать за Праздником единства, тихо насвистывая.
С этой стороны дома музыка слышна лучше. Она, конечно, доносилась издалека – ее отражали стены, расстояние скрадывало высокие ноты, оставляя лишь назойливый грохот басов, – но звучала достаточно отчетливо, чтобы можно было разобрать мелодию и слова. Группа «Субсоника», хит «Все мои ошибки».
Он искал старика. Подходящего старика. Настроил окуляры, подкрутил болты с насечкой, пока не образовался правильный, четкий круг, в который попадали один за другим люди, передвигавшиеся по стадиону. Витторио быстро вышел из центра, где давали концерт, потому что там толпилась одна молодежь, проскочил через пивную и остановился у буфета, который, похоже, еще работал. Далекая, совершенно не связанная с тем, что попадало в черный круг бинокля, музыка казалась еще более отвлеченной, чужеродной – так бывает, когда смотришь телевизор, убрав звук, но оставив включенным радио.
Ты меня защищаешь и делаешь больно;
Ты меня убиваешь и снова
Берешь меня живым,
Ты – все мои ошибки.
Витторио искал между столиками, за стойкой, у мангалов, но не видел никого, кто бы мог пригодиться. Потом вдруг нашел. Старик поднимался из-за столика рядом со стойкой. В одной руке он сжимал поднос, полный пластиковой посуды, а другой снимал, скорее, срывал фартук с бедер. В уголке рта, зажатая между зубами, виднелась щепочка, и Витторио мысленно отметил эту подробность, на всякий случай, на другой раз, потому что сейчас это ни к чему. Наверное, старик, добровольно вызвавшийся помогать в буфете, собирался поесть после смены – но не это интересовало Витторио, хотя он и направил окуляры на тарелки, что громоздились на подносе, скорее из любопытства и по привычке, чем по необходимости. Тортеллини с мясом, сарделька с кукурузной кашей, пол-литра красного и английский суп. Ни воды, ни кофе. Витторио ждал, пока незнакомец двинется с места, поскольку его интересовала именно походка. Скорость и ритм движений, как учили на последнем курсе школы актерского мастерства. И вот наконец он увидел. Быстрые, чеканные шаги, скорее, прыжки, которые завершались прежде, чем успевали до конца развернуться, словно встречая какую-то преграду. Как он двигает свободной рукой, согнув ее в локте, словно отпихивая кого-то невидимого; как держит поднос, прямо, твердо, но окостенелыми, распухшими пальцами, которые не сжимали край, а просто поддерживали; даже как он оборачивается к стойке, и голова на негнущейся шее движется медленно, на одной высоте, как башня танка. Старый, проржавевший танк, старый рабочий, или старый ремесленник, или старый крестьянин – он еще полон энергии, но тело уже подчиняется только рывками, ноги заплетаются, идти трудно.
Ты силишься свободно вздохнуть,
ты учишься пускать себе кровь,
а день уходит, уходит.
Подлинное время – это ты.
Витторио подумал: вот такой нужен старик.
С такими движениями, с таким носом, который сейчас получился. Подумал еще, что такой стариковский нос должен дышать с присвистом, как сейчас, через трубочки: да, дырки в латексе, разумеется, нужно проткнуть, но не до конца, только на поверхности, чтобы и в самом деле дышалось с трудом; сохранив в памяти столь точную подробность, Витторио прислонился затылком к оконной раме и удовлетворенно улыбнулся.
Ты – моя гордость, на потом отложенная;
и даже когда подступает боль,
нет у меня сожалений,
я не могу поддаться
всем моим ошибкам.
Одного стула не хватало. Саррина ринулся было к смежному кабинету, но дверь перегораживала тележка с переносным телевизором. Тогда он сделал шаг по направлению к коридору, но доктор Карлизи рявкнул: «Довольно, хватит, тут вам не кино!» – и Матера заявил, что постоит, у него и так, мол, болит спина. Матера прислонился к стене, обеими руками поддерживая поясницу, а Саррина, уже отошедший от стула, не осмелился возвратиться и застыл у двери. Грация присела на металлический табурет, прямо на стопку документов, подальше от комиссара. Отсюда плохо различалось изображение на экране, мешали блики света из окна, те самые, от которых пытались избавиться, двигая тележку так, чтобы комиссару было удобнее смотреть. Но после вторжения в квартиру и всего, что за этим воспоследовало, Грация так и не успела принять душ и стеснялась сесть ближе к начальству. В любом случае в такие моменты лучше запрятаться как можно дальше, чтобы о тебе поскорее забыли.
– О переполохе, который вы устроили, и о его последствиях мы поговорим потом, – отчеканил комиссар. – Теперь сидите тихо и слушайте, потому что это странно, очень странно. Саза, давай включай.
Инспектор Ди Кара прибыл из Палермо сразу после полудня и прямо из аэропорта поспешил в уголовную полицию изучить магнитофонные записи и видеокассеты, полученные из мансарды, откуда наблюдали за квартирой Джимми. В той комнате, где все они сейчас находились, инспектор провел более четырех часов. Когда он нагнулся к аппарату, стоявшему на тележке, Грация, Матера и Саррина уставились в экран, не сразу разобравшись, что инспектор включил только магнитофонную запись.
– Практически, – сказал он, – нам удалось выяснить точное время, когда происходили убийства. Вот, пожалуйста. – Он указал пальцем на одну из двух колонок, расположенных по краям тележки. – Три сорок семь – телохранитель.
Свистящий звук задержанного дыхания, сдавленный всхлип и быстрый, тут же прекратившийся шорох.
– Три часа пятьдесят семь минут и двадцать секунд – остальные двое.
Два рыдающих звука, близких, почти слитных. Шорох только один.
– Подожди-ка, вот еще. – Рыдающий звук, еще более тихий, тусклый, отдаленный.
– Кто в это время не спал? – осведомился комиссар.
– Я, – ответил Саррина, – но я не…
– Я тоже, – подхватил Матера. – Я вообще почти не спал прошлой ночью. Эти последние звуки я слышал, но мне показалось, что кто-то вздохнул во сне и повернулся в постели.
– А на самом деле кто-то выпустил три стеклянные пули в пластиковой оболочке. Двадцать второй калибр, с большим ускорением, если судить по результатам. Пистолет с глушителем, – пояснял Ди Кара. – Другие звуки – это конвульсии. Но не расстраивайтесь так, перед тем как дать вам послушать, мы устранили помехи, выровняли и увеличили звук. Я бы и сам ничего не услышал без наушников.
– Ладно тебе, Саза, – махнул рукой комиссар. – Не надо их выгораживать. Позволили ухлопать клиента, за которым следили, три убийства во время слежки! Я считаю, они в дерьме по самые уши. Но об этом позднее.
Грация оперлась локтями о колени, прижав палец к щеке и покусывая ее изнутри. Сцена вставала перед внутренним взором. Тот, кто убил Джимми и его домочадцев, наверняка имел прибор ночного видения, поэтому и двигался по квартире бесшумно, ни на что не натыкаясь. Вот он беззвучно скользит по лабиринту мерцающих зеленых линий, между силуэтов, издающих мертвенное свечение; подходит вплотную к телохранителю и перерезает ему горло. Стрелял, может быть, второй человек, и определенно с лазерным прицелом, поэтому так метко. Красная точечка мигает из-под бесформенной массы глушителя, «брюггер-томе» или «марк-уит-миллениум», возможно обернутого мокрой тряпкой; пляшет по зеленоватой голове, торчащей из-под простыни, и внезапно останавливается. По выстрелу в каждого, потом еще один, чтобы прикончить Джимми. Под затвором пистолета висела, наверное, сеточка, потому что никто не слышал, как падают гильзы, да и в комнате их не нашли. Все вставало перед внутренним взором Грации, все, кроме одной детали.
– Как они вошли? Дверь только одна, мы бы услышали, если бы ее открыли. Шум от взлома мы бы услышали тоже, так?
– Три часа двадцать одна минута, – кивнул Ди Кара, склонился к магнитофону, дотронулся до клавиши обратной перемотки, но потом покачал головой. – Ладно, расскажу сам. В три часа двадцать одну минуту различается какой-то металлический звук, очень тихий. Я его распознал, только выведя звуковую дорожку на дисплей. Через девятнадцать минут – другой металлический звук, вроде звяканья цепочки, но тоже очень тихий. Он вставил отмычку в замочную скважину и поворачивал ее так медленно, миллиметр за миллиметром, что это заняло девятнадцать минут. Потом зажал цепочку в пассатижи и снял ее; это заняло еще семь минут.
– Господи, – пробормотал Матера. – Ну и хладнокровие!
Комиссар бросил многозначительный взгляд на инспектора Ди Кару, и тот улыбнулся.
– Это еще не все, – продолжал Ди Кара. – Угадайте-ка, зачем он это делает. Что тихо, это понятно, не хочет разбудить тех, кто в квартире, – но почему так тихо?
– Потому что ему известно о нас, – вмешалась Грация. – Ему известно, что мы прослушиваем квартиру, и слух у нас более тонкий, чем у Джимми и домочадцев. Поэтому он, застыв на месте, почти двадцать минут проворачивает отмычку в замочной скважине.
– Молодец, – похвалил Ди Кара.
– Черта с два она молодец, – буркнул комиссар. – Знаешь, Саза, эта девчушка имеет опыт поимки преступников. До того, как перевестись сюда, в оперативный отдел, она работала у меня в Риме – и клянусь тебе, хватка у нее, как у мастифа. Когда ей нужно было кого-то выследить, она полностью на нем сосредоточивалась, без сна и отдыха изучала его; знала все, что он делал, все, что говорил; как вел себя в детстве, даже какие видел сны, вот какая хреновина, словно он ей – жених и она в него влюблена. Но не замуж она собиралась, а отправить голубчика в тюрьму. Я не зря ей поручил это дело, а она меня вываляла в дерьме. Молодец, Грация, мои поздравления!
Грация промолчала. Она уставилась в пол, со сжатыми губами и дрожащим от ярости подбородком. Знала, что едва она поднимет глаза, как тут же расплачется.
Матера оторвал руки от поясницы и вынул сигару из кармана рубашки. Курить он не собирался, только подержать в пальцах: едва все вошли, комиссар заявил, что кабинет слишком маленький, здесь курит только он. Матера собирался повторить: «Какое хладнокровие», но его отвлекла мысль, назойливая мысль, не дававшая покоя.
– Минуточку, – сказал он. – Если вы думаете, что эти ребята знали о том, что их прослушивают, так тому и быть. Но если вы полагаете, что они об этом догадались в процессе слежки, то вы неправы. Я ведь там был и не заметил никакого подвоха. Мы выходили поесть, мы расходились, но ни разу нам не встречались одни и те же лица, не было никого подозрительного.
– Ты мог не заметить, – провозгласил комиссар.
Матера, выпрямившись, отделился от стены. Нос и кожа под глазами внезапно покраснели, словно он надел полумаску. Сигара хрустнула в пальцах.
– Извините, но даже вам я не позволю.
– Не заводись, Матера, – оборвал его комиссар. – Не стоит. Посмотри сюда, и все поймешь.
Инспектор Ди Кара снова склонился над тележкой и на этот раз включил видеомагнитофон. Грация вскочила с табуретки и кинулась к столу, чтобы не мешали блики. Она вытянула шею, оперлась рукой о комиссарское кресло, изогнулась над его плечом. О том, что начальник учует запашок, исходящий от нее после трех дней без душа, она уже не думала.
Кассета была заранее установлена, и в экране телевизора, в верхней его части, показалась парадная дверь дома, где скрывался Джимми. Неподвижная, серая, наглухо закрытая. Быстро мелькали белые циферки таймера в правом углу. Секунды беспрестанно сменяли друг друга в конце полосы, показывавшей три часа десять минут.
– Этот дом, – начал инспектор Ди Кара, – настоящий многоквартирный барак постройки семидесятых годов.
– Мы это знаем, – перебил Саррина. – Мы там торчали целых три дня. Два одинаковых корпуса, две входные двери, две лестницы. Больше никак нельзя войти. Оба корпуса семиэтажные, по две квартиры на этаже.
Ди Кара вздохнул. Нагнулся, нажал на кнопку «стоп». В кадре показалась все та же картинка: запертая парадная дверь, темный стеклобетон карниза, кусочек улицы впереди, конус света от фонаря, бледный, испещренный неподвижными тенями.
– Успокойся, коллега, – сказал Ди Кара, все еще наклоняясь вперед, не снимая пальца с клавиши видеомагнитофона. – У меня и в мыслях нет вас подкалывать. Я только хочу сказать, что в этих чертовых бараках живет как минимум сто человек, и если даже уголовный розыск пройдется по всем квартирам, чтобы вычислить, не запечатлелся ли на пленке кто-то, кто в доме не живет, полной уверенности все равно не будет.
Наконец он нажал на кнопку и, задыхаясь оттого, что говорил так долго, согнулся пополам, потом откинулся на спинку стула.
– Грация, – спросил комиссар, – сколько, по-твоему, их было?
Что-то такое предвещала картинка на видео, чего-то от нее ждали. Грация не сводила глаз с экрана, даже перестала покусывать щеку.
– Боевая группа из двух человек, – ответила она. – По меньшей мере из двух. На стреме никто не стоял, Саррина бы его заметил. – В этом, правда, она не была до конца уверена.
– В самом деле, – подтвердил Ди Кара, – у нас двое подозреваемых. Вот первый.
Подъехал юноша на велосипеде, а перед тем, словно сигнализируя о его прибытии, погасли и снова вспыхнули фонари. Лет двадцать–двадцать пять. Типичный студент. Высокий, худой, с длинными нечесаными волосами, собранными на затылке в курчавый хвост. Облегающая блекло-коричневая футболка до бедер, кирпичного цвета хлопчатобумажные брюки. Кроссовки. Черный рюкзачок между лопатками. Рыжеватая бородка, в тон штанам и кудлатому хвосту; короткая, редкая, козлиная, вся состоящая из пары завитков, закрывающих подбородок. Прислоняет велосипед к стене дома, со стороны улицы, у самой границы кадра, раскручивает цепь, намотанную на руль, продевает ее сквозь спицы колеса и закрепляет за что-то невидимое, находящееся вне кадра. Потом открывает парадную дверь своим ключом и заходит внутрь.
– Вот, – повторил Ди Кара, нажимая на кнопку быстрой перемотки. – Это – первый. Через десять минут начинается шум у двери Джимми. Но есть и еще один.
– Я его помню, – сказал Матера.
– Я тоже, – подтвердил Саррина. – В нем не было ничего особенного.
– Только то, что он вышел через двадцать минут после последнего выстрела, – возразил Ди Кара. – Но не в этом дело. Вот, посмотрите.
На таймере четыре десять. Из серой двери выходит мужчина лет под пятьдесят. Низенький, сутулый, редкие седые пряди сплющены на висках и начесаны на круглый голый череп. Синяя спецовка под серой лыжной курткой, желтые и красные полосы на выцветших рукавах. Во рту почти докуренная сигарета, правая рука сжимает ручки спортивной сумки, старой, тоже почти потерявшей первоначальный цвет. На пороге он останавливается, делает затяжку, пальцы свободной руки сомкнулись на фильтре, глаза сощурены, рот искривлен в злобной ухмылке; потом движением среднего пальца окурок выщелкивается из губ. «Найти этот хабарик», – подумала Грация. ДНК по слюне.
– Что-то тут не так, – покачал головой Матера. – Парень приковал велосипед, прежде чем войти. Зачем бы это, если он собирался убить троих.
Комиссар улыбнулся. Откинулся на спинку кресла, подложив под голову сцепленные пальцы. Чуть не стукнулся о Грацию, которая быстро отпрянула, чего, кажется, никто не заметил.
– Ну, Саза, – вздохнул комиссар, – скажи им, и на том покончим.
– Я тут поиграл с одной программой научно-исследовательского отдела, касающейся сличения антропометрических показателей.
Грация кивнула, как будто обращались непосредственно к ней, хотя Ди Кара все время смотрел на комиссара. Она хорошо знала эту программу. Компьютер выделял ключевые характеристики человеческого лица. Преобразовывал в цифровые данные фотографию или фотограмму, рассчитывал расстояние между глазами, лицевой угол, длину ушей и сводил все это в формулы, которые можно было сопоставить с аналогичными формулами, полученными при анализе других лиц. Так удавалось вычислить до восьмидесяти процентов виновных в ограблениях.
– Я сопоставил полученные данные с теми, что имеются у нас в картотеке, – продолжал Ди Кара. – Ничего… ни тот ни другой ранее не были судимы. Убийство, грабеж – пусто. Чистенькие, нигде не значатся. Но самое странное впереди. Идею подал доктор Боцци. Мы сравнили лица мужчины и юноши – и знаете, что получилось? Это – один и тот же человек.
Комиссар вынул две фотографии из пачки, лежавшей перед ним на столе. Парень с велосипедом и мужчина в спецовке на фотограмме анфас – черно-белой, увеличенной, зернистой и тусклой, с пунктирными линиями и оставленными красным фломастером кружками на неподвижно застывших лицах.
– Черт, – пробормотал Саррина. – Как же такое может быть?
Грация навалилась на стол комиссара, вглядываясь в фотографии. Но ведь это разные люди. На самом деле разные. Совершенно разные.
– Матера, – проговорил комиссар, отводя взгляд. – Мне очень жаль, но твой отпуск накрылся, с кубинкой увидишься в другой раз. Мы заварили кашу, нам ее и расхлебывать. Объявился профессиональный киллер, способный как угодно изменять свою внешность, убивающий в одиночку, без промаха, да еще и во время слежки за потерпевшими. Негро… – Комиссар поглядел на Грацию, и она так и впилась в него взглядом. – Работа как раз для тебя. Приложи все силы и поймай мне этого типа.
Грация молча кивнула. Следом за Матерой и Сарриной пошла к двери, по дороге опрокинув стул. Ди Кара говорил почти шепотом, на ухо комиссару, но Грация еще не успела выйти и все услышала.
– Доктор, но вы уверены, что у этой девчушки хватит духу на такое дело?
– Это не питбуль.
– Но похож на питбуля.
– Это не питбуль, это американский стаффордшир. Он похож на питбуля, но это не питбуль. Это очень добрый пес, добрее не бывает.
– Все может быть. Но мне кажется, что это питбуль. Не спускай его с поводка, пожалуйста.
Вот так всегда. Стоит вывести его на улицу, как мамаши хватают детей, а собачники берут на руки болонок. Бросают на меня косые взгляды – опять, мол, этот со злой собакой, – но ничего не говорят, а если бы сказали, если бы стали, например, ругаться, я бы объяснил, что это не пес, а сарделька на ножках, и пасть у него затем, чтобы поглощать с отвратительной жадностью по две банки собачьих консервов в день, по тысяче лир штука, специальное предложение. И то, что они принимают за свирепый оскал, – не более чем идиотская ухмылка: чего еще ожидать от существа, которое дрыхнет двадцать три часа в сутки, а остальное время либо ест, либо какает, либо писает. Но никто мне ничего не говорит, просто смотрят как на маньяка, и не могу же я повесить себе на шею табличку «Это – не питбуль, черт бы вас всех побрал!».
К счастью, некоторые это понимают. Морбидо, например: он просто не хочет, чтобы пес жил в доме, а в остальном не создает проблем. Наверное, еще и потому, что не знает, какая это порода, питбуль. Здесь, в офисе «Фрискайнет», меня никто не понял. В первую же ночь, когда я привел с собой пса, случился форменный переполох. Начальник велел никогда больше этого не делать, а Луиза не верит, что это не питбуль, черт бы ее побрал.