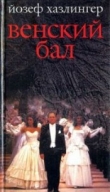Текст книги "Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки"
Автор книги: Карл Зигмунд
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Взгляд за кулисы
Однако всемирную славу Маху принесли даже не эксперименты, а соображения о принципах физической науки. Как писал впоследствии Карл Поппер: “Немного великих людей имели такое интеллектуальное влияние на двадцатый век, как Эрнст Мах. Он повлиял на развитие физики, физиологии, психологии, философии науки и чистой (или спекулятивной) философии. Он повлиял на Эйнштейна, Бора, Гейзенберга, Уильяма Джеймса, Бертрана Рассела и многих других”[17]17
Цит. по: Карл Поппер. 2014. С. 164.
[Закрыть].
Философствующих ученых всегда было великое множество, да и философов, пробовавших свои силы в науке, тоже достаточно. Но Мах был исключением. Он основал новую дисциплину: философию науки.
Предметом изучения стала наука как таковая. Момент для этого был самый подходящий. Наука перестала считаться любимым увлечением, вроде хобби, отдельных мыслителей и мечтателей. В девятнадцатом веке она превратилась в глобальное предприятие, охватывающее многие поколения. Ее повсеместно признали движущей силой промышленной революции. Назрел вопрос, который больше не мог оставаться без ответа: если прогресс человечества основан на науке, на чем основана сама наука?
Задача понять, на чем зиждется знание, оставалась одной из главных в философии. Откуда мы знаем, что вон там растет дерево? Или что Наполеон когда-то жил на свете? Или что собаки чувствуют боль? Мах занимался более практическими материями, которые нельзя было ни обойти, ни отмести: его интересовали принципы научного знания, того растущего, нажитого тяжким трудом знания, которое принадлежит всем и влияет на каждого. Об этом он написал три книги: “Механика. Историко-критический очерк ее развития” (1883), “Основные положения теории тепла” (Die Principien der Wärmelehre, 1896) и “Основные положения физической оптики” (Die Prinzipien der physikalischen Optik, опубликована посмертно, в 1921 году).
Каков подлинный смысл физических понятий – что такое сила, тепло, энтропия? Что такое вещество? Как измерить ускорение? К подобным вопросам Мах подходил снизу вверх, начиная с простейших наблюдений, а затем переходя к критическому анализу исторических корней. Он с самого начала интуитивно ощущал, что между философией науки и историей науки прослеживается теснейшая связь.
Первый же абзац “Механики” предлагает перейти прямо к сути: “Предлагаемая книга – не учебник, по которому можно было бы изучать законы механики. Ее тенденция скорее разъясняющая или, еще яснее выражаясь, антиметафизическая”[18]18
Эрнст Мах, 2000. С. 5.
[Закрыть]. И Мах продолжает: “Ядро идей механики развилось почти исключительно в процессе изучения весьма простых специальных случаев процессов механики, и исторический анализ познания этих случаев остается и до настоящего времени самым действительным естественным средством для раскрытия этого ядра. Можно даже сказать, что только этим путем может быть достигнуто полное понимание наиболее общих результатов механики”[19]19
Ibid.
[Закрыть].
И тогда, и сейчас целью учебников было как можно быстрее посвятить студента в современное положение дел. Но если речь идет о критическом анализе инструментов – понятий и методов, – тут полезно знать, как они эволюционировали. Таким образом, Мах подходил к физике исторически. При всем при том он мало интересовался историей философии в отличие от философов-традиционалистов. Настали новые времена. Лучше всего было начинать с нуля, строить с фундамента.
Мах с проницательностью психолога анализирует понятия вроде “физической силы”, знакомые каждому, однако обретшие научную четкость далеко не сразу: “Бросим, наконец, еще раз взгляд на статическое понятие силы. Сила есть нечто, что сопровождается движением… Определяющие движения условия, наиболее нам знакомые, суть собственные наши акты воли, иннервации. При движениях, которые мы сами определяем… мы всегда ощущаем некоторое давление. Вследствие этого устанавливается привычка каждое условие, определяющее движение, представлять себе как нечто родственное акту воли и как давление”[20]20
Ibid, p. 73.
[Закрыть].
Физик считает, что просторы Вселенной заполнены всевозможными силами, и это понятие развилось в результате длительного и трудоемкого интеллектуального процесса. И как-то странно основывать такое представление на интимных телесных ощущениях, которые осознает даже крошечный ребенок. Но что мы можем поделать? “Попытки устранить это представление, как субъективное, анимистическое, не научное, всегда оканчивались неудачей. Неполезно также делать насилие над собственной своей естественной мыслью и добровольно обрекать себя на бедность ее”.
Таким образом, Мах свел физические понятия к непосредственно воспринимаемым ощущениям вроде тяги и толчков, то есть к чувственным впечатлениям. Следовательно, его интерес к физике неизбежно привел его к физиологии. И в этой области он тоже блеснул. В частности, он отметил, что орган чувства равновесия – это внутреннее ухо, тем самым добавив шестое чувство к знаменитому списку Аристотеля, где их было пять. Примерно в одно время с Махом это же открытие сделал Йозеф Брейер (1842–1925) – венский физик, который впоследствии вместе с Зигмундом Фрейдом заложил основы психоанализа. Еще позднее находки Брейера и Маха проработал и уточнил Роберт Барани (1876–1936), за что и был награжден Нобелевской премией по медицине – первой в Вене. Почему же Вена оказалась столь плодородной почвой для исследования головокружения? Может быть, причина в тогдашнем повальном увлечении вальсом?
Рачительность мышления
Наука вынуждена ограничиваться эмпирическими фактами, однако, безусловно, не сводится к тому, чтобы их просто накапливать. С точки зрения Маха, главной целью науки была экономия мыслительных усилий – то есть наука должна описывать как можно больше как можно лаконичнее. Например, закон всемирного тяготения Ньютона одной короткой формулой описывает бессчетное множество явлений от падения яблока до движения Луны по орбите. Мах пишет: “Задача всей и всякой науки – замещение опыта или экономия его воспроизведением и предвосхищением… фактов в наших мыслях. Опыт, воспроизведенный в наших мыслях, легче под рукой, чем действительный опыт, и в некоторых отношениях может этот последний заменить… С познанием экономического характера науки исчезает из нее также всякая мистика”[21]21
Ibid, p. 409.
[Закрыть].
Мах придерживался радикальных воззрений: по его мнению, теории служат исключительно для упрощения мысли. Законы природы – это просто предписания, направляющие наши ожидания, а причинно-следственные связи – не более чем регулярная связь между событиями. В этом смысле причинно-следственные связи не дают никаких дополнительных “объяснений”. “Средствам мышления физики, понятиям массы, силы, атома, вся задача которых заключается только в том, чтобы пробудить в нашем представлении экономно упорядоченный опыт, большинством естествоиспытателей приписывается реальность, выходящая за пределы мышления. Более того, полагают, что эти силы и массы и составляют то настоящее, что подлежит исследованию, и если бы они стали известны, все остальное получилось бы само собою из равновесия и движения этих масс”[22]22
Ibid, p. 433.
[Закрыть].
Однако такое представление путает реальность с репрезентацией, утверждает Мах. Сила, масса и атом – это лишь понятия, интеллектуальный реквизит. “Если бы кто-либо знал мир только по театру и раз попал за кулисы, он мог бы подумать, что действительный мир нуждается в кулисах и что все было бы изучено, если бы были изучены эти кулисы. Вот так и мы не должны считать основами действительного мира те интеллектуальные вспомогательные средства, которыми мы пользуемся для постановки мира на сцене нашего мышления”[23]23
Ibid, p. 433.
[Закрыть].
Принципы экономии управляют не только научной деятельностью, но и преподаванием научных дисциплин: “Сообщение науки при помощи преподавания имеет дело сэкономить для индивидуума опыт сообщением ему опыта другого индивидуума”[24]24
Ibid, p. 409.
[Закрыть].
В детстве и юности Маху пришлось трудно на школьной скамье. Желая избавить других от этой участи, он неустанно ратовал за школьные реформы и усовершенствование учебных программ. Написал учебник для средней школы. Несмотря на известность автора, добиться одобрения от министерства просвещения оказалось отнюдь не просто. Видимо, мешала гениальность.
Мах был прирожденный педагог – он писал великолепные научно-популярные заметки, был большим сторонником образования взрослых и неустанно боролся против “искусно выстроенных препятствий, варварским образом запрещающих зрелым талантам, которым не досталось обычного школьного образования, поступать в высшие учебные заведения и получать ученые профессии”[25]25
Mach, 2014, р. 353.
[Закрыть].
Для Маха образование было синонимом просвещения: “Я едва ли вызову возражения, если скажу, что без хотя бы элементарной грамотности в математике и естественных науках человек останется чужим в этом мире, чужим в культуре, которая его поддерживает”[26]26
Ibid, p. 336.
[Закрыть]. Кстати, культура не должна быть уделом только одного из двух полов: Мах употребляет слово Mensch – “человеческое существо”.
Наши мысли рискуют запутаться в закулисном хламе абстрактных понятий, будто муха в паутине, не только в научных теориях, но даже в школе. Научное образование находилось еще в зачаточном состоянии: “Вне всяких сомнений, от преподавания физики и математики можно ожидать гораздо большего, если принять более естественный метод преподавания. Это означает, в частности, что нельзя губить юношество, слишком рано познакомив его с абстракцией… Самый действенный способ нарушить процесс абстракции – принять его слишком рано”[27]27
Ibid, p. 340.
[Закрыть].
А в другом месте Мах пишет: “Не знаю ничего более унылого, чем те несчастные, кто слишком много выучил. Приобрели они при этом не более чем паутину мыслей – недостаточно прочную, чтобы опереться на нее, но достаточно сложную, чтобы сбить их с толку”[28]28
Ibid.
[Закрыть]. Мах хотел вырваться из этой паутины.
Эго и его ощущения
Главный философский труд Маха появился в 1886 году. Это книга “Анализ ощущений и отношение физического к психическому”. Она открывается “Несколькими антиметафизическими предварительными замечаниями” – откровенным призывом к свержению Ding an sich, “вещи-в-себе” Иммануила Канта, да и любой “вещи” и субстанции, если уж на то пошло. Мах считал, что эти идеи – бесполезный мертвый груз, поверхностные абстракции, которым недостает связей с нашими органами чувств. Поскольку наука, по мнению Маха, сводится к экономному мышлению, в ней нет места подобным излишествам. Довольствоваться нужно лишь мимолетными чувственными впечатлениями.
Эмпиризм Маха был полным и всесторонним. С его точки зрения, любое знание должно быть основано на опыте, а любой опыт – на чувственном восприятии, а значит, на чувственных данных, они же – “ощущения”: “Цвета, тоны, различные степени теплоты, давления, времена, пространства и т. д. бывают самым разнообразным образом связаны между собой, и с ними бывают связаны настроения, чувства, проявления воли. Из этого сплетения относительно более устойчивое и постоянное выступает вперед, запечатлевается в памяти и получает выражение в нашей речи. Относительно более постоянными оказываются прежде всего комплексы цветов, тонов, различных степеней давления и т. д., (функционально) связанные между собой пространственно и временно. Как таковые комплексы, они получают особые названия, и мы называем их телами. Абсолютно постоянными эти комплексы никоим образом не бывают”[29]29
Цит. по: Эрнст Мах. 2005а. С. 49.
[Закрыть].
В пределах такой конструкции первичные чувственные элементы способны меняться, как разноцветные стеклышки в калейдоскопе: “Когда мы держим карандаш перед собой в воздухе, мы видим его прямым; опустив его в наклонном положении в воду, мы видим его изогнутым под тупым углом. В последнем случае говорят, что карандаш кажется изогнутым, но в действительности он прямой. Но на каком основании мы называем один факт действительностью, а другой низводим до значения иллюзии?”[30]30
Из записных книжек Маха от 23 и 26 января 1881 года. Приводится по: Haller and Stadler, 1988.
[Закрыть]
И в самом деле, почему у осязательных ощущений есть привилегия перед зрительными? Почему мы доверяем пальцам больше, чем глазам? И не напрасно ли? “Объекты, которые мы воспринимаем, состоят всего лишь из кипы сенсорных данных, взаимосвязанных обычным образом. Не существует никакого более глубинного объекта, не зависящего от наших чувств, никакой вещи в себе… Таким образом, мы знакомы лишь с внешними «явлениями» и не знаем никакой вещи в себе – лишь мир наших собственных чувств… Поэтому мы не можем знать, существует ли вещь в себе. Следовательно, говорить о подобных идеях бессмысленно”[31]31
Ibid.
[Закрыть].
А это подводит нас к следующей неприятной мысли: нашего Я не существует точно так же, как и всего остального: “Относительно постоянным оказывается далее связанный с особым телом (живым телом) комплекс воспоминаний, настроений, чувств, который мы обозначаем словом Я [ego] … Конечно, и постоянство этого Я тоже только относительное”[32]32
Ibid.
[Закрыть].
К этой теме Мах возвращается не раз и не два. Когда-то ему довелось пережить судьбоносный опыт, оставивший неизгладимый след: “В один прекрасный летний день, когда я гулял на лоне природы, весь мир вдруг показался мне одним комплексом взаимно связанных между собою ощущений, а мое Я – частью этого комплекса, в которой эти ощущения лишь сильнее между собою связаны”[33]33
Эрнст Мах. 2005а. С. 69.
[Закрыть].
Если бы Мах был мистиком, он счел бы это религиозным озарением. Но поскольку он был физик до мозга костей, то лишь вернулся к себе в кабинет и нарисовал там карикатуру под названием “Я изучает само себя”.
Я состоит из ощущений. За ними скрывается… вообще говоря, ничего. Вообще ничего. И о нем больше нечего сказать: “Что значит «Я ощущаю зеленое»? Это значит, что элемент «зеленое» является в известном комплексе с другими элементами (ощущениями, воспоминаниями). Когда я перестаю ощущать зеленое, когда я умираю, то элементы перестают являться в прежнем обычном для них обществе. Этим все сказано… Наше Я спасти нельзя”[34]34
Ibid, p. 65.
[Закрыть].
Идея “Неспасаемого Я” стала модной среди писателей “Молодой Вены”. Мир Маха без объектов и субстанций, состоящий исключительно из чувственных впечатлений, по определению был импрессионистским, а следовательно, полностью совпадал с пьянящим духом времени (Zeitgeist) эпохи до Первой мировой.
Неподалеку, на Берггассе, Зигмунд Фрейд со своей неизменной сигарой препарировал душу, пристально следя за свободными ассоциациями своих пациентов, в том числе и “главного из них” (самого себя). Поэт Гуго фон Гофмансталь, вундеркинд “Молодой Вены”, ходил на лекции Маха. Артур Шницлер, самый знаменитый венский писатель, встал на точку зрения Маха в своих “внутренних монологах” и растворял эго в цепочках ассоциаций и комплексах связанных ощущений. Музыканты и художники воспевали и писали не предметы, а свет. Эгон Фридель (1878–1938), человек удивительно многогранный – он был одновременно и историком, и актером кабаре, – очень точно подвел итог творчеству импрессионистов: “Коротко говоря, они писали Маха”.

Я Маха изучает само себя
В салонах Вены конца девятнадцатого века почтенный физик-философ с головой пророка был просто нарасхват. И пусть Мах одевался несколько неопрятно, и шевелюра у него была частенько растрепана, но высший свет, у которого от вальсов кружилась голова, был просто влюблен в этого доморощенного гения и жаждал послушать, как он развивает свои оригинальные мысли. И Мах нашел к ним подход – подобрал верные слова, чтобы взбудоражить венское общество художников и критиков, графинь и содержанок, предпринимателей и меценатов: “Когда я говорю, что наше Я не спасти, то имею в виду, что оно состоит исключительно из присущего человеку способа относиться к вещам и явлениям, что Я полностью растворяется в том, что можно ощутить, услышать, увидеть или потрогать. Все мимолетно – наш мир лишен субстанции, он состоит лишь из цветов, форм и звуков. Его реальность пребывает в вечном движении, многоцветная, как хамелеон”[35]35
Berta Zuckerkandl. Literatur und Philosophie: Hermann Bahr, Ernst Mach und Emil Zuckerkandl im Gespräch в: Die Wiener Moderne. Ed. Wunberg G. Stuttgart: Reclam, 1980.
[Закрыть].
Австрийский писатель Герман Бар (1863–1934) пел Маху дифирамбы: “В этой фразе «Я не спасти» я наконец нашел ясную формулировку того, что мучило меня последние три года. Я – лишь название; это лишь иллюзия. На самом деле не существует ничего – лишь сочетания цветов, звуков, температур, давлений, времен, пространств и ассоциирующихся с ними настроений, чувств и желаний. Все вечно меняется”[36]36
Hermann Bahr. Dialog vom Tragischen. B., 1904.
[Закрыть].
Под колдовское обаяние этих идей попала не только высшая буржуазия Вены. Мах еще и завоевал некоторый авторитет среди марксистов. Они не раз и не два прославляли его труды как новаторский подход к материализму. Особенно восприимчивыми оказались австромарксисты – настолько, что даже В. И. Ленин счел себя обязанным призвать к порядку этих зарвавшихся диссидентов. В своей книге “Материализм и эмпириокритицизм” (1908), написанной именно для борьбы с этой ересью, он бушевал: “Наши махисты все увязли в идеализме”[37]37
Цит. по: В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии. М., 1984. (Прим. пер.)
[Закрыть]. Должно быть, Мах никак не ожидал, что его обвинят в идеализме, однако его утверждения, что материя – это всего лишь комплексы связанных ощущений, безусловно, представляли собой угрозу для материалистов.
Первым из махистов воспротивился гневу Ленина молодой физик-теоретик Фридрих Адлер (1879–1960). Он был сыном Виктора Адлера, весьма почтенного основателя Австрийской социал-демократической рабочей партии, и походил на отца прямо-таки до жути, будто клон. Через десять лет после нападок Ленина на Маха и его учеников Фридрих Адлер нанес ответный удар – издал собственную книгу “Победа Эрнста Маха над механическим материализмом”[38]38
Adler. 1918а.
[Закрыть] (Ernst Machs Überwindung des mechanischen Materialismus). Он писал ее в камере смертников, но об этом речь впереди. Более того, хотя Фридрих Адлер никогда не станет членом Венского кружка, побочная линия с его участием – важная часть истории о кружке.
Через три года после назначения в Венский университет Маха во время дальней поездки по железной дороге сразил тяжелый инсульт, после которого его парализовало. Отнялись правая рука и правая нога. В 1901 году, после нескольких доблестных попыток возобновить лекции, он наконец понял, что у него нет выбора – придется уйти на покой по состоянию здоровья. Мах отклонил предложение императора даровать ему баронский титул, поскольку это противоречило его демократическим убеждениям. Однако он не справился с искушением стать пожизненным членом палаты господ, Herrenhaus, вместе со своим старым другом и наперсником Теодором Гомперцем. Несмотря на немощь, стареющий Мах сохранил прежнюю живость ума и неустанно дискутировал с некоторыми ведущими учеными своего времени, в том числе с Людвигом Больцманом и Максом Планком. Вокруг него вечно кипели споры. И в самом деле, в его воззрениях, соблазнительных своей оригинальностью, при доскональном разборе обнаруживались существенные пробелы. Например, если вся наука основывается на чувственных данных, как быть с тем, что невозможно воспринять? Должны ли мы отвергнуть все это как вопиющие выдумки? А как быть с чужими чувственными данными? Их тоже следует отвергать? Маху приходилось постоянно защищаться от обвинений в солипсизме – и это ему, человеку, объявившему, что Я пришел конец!
Формула Больцмана
Эрнст Мах был не первым физиком, поднявшим вопрос о существовании Я. За сто лет до него примерно о том же говорил Георг Лихтенберг (1742–1799), когда отметил, что нам следует говорить не “я думаю”, а безлично – “думается”[39]39
G. Lichtenberg. Aphorismen (Sudelbücher). См. Database Project Gutenberg.
[Закрыть]. А венский коллега Маха Людвиг Больцман, несомненно, разделял взгляды Лихтенберга, когда разоблачал “странное мнение, что мы будто бы можем думать, как сами захотим”[40]40
Афоризмы Больцмана. См.: Fasol-Boltzmann, 1990.
[Закрыть]. Жизнь и мысли Маха и Больцмана были тесно переплетены.
Людвиг Больцман родился в Вене в 1844 году и происходил из такой же скромной семьи среднего класса, как и Эрнст Мах. Вскоре после рождения Людвига его отец, налоговый чиновник, получил назначение в финансовый департамент города Линца. Там быстро заметили незаурядные дарования мальчика, особенно в математике и музыке. И точно так же, как Эрнст Мах в детстве, маленький Больцман до поступления в гимназию учился дома. Его молодой учитель фортепиано, некто Антон Брукнер, только начал делать себе имя как главный органист Линца.
В пятнадцать лет Людвиг лишился отца. Овдовевшая мать потратила все наследство на образование сыновей. Когда Людвиг окончил обучение в гимназии, семейство вернулось в Вену. Здесь юноша изучал математику и физику, в 1866 году получил докторскую степень и, в точности как Мах, начал читать лекции в университете в нежном возрасте двадцати трех лет. Однако Больцмана интересовала в основном не экспериментальная, а теоретическая физика. Потом он шутил: “Я презираю эксперименты, примерно как банкир презирает мелочь”[41]41
Ibid.
[Закрыть].
Его научный руководитель Йозеф Стефан советовал ему читать трактаты по физике Джеймса Клерка Максвелла, а заодно подарил и учебник по английской грамматике, поскольку в то время Больцман не знал ни единого слова по-английски[42]42
См. о Йозефе Стефане и Больцмане в 1895 году: Boltzmann, 1905.
[Закрыть]. Оказалось, что учится он быстро. Уже вторая его статья – “О механической интерпретации второго закона термодинамики” (Über die mechanische Bedeutung des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie) – оказалась революционной. Вскоре научное сообщество признало, что именно Больцман лучше всех способен понять и развить труды Максвелла по электромагнетизму и термодинамике.
К двадцати пяти годам Больцмана сделали профессором математической физики в Граце. В 1875 году он стал профессором математики в Вене, однако оставался там всего три года, а затем вернулся в Грац и получил кафедру экспериментальной физики – на эту вакансию рассматривали и кандидатуру Маха. Разумеется, на самом деле Больцман, вопреки собственному утверждению, не презирал экспериментов и был в восторге от такой должности; однако у него была и другая причина снова оказаться в Граце.
Еще раньше, живя в Граце, он познакомился с девушкой по имени Генриетта фон Айгентлер, питавшей необычную любовь к математике и физике. Больцман уговорил руководство университета разрешить ей посещать лекции – в те времена это было неслыханно. Его мотивы были не вполне бескорыстны. В 1875 году он написал Генриетте письмо с предложением руки и сердца:
Хотя я отнюдь не убежден, что холодные и неизбежные следствия из точных наук должны или способны подавлять наши чувства, тем не менее нам как представителям вышеуказанных наук подобает действовать лишь после взвешенных размышлений, а не следовать мимолетным прихотям. Вы как математик, несомненно, не сочтете числа непоэтичными – ведь они правят миром. Так вот: в настоящее время мое жалованье составляет 2400 флоринов в год. Нынешняя ежегодная премия – 800 флоринов. В прошлом году плата за лекции и экзамены составила около 1000 флоринов, однако последняя сумма дохода год от года меняется… Общая сумма не мала, ее достаточно на ведение хозяйства; однако, учитывая стремительный рост цен в наши дни, вы не сможете позволить себе на эти деньги много развлечений и увеселений[43]43
Письмо Больцмана Генриетте Айгентлер, 27 сентября 1875 года. См.: Flamm, 1995.
[Закрыть].
Отменно составленное, пусть и чопорное, предложение Больцмана было принято, и в браке родилось пятеро детей – столько же, сколько в семействе Эрнста Маха.
Следующие пятнадцать лет в Граце стали самым плодотворным временем в жизни Больцмана – не только в смысле продолжения рода, но и с точки зрения научных достижений. Он стоял у истоков кинетической теории газов, которая обеспечивает механическую основу термодинамики. Это не просто было огромным шагом вперед для физики, но имело значение и для философии, поскольку обеспечивало причинно-следственное объяснение с опорой на механическую модель – черта, с которой Мах смирился не сразу.

Больцман делает предложение
По мысли Больцмана, газы состоят из частиц, которые постоянно мечутся и сталкиваются, будто бильярдные шары, и чем выше температура, тем быстрее они двигаются, хотя скорость у них разная. Сталкиваясь друг с другом и со стенками сосуда (таким образом оказывая на стенки давление, которое можно измерить), одни частицы ускоряются, а другие замедляются. Уравнения Больцмана, статистически обобщавшие такое поведение частиц, стали столпами физики и сегодня играют важнейшую роль во многих отраслях техники, например в теории полупроводников.
Разумеется, на самом деле частицы газа – не миниатюрные бильярдные шары. Должны ли мы с учетом этого сказать, что статистическая теория газов дает лишь картину, а не объяснение? Но ведь крошечные частички в сосуде гораздо реальнее, чем просто картина, не так ли? И разве их постоянное мельтешение – не причина давления? Даже загадочная идея энтропии, которая в замкнутой системе со временем всегда повышается, становится интуитивно понятной и простой, если переформулировать ее в терминах статистической механики.
По мысли Больцмана, энтропия связана с вероятностью того или иного состояния частиц в сосуде, а эта вероятность тем выше, чем случайнее система (как перетасованная колода карт с большей вероятностью окажется сложена в случайном порядке, чем новая, нетронутая). Иначе говоря, энтропия – это мера беспорядка системы при исследовании на микроскопическом уровне. Если предоставить систему самой себе, беспорядок возрастет, и удивляться тут нечему: сами посмотрите, что творится у вас на столе!
Однако Мах сохранял скептицизм. “Примирение молекулярной гипотезы с энтропией – это преимущество для гипотезы, но не для закона энтропии”[44]44
Broda, 1995. P. 85.
[Закрыть]. По его мнению, единственная обязанность теории – сжато описывать наблюдаемые переменные вроде давления и температуры. Поэтому статистическое переосмысление термодинамики, которое предпринял Больцман, выходило за рамки.
Более того, новая теория вынуждала задавать неприятные вопросы. В частности, если беспорядок со временем всегда возрастает, то сам этот факт должен определять направление течения времени. Поясним на конкретном примере. Предположим, все молекулы газа поместили в левую половину сосуда, а затем предоставили самим себе. Налетая друг на друга, молекулы быстро заполнят весь объем сосуда. Если им не мешать, они больше никогда не скопятся в левой половине. Ничто никогда не возвращается в более простое и упорядоченное первоначальное состояние. По крайней мере до сих пор не удалось пронаблюдать ни одного случая подобного возвращения. Значит, такой эффект постоянно возрастающего беспорядка явным образом отличает прошлое от будущего, создавая таким образом однозначно направленную ось времени.

Молекулы газа, сначала помещенные в левую половину сосуда, а затем выпущенные на свободу
Против теории Больцмана были выдвинуты два возражения, и до сих пор ни одно из них не удалось опровергнуть ко всеобщему согласию. Это парадокс периодичности и парадокс обратимости.
О парадоксе обратимости первым заговорил Иоганн Йозеф Лошмидт, старший друг и наставник Больцмана. Законы механики, управляющие столкновениями бильярдных шаров и всех прочих объектов, не отличают будущее от прошлого. То есть, если мы смотрим фильм про бильярдные шары, абсолютно упруго соударяющиеся на столе, мы не можем определить, в каком порядке нам его показывают – в прямом или обратном. Но если мы смотрим фильм про каплю сливок, растворяющуюся в чашке кофе, мы без труда понимаем, какова последовательность событий. Так откуда время получило направление?
Парадокс повторяемости восходит к немецкому математику Эрнсту Цермело (1871–1953). Согласно законам вероятности, любое состояние, однажды достигнутое, должно быть достигнуто снова – и снова, и снова. Это безупречно доказанная теорема. Следовательно, частицы в сосуде рано или поздно должны вернуться в левую половину, где когда-то содержались. Но ведь этого не происходит!
Подобные трудные загадки беспокоили даже самых собранных и хладнокровных мыслителей, а Больцмана едва ли можно было назвать собранным и хладнокровным.