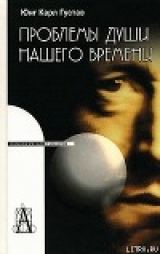
Текст книги "Проблемы души нашего времени"
Автор книги: Карл Юнг
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Насколько позволяет судить мой опыт, мужчине всегда легче понять, что такое Анима. У него есть даже совершенно определенный ее образ, и среди огромного числа женщин он всегда может распознать тех, кто больше всего подходит под тип Анимы. Но, как правило, мне всегда стоило большого труда разъяснить женщине, что такое Анимус, и не было ни одного случая, чтобы женщина сумела дать мне конкретные сведения о личности Анимуса. Из этого я сделал вывод, что Анимус, вероятно, вовсе не имеет личности, которую можно было бы понять определенным образом; другими словами, скорее всего, он представляет собой не единство, а множество. Этот факт, по-видимому, связан с особенностями мужской и женской психологии. На биологической ступени основной интерес женщины состоит в том, чтобы удержать одного мужчину, тогда как для мужчины основной интерес – это завоевать женщину, и по своей природе он редко останавливается на одном завоевании. Таким образом, для женщины решающую роль играет одна мужская личность; и наоборот, отношение мужчины к женщине менее определенное, то есть даже свою жену он может рассматривать как одну среди прочих. Он всегда также подчеркивает законный и социальный характер брака, тогда как женщина видит в нем исключительно личные отношения. Следовательно, сознание женщины ограничивается, как правило, одним мужчиной, в то время как в сознании мужчины существует стремление к выходу за рамки личного, которое при определенных обстоятельствах может идти вразрез со всем личным. Исходя из этого, мы можем предположить, что в бессознательном эта тенденция должна компенсироваться противоположной. Прекрасным подтверждением этому является относительно строго очерченная фигура Анимы у мужчины и столь же неопределенный полиморфизм Анимуса у женщины.
Я вынужден ограничиться здесь изображением Анимы и Анимуса лишь в общих чертах. Но если бы я описал Аниму просто как первообраз женщины, состоящий в основном из иррационального чувства, а Анимуса – только как первообраз мужчины, состоящий из мнений, то это ограничение зашло бы слишком далеко. Обе фигуры представляют собой обширные проблемы, ибо они являются архаичными формами тех психических феноменов, совокупность которых с древних времен называют душой. Они являются также причиной того, что человек вообще испытывает потребность говорить о душах или о демонах.
Ни одно автономное психическое содержание не является внеличностным или объективным. Объективность, внеличностность – это категория сознания. Все же автономные психические факторы имеют личностный характер, начиная с голосов, которые слышат душевнобольные, и кончая призраками медиумов и видениями мистиков. Это же относится к Аниме и Анимусу, которые тоже имеют личностный характер, что можно выразить не иначе как словом «душа».
Здесь, однако, я хотел бы предостеречь от возможного недопонимания. Понятие души, которое я здесь употребляю, скорее можно сравнить с воззрением первобытного человека, например с душами Ба и Ка египтян, чем, допустим, с христианской идеей «души», которая уже представляет собой попытку философского осмысления метафизической индивидуальной субстанции. Мое сугубо феноменологическое толкование души категорически не имеет с этим ничего общего. Я не занимаюсь психологической мистификацией, а только пытаюсь научно осмыслить архаичные психологические феномены, лежащие в основе веры в душу.
Поскольку фактический комплекс Анимуса и Анимы наиболее соответствует тому, что все времена и народы описывали как душу, то нет ничего удивительного и в том, что, как только начинаешь подбираться вплотную к содержаниям обоих комплексов, сразу сталкиваешься с привносимой ими с собою необычайной атмосферой мистицизма. Там, где проецируется Анима, тут же возникает удивительное чувство исторической сопричастности, которое Гёте облек в слова: «Ах, в те времена, которые уже отжили, ты была моей сестрой или женой моею» (В стихотворении «Почему ты нас наводишь на глубокие раздумья?» (К госпоже фон Штайн). – Авт.) А Райдер Хаггард и Бенуа, чтобы воздать должное неизбежному историческому чувству, обращаются к Греции и Египту.
Удивительно, но, судя по моему опыту, этот вид мистического историзма у Анимуса отсутствует. Я бы сказал, что он больше занят настоящим и будущим. У него преобладают законодательные наклонности, он предпочитает говорить о том, какими должны быть вещи, или, по крайней мере, дает аподиктический взгляд на факты, которые как раз и являются довольно спорными и неочевидными, причем делает это столь категорично, что в дальнейшем женщина избавляется от слишком тягостных для нее раздумий.
Я могу объяснить себе это различие опять-таки лишь компенсацией по контрасту. Мужчина в своем сознании планирует заранее и старается создать будущее, тогда как ломать себе голову над тем, кем была чья-то прабабушка, – занятие специфически женское. Но именно эта женская генеалогическая тенденция весьма отчетливо, с английской сентиментальностью, проявилась у Райдера Хаггарда, в то время как у Бенуа та же тенденция приобрела пикантный привкус «chronique familiale et scandaleuse» (Семейная хроника и скандалы (франц). – Перед.). Проявление в форме иррационального чувства идеи реинкарнации тесно связано с Анимой, в то время как женщина, поскольку она не слишком подчинена рационализму мужчины, признает эти же самые чувства вполне осознанно.
Историческое чувство всегда ощущается как нечто значительное и связанное с судьбой. Поэтому оно непосредственно ведет к проблемам бессмертия и божественного. Даже у рационально-скептического Бенуа умершие от любви люди обретают вечность благодаря некоему особому методу мумификации, не говоря уже о процветании мистицизма в «The Return of She» Райдера Хаггарда – кстати, психологическом документе первого порядка!
Так как сам по себе Анимус не является ни чувством, ни склонностью, то этот изображенный здесь аспект у него отсутствует полностью. И все же в самой глубокой своей сущности он тоже историчен. К сожалению, для Анимуса нет хороших литературных примеров, поскольку женщины пишут меньше, чем мужчины, и, кроме того, если даже и пишут, то им, видимо, недостает в известной степени наивной интроспекции, или же, по крайней мере, они предпочитают хранить результаты этой интроспекции в каком-то другом месте – возможно, как раз потому, что с этим не связано ни одно чувство. Я знаю только один документ, лишенный этих недостатков, – новеллу Мэри Хэй «The Evil Vineyard». В этом совершенно непритязательном повествовании исторический момент Анимуса выступает искусно завуалированным, что, разумеется, было сделано автором непреднамеренно.
Анимус представляет собой имеющееся a priori бессознательное условие для необдуманного суждения. О существовании такого суждения можно узнать только по тому, какая установка возникнет затем в сознании по отношению к определенным вещам. Здесь я должен привести небольшой пример: в одной семье мать окружила своего сына торжественной обстановкой и придавала ему совершенно несоразмерное значение, что в итоге, сразу по наступлении пубертатного возраста, сделало его невротиком. Причина этой бессмысленной установки стала понятной не сразу. Только после более тщательного исследования было выявлено существование бессознательной догмы, которая звучала так: «Мой сын – грядущий мессия». Это – самый обычный случай проявления общераспространенного у женщин архетипа героя, который в форме суждения проецируется либо на отца, либо на мужа, либо на сына и затем бессознательно регулирует поведение. Прекрасным и хорошо всем известным примером этого является Анни Безант, тоже нашедшая Спасителя.
В истории Мэри Хэй героиня сводит с ума мужа своей установкой, основывающейся на бессознательном и ни разу не высказанном предположении, что он гнусный тиран, которого она должна остерегаться как… Это незавершенное «как» она предоставляет досказать своему мужу, который в конечном счете находит подходящую фигуру тирана Чинкесенто и в результате теряет рассудок. Таким образом, исторический характер отнюдь не чужд Анимусу. Но форма его проявления совершенно иная, чем у Анимы. Также и в религиозной проблематике суждение у Анимуса перевешивает по сравнению с чувством мужчины.
В заключение я хотел бы также заметить, что Анимус и Анима – это не единственные автономные фигуры, или «души» бессознательного. Но в практическом отношении они являются наиболее близкими и важными. Однако, поскольку мне хотелось бы осветить еще одну сторону проблемы земной обусловленности душевной жизни, я оставлю, пожалуй, эту сложную и деликатную область внутреннего опыта и обращусь к другой стороне, где мы не будем больше кропотливо взглядываться в темные задние планы души, а посмотрим вовне на широкий мир повседневных вещей.
Подобно тому как в процессе развития человеческая душа формировалась под влиянием земных условий, так и теперь этот же самый процесс может в известной степени еще раз повториться на наших глазах. Если мысленно переместить значительную часть европейской расы на чужую землю и в другой климат, то можно ожидать, что эта группа людей, даже если не произойдет смешения с чужой кровью, через несколько поколений испытает определенные изменения психического, а возможно, и физического характера. Совсем рядом – у евреев разных европейских стран – мы можем наблюдать заметные различия, которые в первую очередь объясняются только своеобразием народа-хозяина. Не составляет труда отличить испанского еврея от североафриканского, а немецкого от русского. Даже внутри разных типов русских евреев опять-таки можно найти различие между польским, северорусским и казачьим типами. Несмотря на сходство расы, существуют заметные различия, причины которых неясны. Даже внешне нелегко их точно определить, хотя хороший знаток людей чувствует эти различия сразу.
Величайшим экспериментом по «пересадке расы» является относительно недавнее заселение североамериканского континента преимущественно германским населением. Поскольку климатические условия достаточно различны, то у исходного расового типа можно было ожидать всевозможных изменений. Смешение с индейской кровью ничтожно мало, так что существенной роли оно не играет. Боас считает доказанным, что, по-видимому, уже во втором поколении переселенцев имеют место анатомические изменения, главным образом в размерах черепа. Во всяком случае, у переселенцев сформировался тип янки настолько похожий на индейский, что во время первого своего пребывания на Среднем Западе, увидев поток рабочих, вышедших из ворот фабрики, я заметил своему спутнику, что никогда бы не подумал, что процент индейской крови столь высок. В ответ на это он засмеялся и предложил любое пари, что во всех этих вместе взятых сотнях рабочих не найдется и капли индейской крови. Это было много лет назад, когда я еще не имел представления об удивительной «индеанизации» американского населения. Я проник в эту тайну только после того, как начал заниматься с американцами аналитической психотерапией. Тогда-то и выявились их любопытные отличия от европейцев.
Прежде всего мне бросилось в глаза огромное влияние негра, я имею в виду, разумеется, психологическое влияние, без смешения крови. Эмоциональную открытость американца, особенно его смех, лучше всего изучать в иллюстрированных приложениях американских газет; тот неподражаемый смех Рузвельта в первоначальной форме можно встретить у американского негра. Своеобразная походка со слегка расслабленными конечностями или раскачивание бедрами, которое так часто можно наблюдать у американок, тоже происходят от негра. Источником вдохновения американской музыки, равно как и танцев, является негр. Проявления религиозного чувства, revival meetings («holy rollers» и прочие ненормальности), – во многом под влиянием негра; а знаменитая американская наивность, как в очаровательной, так и в менее привлекательной форме ее проявления, вполне сравнима с детскостью негра. Необычайно живой темперамент большинства американцев, проявляющийся не только в игре в бейсбол, но и в своеобразном языковом выражении радости, о чем красноречиво свидетельствует непрестанный и безбрежный поток болтовни в американских газетах, вряд ли можно объяснить германскими предками. Он скорее похож на «chattering» (Болтовня (англ.). – Перев) негритянской деревни. Чуть ли не полное отсутствие интимности и связывающая всех между собой массовая общественность напоминают первобытную жизнь в открытых хижинах с абсолютной тождественностью всех членов рода. Мне казалось, что в домах американцев всегда распахнуты настежь все двери и что в американских поселках нельзя найти садовых изгородей. Все напоминало улицу.
Нелегко, конечно, решить в деталях, что следует отнести на счет симбиоза с негром, а что на счет того обстоятельства, что Америка по-прежнему является «pioneering nation» (Нация пионеров (англ.). – Перев.) на целине. Но в целом значительное влияние негра на общий характер народа несомненно.
Разумеется, такое заражение первобытным с тем же успехом можно наблюдать и в других странах, но не в таких размерах и не в такой форме. В Африке, например, белые люди составляют ничтожное меньшинство и поэтому вынуждены, строго соблюдая общественную форму, защищаться от влияния негра – от так называемого «going black». Стоит кому-нибудь из них поддаться влиянию примитивного, и с ним будет кончено. В Америке же из-за своей малочисленности негры оказывают не дегенеративное, а скорее своеобразное влияние, которое, если только не страдать джаз-фобией, никак нельзя назвать вредным.
Удивительно то, что влияние индейца совсем или почти совсем незаметно. Однако упомянутые ранее физиогномические сходства отнюдь не указывают на Африку, а являются специфически американскими. Стало быть, тело реагирует на Америку, а душа на Африку? Пока я должен ответить на этот вопрос так: влияние оказывают только манеры негра. Что же касается души, то это еще вопрос.
То, что в сновидениях моих американских пациентов негр, как выражение неполноценной стороны их личности, играет немаловажную роль, – факт вполне естественный. В аналогичном случае европейцу снились бы бродяги или иные представители низших слоев населения. Однако большинство сновидений, особенно в начале аналитического лечения, поверхностны. И только в ходе серьезного, глубокого анализа наталкиваешься на символы, связанные с индейцем. Прогрессивная тенденция бессознательного, другими словами, мотив его героя, выбирает в качестве своего символа индейца. Так, на некоторых монетах Соединенных Штатов изображена голова индейца, что свидетельствует об уважении к ранее враждебным, а теперь индифферентным индейцам. Одновременно это является выражением только что упомянутого факта, что американский мотив героя выбрал себе в качестве идеальной фигуры индейца. И конечно, ни одному американскому правительству не пришло бы в голову поместить на своих монетах портрет Цетевайо или другого какого-нибудь негритянского героя. Монархические государства предпочитают изображать на своих монетах портрет властителя страны, демократические любят иные символы своих идеалов. Пример такой американской фантазии о герое подробно мною обсуждается в книге «Метаморфозы и символы либидо» (Новое издание: SymbolederWandlung. – Авт.). Я мог бы дополнить его еще дюжиной аналогичных примеров.
Герой всегда олицетворяет собой самое высокое и самое сильное стремление или, по крайней мере, то, каким это стремление должно быть, а значит, и то, что хотелось бы осуществить в первую очередь. Поэтому всегда важно, какой из фантазий наполняется мотив героя. В американской фантазии о герое главную роль играет индейский характер. Отношение американцев к спорту совершенно несопоставимо с европейским уютом. Только индейские инициации могут посостязаться с беспощадностью и жестокостью сурового американского тренинга. Потому-то и вызывают восхищение успехи американского спорта. Во всем, к чему американец стремится по-настоящему, проявляется индеец; в чрезвычайной концентрации на определенной цели, в упорном ее преследовании, в стойком перенесении огромных трудностей целиком проявляются все легендарные добродетели индейца (Ср.: J u n g, Your NegroidandIndianBehavior. – Авт.).
Мотив героя имеет отношение не только к общей жизненной установке, но и к религиозной проблеме. Абсолютная установка – это всегда установка религиозная, и, где бы человек ни абсолютизировался, везде проявляется его религия. Я обнаружил также, что и религиозный аспект образа героя у моих американских пациентов является преимущественно индейским. Основными фигурами в индейских формах религии являются шаман, знахарь и заклинатель духов. Первым же американским изобретением в этой области, ставшим важным и для Европы, был спиритизм, вторым – Christian Science (Христианская наука (англ.). – Перев.) и прочие формы mental healing (Ментальное лечение (англ.). – Перев.). Christian Science представляет собой ритуал заклинания, демоны болезни отвергаются, строптивое тело воспевается по определенным формулам, а соответствующая высокому культурному уровню христианская религия используется для лечения колдовством. Нищета духовного содержания ужасающа, однако Christian Science жива, она обладает необычайной силой и творит чудеса, которых не встретишь в официальных церквах.
Нет на свете страны, где бы «крепкое слово», колдовская формула, называемая «slogan» (Лозунг (англ.). – Перев.), было бы более эффективным, чем в Америке. Европеец посмеивается над этим, но он забывает, что вера в волшебную силу слова может сдвинуть горы. Сам Христос был Словом. Эта психология стала нам чуждой. Но она жива в американце. Потому и неизвестно, что еще Америке предстоит в будущем.
Итак, американец представляет для нас причудливую картину: европеец с манерами негра и душой индейца. Он разделяет судьбу всех узурпаторов чужой земли. В Австралии есть первобытные племена, которые утверждают, что нельзя присваивать себе чужую землю, потому что на ней обитают чужие духи предков, которые будут вселяться в новорожденных. В этом заключена великая психологическая истина. Чужая земля ассимилирует завоевателя. Но в отличие от латинских завоевателей в Центральной и Южной Америке североамериканцы благодаря строжайшему пуританству сохранили европейский уровень; однако они не смогли воспрепятствовать тому, чтобы души их индейских врагов не стали их собственными. Необетованная земля повсюду содержит в себе нечто такое, что опускает, по крайней мере, бессознательное на ступень туземного жителя. Таким образом, у американца возникает дистанция между сознательным и бессознательным, которую не встретишь у европейца, – разрыв между сознательной высочайшей культурой и неожиданной бессознательной примитивностью. Но такой разрыв является психическим потенциалом, придающим американцу радость предпринимательства и просто-таки завидный энтузиазм, которого мы не знаем в Европе. Именно из-за того, что мы все еще пребываем во владении духов наших предков, то есть из-за того, что для нас все исторически опосредствованно, мы находимся в контакте с нашим бессознательным, однако именно этим контактом мы и связаны по рукам и ногам. Мы настолько охвачены исторической обусловленностью, что для того, чтобы собраться с силами и вести себя, например, в политическом отношении не так, как пятьсот лет назад, необходима уже грандиозная катастрофа. Контакт с бессознательным приковывает нас к нашей земле и делает нас чрезвычайно тяжкими на подъем, что с точки зрения прогресса, разумеется, не является полезным. Но я бы не хотел говорить слишком дурно о нашем отношении к доброй земле-матушке. «Plurimi petransibunt», тот, однако, кто остается на своей земле, обладает долговечностью. Отдаление от бессознательного и тем самым от исторической обусловленности означает лишенность корней. Это представляет собой опасность для покорителя чужой земли; но это опасно также и для того, кто из-за пристрастия к какому-нибудь «изму» теряет связь с темными, материнскими, земными первоосновами своей сущности.
Архаичный человек
«Архаичный» означает «начальный, первозданный». Сказать что-либо основательное о современном, цивилизованном человеке – это одна из самых трудных и неблагодарных задач, которые только можно придумать, ибо тот, кто говорит, ограничен теми же условиями и ослеплен такими же предрассудками, что и те, о ком он должен высказать свои соображения. Однако в отношении архаичного человека мы находимся, по-видимому, в более благоприятном положении. Мы удалены во времени от его мира, превосходим его в духовной дифференциации и поэтому имеем возможность взглянуть с высоты наших достижений на его разум и на его мир,
Этим тезисом определяются также рамки и моего доклада, те рамки, без которых было бы, пожалуй, невозможно набросать достаточно объемную картину душевных явлений, присущих архаичному человеку. То есть мне бы хотелось ограничиться именно такой исключающей из своего рассмотрения антропологию первобытных народов картиной. Когда мы ведем речь о человеке в целом, то вовсе не имеем в виду его анатомию, форму его черепа и цвет его кожи, но подразумеваем под этим его душевно-человеческий мир, его сознание и его образ жизни. Это, однако, является предметом психологии. Поэтому мы будем, в сущности, заниматься архаичной, то есть первобытной, психологией. Несмотря на такое ограничение, наша тема все-таки выходит за эти рамки, поскольку архаичная психология является психологией не только первобытного, но и современного, цивилизованного человека; однако под этим понимаются не те отдельные проявления атавизма в современном обществе, а скорее психология каждого цивилизованного человека, который, несмотря на свой высокий уровень сознания, в более глубоких слоях своей психики все еще остается человеком архаичным. Так же как наше тело по-прежнему представляет собой тело млекопитающих, в свою очередь обнаруживающее в себе целый ряд реликтов еще более ранних состояний, сходных с состояниями холоднокровных животных, так и наша душа является продуктом, который, если проследить за истоками его развития, все еще обнаруживает бесчисленные архаизмы.
Однако при первом соприкосновении с первобытным человеком или при изучении научных трудов по первобытной психологии всегда создается впечатление его чужеродности. Даже такой авторитет в области первобытной психологии, как Леви-Брюль, не устает все время подчеркивать это чрезвычайное отличие «etat prelogique» (Дологическое состояние (франц.). – Перед.) от нашего сознания. Ему, как человеку цивилизованному, кажется просто непостижимым, что первобытный человек совершенно не считается с очевидным опытом и, отрицая осязаемые причины, считает ео ipso действительными свои «representations collectives» (Коллективные представления (франц.). - Перев.), вместо того чтобы объяснять явление простой случайностью или разумной каузальностью. Под «representations collectives» Леви-Брюль понимает широко распространенные идеи априорно истинного характера, такие, как духи, колдовство, могущество шамана и т.д. Например, то, что люди умирают от старости или от болезней, которые считаются смертельными, – факт для нас само собой разумеющийся, но для первобытного человека это не так. Аргумент его при этом таков: живут же люди, которые намного старше. Никто не умирает от болезни, ведь многие затем либо выздоравливали, либо же болезнь не затрагивала их вовсе. Действительным объяснением для него всегда является магия. Человека убили либо дух, либо колдовство. Многие вообще считают естественной лишь смерть в бою. Другие, однако, и эту смерть рассматривают как неестественную, поскольку противник либо был колдуном, либо использовал заколдованное оружие. Иногда эта гротескная идея принимает еще более впечатляющую форму. Так, однажды один европеец застрелил крокодила, в желудке которого оказались два браслета. Туземцы признали в них браслеты, принадлежавшие двум женщинам, которых незадолго до этого проглотил крокодил. Тотчас же поднялся крик о колдовстве, так как этот вполне естественный случай, который не показался бы подозрительным ни одному европейцу, был истолкован совершенно неожиданно, исходя из духовных предпосылок («representations collectives» no Леви-Брюлю) первобытного человека. Неведомый колдун вызвал крокодила, приказал поймать этих двух женщин и принести ему. Крокодил исполнил это приказание. Но как быть с двумя браслетами в желудке животного? Крокодил, объясняли они, не проглатывает людей по собственной воле. Он получил браслеты в награду от колдуна.
Этот ценный случай является одной из иллюстраций произвольности объяснения в «etat prelogique» – дологическом, видимо, потому, что нам такое объяснение представляется абсурдным и нелогичным. Но оно кажется нам таким лишь постольку, поскольку мы исходим из совершенно иных в сравнении с первобытным человеком предпосылок. Если бы мы, подобно ему, были убеждены в существовании колдунов и прочих таинственных сил, так же как мы верим в так называемые естественные причины, то его вывод был бы для нас вполне логичным. На самом деле первобытный человек не более логичен или алогичен, чем мы. Просто он думает и живет исходя из совсем других предпосылок по сравнению с нами, В этом и состоит различие. Все, что выходит за рамки правил, все, что поэтому его беспокоит, пугает или удивляет, основывается для него на том, что мы называем сверхъестественным. Разумеется, он не считает это сверхъестественным, для него это является принадлежностью мира, который он познает. И если для нас естественно рассуждение типа: этот дом сгорел, потому что его поразила молния, то для первобытного человека столь же естественно сказать: колдун воспользовался молнией, чтобы поджечь именно этот дом. В мире первобытного человека абсолютно все, что сколь-нибудь необычно или впечатляюще, подвергается подобному либо принципиально сходному объяснению. Но при этом он поступает точно так же, как и мы: он не задумывается над своими исходными посылками. Для него несомненно a priori, что болезнь и т.д. вызывается духами или колдовством, так же как для нас с самого начала не вызывает сомнений, что болезнь имеет так называемую естественную причину. Мы столь же мало думаем о колдовстве, как он о естественных причинах. Само по себе его духовное функционирование принципиально не отличается от нашего. Различаются, как я уже говорил, только исходные посылки.
Существует расхожее мнение, что первобытные люди имеют другие чувства и другую мораль, то есть в определенной степени «дологическую» душу. Разумеется, их мораль не похожа на нашу. Один туземный вождь, которого спросили, чем отличаются добро и зло, сказал:
«Когда я похищаю у своего врага его жен, то это хорошо, но когда он крадет их у меня, то это плохо». У многих племен считается страшным оскорблением наступить на чью-либо тень или же является непростительным прегрешением скоблить шкуру тюленя металлическим ножом вместо кремня. Но будем искренни: разве у нас не является прегрешением есть рыбу с помощью ножа или не снимать в комнате шляпу? А приветствовать даму с сигарой в зубах? Но как у нас, так и у первобытных людей это не имеет ничего общего с моральным обликом. Бывают порядочные и лояльные головорезы, бывают такие, которые набожно и с чистой совестью исполняют чудовищные религиозные обряды – убийцы из самых святых побуждений; а все то, этическое, что приводит нас в восхищение, ценит в основном и первобытный человек. Его добро столь же хорошо, а зло столь же плохо, как и у нас. Лишь формы другие, но сама этическая функция та же.
Высказывались также предположения, что его чувства обостреннее наших или же что они вовсе не такие, как у нас. Однако он обладает лишь профессиональной дифференциацией слуха, зрения и умения ориентироваться в незнакомой местности. Если же он столкнется с обстоятельствами, находящимися вне его компетенции, то будет на удивление медлителен и неловок. Я показывал некоторым туземцам, прирожденным охотникам, обладающим необыкновенно острым зрением, иллюстрированные журналы, в которых любой ребенок у нас тут же распознал бы человеческие фигуры. Мои же охотники все время переворачивали картинки, пока наконец один из них, обводя пальцем контуры, вдруг не воскликнул: «Это белые люди!»– что в целом было ознаменовано как большое открытие.
Зачастую прямо-таки невероятная способность многих первобытных людей ориентироваться в незнакомой местности является, по сути, профессиональной и объясняется крайней необходимостью в умении ориентироваться в саваннах и джунглях. Даже европеец, боясь заблудиться – а это для него может быть чревато неприятностями, – несмотря на то что у него есть компас, через некоторое время начинает обращать внимание на вещи, о которых он прежде и подумать не мог.
Ничто не указывает на то, что первобытный человек мыслит, чувствует или воспринимает принципиально иначе, чем мы. Душевная функция является здесь, в сущности, той же самой. Но исходные посылки – иные. Почти ни о чем не говорит нам также и то, что объем его сознания меньше или кажется меньшим, чем у нас, либо что он почти или даже вовсе не способен концентрироваться на духовной деятельности. Последнее особенно бросается европейцу в глаза. Так, мне никогда не удавалось растянуть свои беседы более чем на два часа, поскольку по истечении этого времени люди каждый раз заявляли, что они устали, что это слишком тяжело, – при этом обстановка во время беседы была самой непринужденной, а вопросы я задавал совсем простые. Однако те же самые люди во время охоты или трудного перехода демонстрировали удивительную концентрацию и выдержку. Например, мой письмоносец каждый раз пробегал без перерыва расстояние в 120 километров; или же я был свидетелем того, как беременная на шестом месяце женщина несла на спине ребенка и при этом курила длинную трубку. Я видел людей, которые всю ночь напролет без устали танцевали вокруг пылающего костра при температуре воздуха в 34 градуса. Следовательно, в отношении тех вещей, которые их интересуют, им нельзя отказать и в способности к концентрации. Когда нам приходится концентрироваться на неинтересных вещах, мы вскоре замечаем, сколь незначительна эта наша способность. Мы столь же зависимы от эмоционального импульса, как и первобытные люди.
Конечно, первобытные люди проще и наивнее, чем мы, – как в добром, так и в злом. Но это не кажется нам странным. И все же при соприкосновении с миром архаичного человека мы ощущаем нечто совершенно необычное. Насколько мне удалось проанализировать это чувство, причиной его является главным образом тот факт, что архаичные исходные посылки существенно отличаются от наших, то есть первобытный человек живет по сравнению с нами, так сказать, в другом мире. Это делает его трудноразрешимой загадкой до тех пор, пока мы не выясним, каковы его предпосылки. Тогда все будет сравнительно просто. Однако мы могли бы с таким же успехом сказать и обратное: «Как только мы узнаем наши предпосылки, первобытный человек уже не будет представлять для нас загадки».







