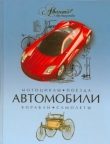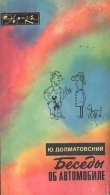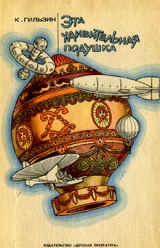
Текст книги "Эта удивительная подушка"
Автор книги: Карл Гильзин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Часть 3. Подушка в небе

Впервые в небо
 ы любите пускать мыльные пузыри?
ы любите пускать мыльные пузыри?
Если нет, то лишили себя большого удовольствия. Автору не стыдно признаться, что он занимался этим увлекательным искусством много-много лет назад, и оно стало одним из живых воспоминаний детства.
Мы не можем рассказать здесь о разных удивительных опытах, какие можно проделать с мыльными пузырями, об этом говорится в других книгах[Например, в книге Б. Доната «Физика в играх», Детгиз, 1937, или в журнале «Техника – молодежи», 1963, № 10.]. Например, вот одна из любопытных задач: что произойдет, если соединить соломинкой два пузыря, большой и малый? Оказывается, малый станет уменьшаться, большой – расти. Малый пузырь надувает большой! Так действует сила натяжения оболочки пузыря.
Опытами с мыльными пузырями занимаются и ученые. Опыты могут помочь в решении сложных задач математики и физики. Но нас сейчас интересует не красота переливающегося всеми красками мыльного пузыря и не его научные возможности, а его судьба.
Вот уж странно, судьба пузыря?! Ясно, какая у него судьба – обязательно лопнет, гибель его неотвратима, жизнь обычно скоротечна. Не зря он стал даже своеобразным символом эфемерности – о неудавшейся затее говорят, что она лопнула как мыльный пузырь. Хотя при соблюдении некоторых условий пузырь может существовать очень долго.
И все же как предугадать судьбу только что слетевшего с конца соломинки мыльного пузыря и пока еще не лопнувшего, а бесшумно и грациозно плывущего в воздухе? Нам это интересно потому, что мыльный пузырь – тоже воздушная подушка, то есть тонкая оболочка, наполненная воздухом.
Оказывается, у пузырей судьба не одинакова. Одни из них сразу же опускаются, касаются пола и лопаются. Другие взмывают вверх и лишь потом начинают опускаться. В чем причина различия?
Могут сказываться случайные обстоятельства, например потоки воздуха в комнате. Но главное – насколько удачно получился пузырь, каковы его размеры и толщина оболочки. Если пузырь достаточно велик, а его оболочка тонка, он может устремиться к потолку. Откуда же появится уносящая пузырь вверх подъемная сила, если и внутри него тот же воздух, а оболочка, как она ни тонка, все же имеет вес?
Воздух тот же, но не совсем. Когда мы выдуваем пузырь, то заполняем его выдыхаемым воздухом, а он отличается от окружающего. В частности, тем, что его температура практически всегда одна и та же, она равна примерно тридцати семи градусам, температуре нашего тела. Обычно воздух в комнате холоднее, и в этой разнице температур – секрет поведения пузыря.
Теплый воздух легче холодного, и вес мыльного пузыря может оказаться меньше веса вытесненного им воздуха. Появится архимедова подъемная сила, пузырь начнет путешествие к потолку.
Но дальше мыльный пузырь – летающая воздушная подушка – поведет себя не так, как подушка плавающая. Воздух в нем остынет, архимедова сила исчезнет, пузырь начнет спускаться. Если бы можно было не дать остыть воздуху в пузыре, он стал бы летательным аппаратом – парил бы в воздухе. Эта идея привела к появлению воздушных шаров-аэростатов, воздухоплавательных аппаратов легче воздуха.
О первом полете на «воздушном шаре» в России удалось узнать сравнительно недавно, когда была расшифрована старинная рукопись с помощью специалиста-криминалиста. Рукопись утверждает, что в 1731 году в Рязани некий костромской крестьянин Крякутной изготовил большой мешок, надул его дымом и, сев в привязанную к мешку петлю, полетел, поднялся выше березы, ударился о колокольню и остался жив только потому, что уцепился за веревку от колокола. Далее пишется, что первого аэронавта решили было для острастки сжечь за еретическое соперничество с птицами, и он едва спасся бегством.
Только через пятьдесят два года после этого, в 1783 году, во Франции поднялся в небо бумажный воздушный шар, наполненный горячим воздухом. Его сделали братья Жозеф и Этьен Монгольфье, давшие свое имя всем последующим шарам на горячем воздухе – их стали называть монгольфьерами. Братья заполняли свои шары дымом от горящего влажного сена, считая это крайне важным, хотя, конечно, доставляли себе ненужные хлопоты. Важно лишь, чтобы воздух в шаре был нагрет. Братья неверно объясняли и саму причину полета шара, они считали, что все дело в какой-то… электризации.

На первом монгольфьере полетели не люди: его пассажирами были помещенные в клетку ягненок, утка и петух. Вели они себя в полете, видно, не слишком корректно, во всяком случае, у петуха оказалось сломанным крыло, что сразу привело к гипотезе о том, что в небе людям делать нечего, ибо там кости не выдерживают…
В следующем полете монгольфьера, примерно через полгода после первого, в небо поднялся человек. А еще через тринадцать лет он уже не только поднялся в небо на монгольфьере, но и возвратился на землю… без него – это был первый в истории прыжок с парашютом, его совершил француз Жак Гарнерен.
История монгольфьеров, как и других аэростатов, очень интересна, она изобилует и героическими, и грустными, и веселыми страницами. О ней рассказано во многих книгах[Рекомендуем книгу В. Инфантьева «Мамонты шагают в будущее», «Детская литература», 1971.]. Первые полеты людей на воздушных шарах так же потрясли современников, как и полеты в космос в наше время. Это было невиданно, дерзко – люди штурмуют небо!
Монгольфьеры не сдаются!
Потрясение, вызванное первыми полетами монгольфьеров, вскоре, однако, прошло, и интерес к ним довольно быстро угас. Это не удивительно: монгольфьер – далеко не самый совершенный летательный аппарат. Нельзя отказать в остроумии члену Клуба веселых и находчивых, высказавшемуся о нем так: «Отсутствием пропеллера монгольфьер напоминает двухпудовую гирю, но отличается от последней тем, что, будучи тяжелее ее, способен подняться в воздух».
Как и другие свободные аэростаты, то есть не имеющие двигателя и приборов управления, монгольфьер оказывается полностью во власти стихий – он несется туда, куда его влечет ветер. Вынужденная «свобода»! Высоту полета менять можно, но не слишком удобно: хочешь подняться повыше – выбрасывай балласт, нужно снизиться – выпускай горячий воздух из шара. Воздух остывает, и чтобы не опускаться, его нужно постоянно подогревать. Не раз шары из-за этого горели.
В 1784 году, менее чем через год после первого монгольфьера, их полеты в России были запрещены указом Екатерины II из-за боязни пожаров. Все же в 1802 году одна московская газета сообщала читателям, что «известный своими фокусами-покусами славный Пинетти де Мерси, профессор и демонстратор физики и математики», летал на шаре над Москвой.
Серьезен и другой недостаток монгольфьера – малая подъемная сила, не позволяющая взять на борт значительный груз. Первые монгольфьеры изготовлялись из бумаги и легко воспламеняющихся тканей. Больше, чем примерно на сто градусов, воздух в них нагреть нельзя.
Поэтому запуск монгольфьеров был вскоре полностью прекращен. Их место заняли более совершенные воздушные шары.
Но почти через два века после этого, уже на наших глазах, интерес к монгольфьерам возродился вновь. Так случалось не раз в истории науки и техники – возврат к прошлому, к технике дедов и прадедов, но уже на новой технической основе порой давал замечательные результаты.
По достоинству была оценена прежде всего поразительная простота монгольфьера. Куда уж проще: сделан из дешевой бумаги, наполнен воздухом – его сколько угодно, да и подогреть не хитро, хоть на костре или примитивной жаровне.

Многие ребята в кружках авиамоделистов, пионерских отрядах и лагерных дружинах сами строят монгольфьеры, запускают их, организуют с ними всякие игры. И получают большое удовольствие.
Еще в 1938 году монгольфьер, созданный и запущенный юными авиамоделистами, улетел за полтораста километров.
Но только успехи химии, создавшей тонкопленочные синтетические материалы, привели к настоящему новому «золотому веку» монгольфьеров. За последние двадцать – двадцать пять лет появилось множество их, изготовленных из тонких и прочных пленок и снабженных горелкой, работающей на жидком или газообразном топливе, вместо примитивной и громоздкой жаровни Усовершенствования сделали полет монгольфьера практически почти безопасным и очень приятным. Пассажир помещается под шаром на легком металлическом сиденье. Точное регулирование нагрева воздуха позволяет управлять высотой полета, снижаться или набирать высоту – для этого температура воздуха должна измениться всего на два градуса. В любой момент можно совершить посадку; приземление происходит не жестче, чем прыжок с третьей ступеньки лестницы.
Простота и дешевизна монгольфьеров привлекают внимание ученых и инженеров. В частности, с борта монгольфьеров часто сбрасывают для испытаний парашютные и другие устройства – дешевле этих испытаний не придумаешь.
Летом 1973 года в США был проведен первый официальный чемпионат мира по монгольфьерному спорту. В чемпионате участвовали сто двадцать три шара из семнадцати стран, было двести тысяч зрителей. Интересно, что один из участников соревнований рассказал потом, что с высоты 1350 метров он отчетливо слышал голос семилетнего мальчугана с земли: «Мистер, возьмите меня с собой!»
Пороховая бочка и солнечный газ
Всего через несколько дней после первого полета человека на монгольфьере, зимним утром 1 декабря 1783 года, из сада Тюильри в Париже впервые стартовал воздушный шар нового типа. В отличие от монгольфьера шар, созданный известным французским ученым-физиком Шарлем, участвовавшим и в первом полете, был наполнен не воздухом, а газом – водородом. Это был переход летающей воздушной подушки от горячего к горючему воздуху – именно так называли тогда водород. Наполненные газом шары называют иногда шарльерами, хотя это название и не привилось.
Водород был открыт незадолго до того, в 1766 году, знаменитым английским физиком Кавендишем. Его еще не умели получать в больших количествах, а изготовленный из шелка шар Шарля имел диаметр около девяти метров. Задача была не из легких, если учесть, что водород образует с воздухом сильно взрывчатый гремучий газ.
Чтобы подчеркнуть опасность, часто говорят: сидеть на пороховой бочке. Находящийся в корзине под водородным шаром аэронавт без преувеличения висит под пороховой бочкой. Сколько раз в истории воздухоплавания полет на водородном шаре заканчивался катастрофой, вызванной пожаром или взрывом.

Достаточно оболочке шара чуть-чуть пропускать воздух, как со временем внутри шара образовывается гремучий газ, не менее опасный, чем порох.
Тем не менее в свое время монгольфьеры были быстро вытеснены шарами, заполненными водородом или обычным светильным газом, тем самым, что сгорает в кухонных плитах (и в шарах, увы, тоже), ибо оба эти газа легче воздуха и, значит, больше архимедова подъемная сила. Водород – самый легкий из газов, он в пятнадцать раз легче воздуха. Правда в монгольфьере воздух подогревается, водород же обычно остается холодным, но все же груз на водородном шаре может быть в три-четыре раза больше.
Важно и то, что длительность, дальность, высота полета шара тоже гораздо больше, он не нуждается в топливе.
До недавнего времени водородные и другие газовые аэростаты были едва ли не монополистами в воздухоплавании, несмотря на их недостатки. Только в последние годы многих покорила простота монгольфьера – из ста шестидесяти воздушных шаров у любителей-аэронавтов США сто сорок семь были монгольфьеры. Однако главный конкурент водородного шара – не монгольфьер.
Что заставляет шарики, изготовленные из тончайшей каучуковой пленки – латекса, взлетать? Их заполняет, создавая архимедову подъемную силу, газ, обнаруженный впервые не на Земле, а на Солнце. Он получил название «гелий», что по-латыни и значит «солнечный». Совсем недавно этот инертный газ (он неохотно вступает в химические реакции) был очень редким и дорогим. Он и теперь значительно дороже водорода, хотя получают его много.
Гелий – настоящая находка для воздухоплавания из-за своей химической инертности: он не горит. Вместе с тем он гораздо легче воздуха и всего вдвое тяжелее опасного водорода. Поэтому теперь гелием заполняют большую часть всех воздухоплавательных аппаратов. И все же находится место и для монгольфьеров и для шаров на водороде – для разных задач разные решения.
В небо за погодой
Монгольфьеры, воздушные шарики… Как-то несолидно выглядят все эти летающие воздушные подушки рядом с реактивными лайнерами, космическими ракетами и другими современными достижениями научно-технической революции.
Однако в действительности у воздушных шаров есть своя роль в технике, и не столь уж скромная. И главное – монопольная, никто другой с ней не справится: это изучение атмосферы.
Может быть, прежде всего атмосфера интересует науку как кухня погоды. Именно в атмосфере разыгрывается тот величественный всепланетный спектакль с участием грозных сил природы, который воспринимается нами как погода. Атмосфера – источник благодатного дождя и опустошительных засух, солнечного вёдра и грохочущих гроз, страшных ураганов и смерчей. Она несет благоденствие миллионам людей или же неисчислимые бедствия, голод, разрушения.
Теперь, когда наука сильно изменяет жизнь людей, она уже не хочет склониться перед слепыми стихиями, угрожающими человечеству, и стремится их обуздать. Поэтому столь большое значение приобрела метеорология – наука о погоде. Люди все меньше склонны мириться с ошибочными прогнозами синоптиков, они требуют точности, присущей истинной науке. Да и то лишь в качестве программы минимум, ибо давно уже зреет необходимость в следующем, решающем шаге – сознательном управлении погодой. Именно наука должна быть поваром на кухне погоды, а не слепые силы природы. Без этого истинный прогресс человечества не мыслится.
На службу метеорологии и аэрологии, изучающей атмосферу, ставятся все достижения науки и техники. Большую роль играют самолеты, искусственные спутники Земли, различные электромагнитные излучения – радиоволны, лазерные лучи и другие, которыми ученые «просвечивают» атмосферу.
Но что может сравниться с аэростатом, который сам есть не что иное, как составная часть воздушного океана? Свободный, он способен целыми днями и неделями подряд парить в атмосфере, как бы раствориться в ней, переноситься воздушными течениями с места на место, постоянно следить за всем самым сокровенным, что в атмосфере происходит.
Аэростаты были первыми помощниками метеорологов и на заре развития этой науки, когда еще не было ни самолетов, ни космических кораблей, остаются ими и теперь. Если первое время приборы в корзине аэростата требовали обязательного присутствия в ней ученого-наблюдателя, то теперь в основном используются «автоматические метеорологи» – беспилотные шары с приборами, передающие свои показания на Землю по радио.
Ученые стремились подняться в небо на аэростатах, когда это было новым, необычным делом. Русский академик Я. Д. Захаров впервые поднялся на воздушном шаре еще в 1804 году.
Истинные служители науки не боятся рисковать, если нужно.
Замечательный пример служения науки показал великий русский ученый Д. И. Менделеев. Он был гениальным химиком, увековечившим свое имя открытием Периодического закона химических элементов, но много и плодотворно работал б метеорологии, астрономии и других областях знания. И, уж конечно, он ничуть не колебался, когда ему предоставилась возможность совершить с научной целью полет на аэростате.
Это было около века назад, в 1887 году, когда через Россию должна была пройти полоса полного солнечного затмения. И вдруг – о счастье! – ученому предложили наблюдать его из корзины аэростата. Мог ли он отказаться, если именно ему принадлежала сама идея астрономических наблюдений с аэростатов, поднимающихся выше плотных и запыленных слоев атмосферы!
Полет маститого ученого сложился в высшей степени драматично. Началось с того, что предназначенный для полета аэростат «Русский» еще до старта в городе Клине намок под дождем и не смог поднять двух человек, как намечалось. Менделеев без колебаний решил стартовать в одиночестве, оставив на земле… командира аэростата, военного аэронавта: он пригрозил попросту выкинуть его, если тот не согласится. А ведь это был первый полет Менделеева, и он не только не имел опыта управления аэростатом, но даже не успел ознакомиться с его устройством. Немало тревожных минут было в течение почти трехчасового полета, но, благодаря мужеству ученого, полет закончился благополучно.
Увы, так бывало не всегда. История науки никогда не забудет имен ученых, пожертвовавших жизнью ради изучения воздушного океана.
В стратосферу!
Наблюдения атмосферы с помощью беспилотных шаров давно стали необходимыми науке. Их полеты обходятся дешево, могут длиться долго, повторяться часто. Шары-автоматы можно запускать в большом количестве в практически недоступные для людей области воздушного океана.
Когда аэростат запускается с исследовательской целью без человека, то в простейшем случае на нем нет никаких научных приборов – он сам становится важным прибором, указывая направление и скорость ветра на разных высотах. Такие шары-пилоты невелики (0,1–0,2 кубического метра), наполняются они обычно дешевым водородом. А наблюдают за ними ученые с земли с помощью радиолокаторов.
Неизмеримо ценнее для науки автоматические шары-зонды, или радиозонды, как их еще называют. Они как бы прощупывают, зондируют атмосферу, унося на большую высоту, более тридцати километров, научные приборы. Радиопередатчик зонда сообщает показания приборов: давление, температуру, влажность воздуха, его химический состав. Шары-зонды, впервые предложенные еще Менделеевым, а затем созданные ленинградским ученым П. А. Молчановым (первый шар был им запущен в Павловске, под Ленинградом, в 1930 году), стали поистине бесценными помощниками ученых. С их помощью ученые постоянно изучают небо.
Обычно шары-зонды имеют объем три-четыре кубических метра (бывают и больше) и наполняются водородом или гелием. Когда шар набирает высоту, то заполняющий его газ постепенно расширяется, ведь давление окружающего воздуха с высотой уменьшается. Оболочка шара растягивается и наконец лопается. Как же спасти приборы?
Иногда их опускают на парашюте, но часто внутри основного шара находится другой, поменьше. Рвется основная, внешняя оболочка, но внутренняя остается целой и, хотя она не в состоянии удержать приборы, тормозит их падение, как парашют. Если вы когда-нибудь найдете небольшой шар с приборами (их запускают часто, так что это не исключено), то по специальной карточке узнаете, куда о нем нужно сообщить.
Идея «шар в шаре» вообще довольно широко используется в воздухоплавании. Внутри шара-баллона с гелием размещается иногда шар поменьше с воздухом (его называют уменьшительно – баллонет). Воздух служит балластом, когда шар нужно опустить или поднять, воздух в баллонет накачивают или, наоборот, выпускают. С помощью автоматического устройства можно поддерживать высоту полета практически неизменной, что часто бывает важно. Или, наоборот, удается изменять высоту, уйти из опасной зоны, например грозящей обледенением – это одна из главных опасностей для шаров-автоматов. Когда шар обледеневает, то часть воздуха-балласта автоматически выпускается наружу, шар поднимается выше, солнце растапливает образовавшийся лед, компрессор снова накачивает воздух, и шар снижается до заданной высоты.
Даже в специальной научной литературе подобные «двойные» шары – один в другом – называют не без юмора «каннибалами», то есть людоедами. А что, похоже: большой шар проглотил малый.

Автоматические шары-зонды могут обладать очень большим сроком жизни. При диаметре до двух метров гелиевые шары достигают обычно высот порядка шести километров и могут оставаться там до года, а при диаметре шесть и более метров, когда шар забирается выше двадцати пяти километров, он может плавать над Землей несколько лет.
Уже давно Земля обзавелась свитой миниатюрных прозрачных спутников, плавающих по воле воздушных стихий. Однажды гелиевый шар диаметром три метра блуждал на высоте примерно шестнадцать километров, и все время его приборы посылали на Землю ученым информацию. А другой шар за десять дней облетел вокруг Земли и опустился дома, в Новой Зеландии, откуда был запущен.
Наряду с высотными шарами разработаны и шары-пилоты для получения сведений о ветрах в приземном пространстве на высоте от нескольких десятков метров до одного-двух километров. Это уже не шары – они имеют четырехгранную форму и получили название тетронов. Такая форма помогает легко следовать за всеми изменениями ветра. Опасности для самолетов низколетающие тетроны не представляют – их размер не больше одного кубического метра, а вес оболочки не превосходит тридцать – сорок граммов. Никаких приборов на них нет.
Радиопередатчики шаров-зондов, посылающие на Землю целое море информации, естественно, слабенькие, они весят меньше ста граммов, а забираться шары могут в такие дебри, где никаких наземных наблюдательных станций нет. Как решить сложную задачу приема информации?
На помощь приходит космонавтика, и это одна из ее важных служб. С орбиты искусственного спутника можно принимать радиосигналы от многих зондов. Если оборудовать спутник специальной аппаратурой, то она будет запоминать всю получаемую информацию, а затем передавать ее на Землю, когда спутник будет проходить над нужным пунктом. Подобное сотрудничество, напоминающее симбиоз в живой природе, настолько эффективно, что используется все шире. Вероятно, оно будет лежать в основе автоматической всепланетной метеослужбы будущего. По проекту, разработанному Всемирной метеорологической организацией, такая служба потребует постоянного дежурства в небе десяти тысяч шаров-зондов на шести разных высотах до тридцати двух километров.
В ряде стран уже проведены эксперименты по совместному использованию спутников Земли и шаров-зондов. Во Франции в 1971 году была создана экспериментальная система с использованием спутника «Эол» с орбитой на высоте семьсот-девятьсот километров. Эол – мифологический бог ветров, спутнику не зря дали это имя. Главная цель эксперимента связана именно с изучением ветров в атмосфере. Планировался запуск примерно пятисот шаров-зондов, но произошло непредвиденное. На спутник с Земли была подана ошибочная радиокоманда, исполняя которую он послал шарам-зондам сигнал: «Взрывайся!» Каждый зонд снабжен устройством подрыва, размещенным в приборном контейнере, оно служит для уничтожения уже ненужных зондов, поскольку они могут, дрейфуя длительное время, представлять опасность для самолетов. Так была ликвидирована половина из запущенных к тому времени зондов.
Шары-зонды нужны не только службе погоды. Например, и Будапеште они запускаются регулярно четырежды в сутки, чтобы следить за уровнем загрязненности воздуха над городом.

Особенно важной оказалась роль шаров-зондов в исследовании стратосферы – верхних слоев атмосферы. Как ни далеки они от нас, роль их в формировании погоды и в других важных для жизни на Земле явлений велика.
Как можно изучать эти слои? Самолеты на высотах тридцати – сорока километров еще не летают, космические ракеты их стремительно пересекают, геофизические исследовательские ракеты бывают на нужных высотах тоже короткие мгновения. И только высотным шарам-зондам под силу длительное пребывание для исследований.
Одним из наиболее важных полученных ими научных результатов стало, в частности, открытие в стратосфере, правда, на меньших высотах, так называемых струйных течений – гигантских воздушных «рек» шириной в сотни километров и высотой в несколько километров. Скорость течения этих «рек» иногда превышает сотню километров в час – постоянно дующий ураган. Ясно, какое значение имело это открытие для высотной авиации.
Немало других важных научных сведений о стратосфере получено учеными с помощью шаров-зондов. Вот один из последних примеров: в 1971 году австралийские ученые запустили шары-зонды, доставившие из стратосферы пробы воздуха – оказалось, что осенью этого года сильно, до пятисот раз, возросло содержание пыли в стратосфере. Что было тому причиной? Одна из многих загадок стратосферы.

Важность изучения запыленности и вообще загрязнения стратосферы нужно особенно подчеркнуть. Ученые уделяют этому в последнее время большое внимание. Пыль и другие частицы, так называемый аэрозоль, поглощают солнечные лучи, снижая температуру воздуха у земли. Если пыли станет больше некоторого предела, то на Земле может начаться новое великое оледенение. По одной из гипотез, неоднократно повторявшиеся в прошлом ледниковые периоды, когда ледники наступали, продвигаясь далеко к югу, вызывались именно тем, что запыленность атмосферы возрастала в результате столкновения Земли с кометой и ее разрушения.
Ученые многих стран объединяют свои усилия, чтобы следить за состоянием атмосферы, и большую помощь в этом оказывают воздушные шары.
Большой интерес представляет и полет человека в стратосферу на воздушном шаре, который обычно называют в этом случае стратостатом. Такие полеты совершались у нас в стране и за рубежом. Впервые его совершил в 1931 году известный ученый Огюст Пикар – он достиг высоты около шестнадцати километров.
В 1933 году советский стратостат «СССР-1» с тремя стратонавтами на борту достиг высоты девятнадцать километров.
Сенсационное сообщение облетело мировую прессу 31 января 1934 года – русские совершили небывалый полет на стратостате «Осовиахим-1» – достигли высоты двадцать два километра. Героический экипаж погиб из-за сильного обледенения стратостата и обрыва гондолы. Имена пилота П. Федосеенко, конструктора А. Васенко и ученого И. Усыскина навсегда вписаны золотыми буквами б историю штурма стратосферы и космоса.

Полеты стратостатов проложили человеку путь в космос. На высотах, куда залетали стратостаты, воздуха уже почти нет, там – преддверье космоса. Человека приходится помещать в герметичную гондолу, очень напоминающую кабину космического корабля со всеми его системами. Иногда это – стальной шар, как у стратостата «Осоавиахим», иногда – цилиндр со сферическими днищами – такая гондола была у американского стратостата, на котором пилот Д. Симонс совершил в 1957 году тридцатидвухчасовой рекордный полет на высоту тридцать один километр.
Но всегда гондола до отказа забита аппаратурой, человеку в ней тесно. Так было, в частности, и с гондолой молодого французского ученого О. Дольфюса, поднявшегося в 1959 году в стратосферу на необычном аэростате – очень похожей на связку репчатого лука гирлянде соединенных тросом ста пяти обычных водородных шаров-зондов диаметром по два метра. Длина этой связки, насмерть перепугавшей летчиков самолетов, достигала почти полукилометра!
Слишком опасными и трудными оказались полеты стратонавтов. Не удивительно, что их перестали совершать, когда стало возможно вести исследования с помощью автоматических стратостатов. Они забираются на высоты до сорока и более километров – таковы плоды союза химии с воздушной подушкой. Чтобы унести на эту огромную высоту многочисленную научную аппаратуру, размеры шара должны быть очень большими.
Вот как выглядел высотный аэростат, запущенный в США в сентябре 1968 года и достигший почти пятидесяти километров.
Высота аэростата вместе с приборным контейнером – 180 метров. Перед стартом аэростат был заполнен гелием далеко не полностью – с высотой он будет расширяться. При старте объем шара составлял 935 кубических метров, а на рекордной высоте он возрос почти в девятьсот раз.