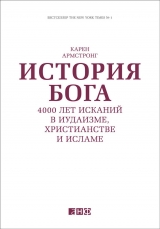
Текст книги "История Бога"
Автор книги: Карен Армстронг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Труд "Священника" (Р) был включен в Пятикнижие наряду с повествованиями авторов J, Е и "Второзакония" (D). Это еще раз напоминает, что любая крупная религия складывается из целого ряда независимых прозрений и самостоятельных форм духовности. Одни иудаисты всегда тяготели к Богу "Второзакония", который сделал израильтян избранным народом и жестко противопоставил их язычникам; другие предпочитали мессианские мифы с их надеждой на грядущий в конце времен День Яхве, когда Бог возвысит Израиль и принизит прочие племена. В этих мифологических представлениях Господь чаще всего выглядит очень далеким; неявно подразумевается, что конец изгнания означает завершение эпохи пророчеств. Непосредственного общения с Богом больше нет, за исключением лишь символических видений, приписываемых таким великим личностям далекого прошлого, как Енох или Даниил.
Одним из таких древних героев был Иов, которого в Вавилоне чтили как образец мученического терпения. После изгнания кто-то из иеговистов обратился к этой старинной притче и задался фундаментальными вопросами о сущности Бога и Его ответственности за человеческие страдания. По древней легенде, Бог испытывал веру Иова. За то, что праведник принимал невыносимые муки с неисчерпаемым смирением, Бог вознаградил Иова и вернул ему былое благополучие. В обновленном варианте предания Иов возмущается поступками Бога. В беседе с тремя сочувствующими друзьями он осмеливается подвергать сомнениям божественную волю и вовлекается в горячий спор. Впервые в истории иеговизма религиозное воображение верующих обратилось к довольно абстрактным рассуждениям. Пророки твердили, что Господь покарал израильтян бедствиями за их грехи, но "Книга Иова" свидетельствует, что многих евреев это привычное объяснение уже не устраивало. Иов оспаривает прежние взгляды и разоблачает их логическую несостоятельность, но в его гневную речь внезапно вмешивается Сам Бог. Он открывается Иову в видении и являет многочисленные чудеса сотворенного Им мира. Как смеет ничтожное создание вроде Иова спорить с Высочайшим на свете? Иов покоряется, но современного читателя книги, которому нужно последовательное и философское решение проблемы страданий, такой ответ не удовлетворяет. Автор "Книги Иова" не отрицает, впрочем, нашего права задавать вопросы; он просто намекает, что, когда дело касается непостижимого, одного лишь рассудка недостаточно. Умозаключения должны уступить место прямым откровениям от Бога – таким, как видения пророков.
Не успев пристраститься к философствованию, уже в IV в. до н.э. евреи подпали под влияние древнегреческого рационализма. В 332 году Александр Македонский победил персидского царя Дария III, и греки принялись колонизировать Азию и Африку. Их города-государства появились в Тире, Сидоне, Газе, Филадельфии (Амман), Триполи и даже Сихеме. В Палестине и других землях евреи очутились в кольце эллинистической культуры: одних она обеспокоила, другие же восприняли чужеземный театр, спорт, поэзию и философию с восторгом. Они изучали греческий, ходили в гимназии, брали греческие имена и воевали наемниками в греческой армии. Израильтяне даже перевели свои священные тексты на древнегреческий язык, и в результате появилась известная "Септуагинта". Благодаря этому некоторые эллины познакомились с Богом Израилевым и почитали Яхве (они Его называли Иао) наряду с Зевсом и Дионисом. Греки даже ходили в синагоги и дома собраний, построенные евреями-изгнанниками взамен прежних храмов. Там читали священные писания, молились и слушали проповеди. В древнем религиозном мире синагоги представляли собой нечто совершенно уникальное. Поскольку там не проводили обрядов и не приносили жертв, еврейские молельни больше напоминали философские школы, и, когда в городе появлялся какой-нибудь известный проповедник, многие греки спешили в синагогу с той же охотой, с какой стекались послушать собственных мыслителей. Некоторые даже соблюдали отдельные предписания Торы и присоединялись к еврейским синкретическим сектам. В IV в. до н.э. бывали случаи, когда евреи и греки отождествляли Яхве с античными богами.
Большинство евреев держалось, впрочем, особняком, и в эллинистических городах Ближнего Востока между ними и греками постепенно усиливались трения. В древности религия была делом далеко не личным. Боги играли очень важную роль в жизни города; считалось, что если хоть в чем-то пренебречь их культом, они откажут людям в покровительстве. Евреев, которые утверждали, что таких богов нет, объявляли "безбожниками" и врагами общества. К концу II в. до н.э. взаимная вражда обострилась. Селевкидский царь Антиох Епифан попытался было эллинизировать Иерусалим и отправлять в Храме культ Зевса, но в Палестине тут же вспыхнуло восстание. Евреи начали создавать новые тексты, где толковали "премудрость" вовсе не в греческом смысле; под этим словом понималась прежде всего богобоязненность. Тексты о Премудрости стали на Ближнем Востоке традиционным жанром литературы. В них смысл человеческого бытия объясняли не философскими рассуждениями, а описанием наиболее правильного образа жизни. Такие тексты чаще всего были крайне прагматичны. Автор "Притч" (III в. до н.э.) пошел еще дальше и предположил, что Премудрость – это генеральный план, разработанный Господом при создании мира; таким образом, она и есть первое Его творение. Как будет показано в четвертой главе, эта идея приобрела большое значение для ранних христиан. В "Притчах" Премудрость персонифицируется, то есть представлена как самостоятельная личность:
Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони;
От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. […]
Тогда я была при Нем художницею, и была радостию всякий день, веселясь пред лицем Его во все время.
Веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими{69}.
Однако Премудрость по естеству не божественна; особо подчеркивается, что она тоже сотворена Богом. Это нечто вроде "славы" Божьей, какой она выглядела в передаче Р. Премудрость олицетворяет Божий Замысел, по которому люди могли бы на миг заглядывать в сущность вещей и дел человеческих. Автор "Притчей" рассказывает, как Премудрость (Хохма) скитается по улицам и призывает людей убояться Яхве. Во II в. до н.э. схожий портрет Премудрости нарисовал правоверный иерусалимский еврей Иисус, сын Сирахов. В его повествовании она предстает на Божьем Собрании и возносит хвалу самой себе: некогда она изошла из уст Всевышнего как Слово, которым Господь творил мир; ныне она присутствует повсюду в мире, но для постоянного пребывания избрала народ Израилев{70}.
Как и "слава" Яхве, Премудрость была символом деятельности Господа на земле. Евреи постепенно развивали настолько возвышенную идею Яхве, что представить Его лично вмешивающимся в человеческую жизнь становилось все труднее. Как и Р, иеговисты предпочитали отличать Бога в обычном понимании от истинной божественной реальности. Читая о том, как Премудрость покинула Бога и странствовала по миру в поисках человеков, трудно не вспомнить давних языческих богинь – Иштар, Анат или Исиду, – которые тоже спустились из божественных сфер, чтобы исполнить свою спасительную миссию. Около 50 г. до н.э. в Александрии, где еврейская община была особенно велика, литература о Премудрости приобрела полемическую грань. В "Премудрости Соломона", сочиненной представителем этой общины, иудаистов призывают противиться соблазнам эллинистической культуры и хранить верность собственным традициям, ведь подлинную мудрость дает богобоязненность, а не античная философия. Автор тоже персонифицировал Премудрость, именовал ее на греческий лад – Софией – и доказывал, что она неотделима от иудейского Бога:
Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его{71}.
Этот фрагмент тоже станет чрезвычайно важным для христиан, когда дело дойдет до толкования естества Иисуса. Еврейский автор, однако, видит в Софии лишь один из аспектов непостижимого Господа, отчасти доступный человеческому пониманию. Она – Бог в том виде, в каком Он открывается человеку, то есть наше восприятие Божественного, таинственно отличающееся от Его истинной сущности, которую человеку не разгадать никогда.
Автор "Премудрости Соломона" проницательно подметил нараставшие трения между греческой мыслью и еврейской верой. Мы уже говорили о решающем – и, возможно, непримиримом – противоречии между аристотелевским Богом, едва ли замечающим сотворенную им самим вселенную, и Богом библейским, страстно вовлеченным в человеческую жизнь. Греческого Бога можно постичь умом, тогда как библейский Господь дает познать Себя только в откровениях. Яхве отделен от нашего мира непреодолимой пропастью, а греки полагали, что дар разумности делает людей подобными Богу и потому до Него можно при старании дотянуться. Тем не менее даже влюбленные в греческую философию сторонники единобожия неизменно старались превратить идеального Бога в своего собственного. Эти попытки будут одной из главных тем нашего дальнейшего исследования. Первым, кто их предпринял, был, вероятно, выдающийся иудейский мыслитель Филон Александрийский (ок. 30 г. до н.э. – 45 г. н.э.). Филон был платоником и заслужил репутацию видного философа-рационалиста. Он писал на безупречном греческом и, судя по всему, даже не знал еврейского – но оставался правоверным иудеем и строго соблюдал мицвот. Не исключено, что Филон просто не замечал несовместимости своего Бога с греческим. А между тем его Бог был очень непохож на традиционного Яхве. Прежде всего, Филона, по-видимому, смущали исторические книги Библии, и он пытался переиначить позорные события, превратив их в утонченные аллегории (вспомним, что Аристотель вообще ставил историю ниже философии). Бог Филона лишен каких-либо человеческих качеств: говорить, например, что Бог "гневается", совершенно неуместно. О Боге мы знаем только одно: Он есть. С другой стороны, как иудей, Филон все-таки верил, что Господь являл Себя пророкам. Как же совместить одно с другим?
Филон решил эту проблему, отметив важное различие между совершенно непостижимым естеством усия (ousia) Бога и его деяниями на земле, которые философ именовал "силами" (dynameis), или "энергиями" (energeiai). В целом, это походило на решение Р и авторов "Премудростей": истинного Господа, как Он есть, нам не познать никогда. По Филону, Бог говорит Моисею: "Сущность Моя больше, чем могут вместить естество человеческое и, поистине, даже небеса и вся вселенная"{72}. По причине ограниченности нашего разума Бог пользуется Своими "силами", которые, судя по всему, равнозначны платоновским божественным формам (правда, в этом вопросе Филон не всегда последователен). Это и есть высшие реалии, какие только доступны человеческому пониманию. У Филона они извечно исходят от Бога, подобно тому как у Платона и Аристотеля – от Первоначала. Особенно важны две такие силы: Филон именует их Царской (она раскрывает Бога в упорядоченности мира) и Творческой (через нее Бог являет Себя в благодеяниях, даруемых людям). Ни ту, ни другую не следует путать с божественным естеством (ушей), извечно окутанным непроницаемой тайной. Силы Бога позволяют нам улавливать лишь проблески совершенно непостижимой реальности. Время от времени Филон говорит о сущности (усии) Бога в сочетании с Царской и Творческой силами, образующими нечто вроде троицы. В частности, предлагая свое толкование истории о пришествии Яхве и двух ангелов к Аврааму близ дубравы Мамре, Филон утверждает, что это аллегорическое олицетворение Божественной усии (Бог-как-Он-есть) и двух главных сил{73}.
J был бы изумлен подобными идеями. Евреи вообще с недоверием относились к представлениям Филона о Боге. Христианам эти взгляды принесли, однако, огромную пользу, а греки, как мы увидим далее, глубоко прониклись мыслью о разнице между непостижимым "естеством" Бога и "энергиями", посредством которых Он нам открывается. Значительное влияние на них оказала и филоновская теория о божественном Логосе. Как и другие авторы книг о Премудрости, Филон полагал, что Бог составил некий генеральный план (логос) творения. Замысел-Логос соответствовал Платоновому миру идеальных форм, и формы эти воплотились затем в материальной вселенной. В этом вопросе Филон тоже не до конца последователен: он то считает Логос одной из сил, то, судя по всему, ставит его над ними и именует высочайшей из идей Бога, доступных человеческому пониманию. Тем не менее, размышляя о Логосе, мы ничуть не приближаемся к познанию Бога, хотя и вырываемся за пределы сбивчивого ума и обретаем интуитивное восприятие, которое "выше мышления и всего драгоценнее, так как прочее – просто мысль"{74}. Такая деятельность во многом сходна с платоновским созерцанием (теорией). Филон настойчиво утверждал, что нам никогда не постичь Бога-как-Он-есть и высшей из доступных человеку истин является лишь восторженное осознание того, что Бог совершенно запределен и умом Его не объять.
Впрочем, все не так безнадежно, как может показаться. Филон поведал нам про бурные чувства и счастье, которые он испытывал при погружении в непостижимое, наделявшее его свободой и творческими силами. Как и Платон, душу он считал изгнанницей, попавшей в ловушку материального мира. Изгнаннице надлежит подняться к Богу, вернуться на родину, оставив любые слова и чувства, так как тело приковывает ее к несовершенному миру. В конце концов освобожденная душа испытывает блаженство, которое уносит ее за унылые горизонты эго к иной, беспредельной действительности. Нам уже ясно, что рассуждения о Боге часто превращались в творческую игру воображения. Пророки, размышляя о своих переживаниях, инстинктивно соотносили их с некой сущностью, которую они именовали "Богом". Филон показал, что религиозное созерцание имеет много общего с другими видами творческой деятельности. По его признанию, временами, когда он с тоской корпел над своими книгами и не мог продвинуться ни на шаг, его вдруг окутывало Божественное:
Я внезапно переполнялся, мысли сыпались, словно снег, и такая Божественная одержимость вселяла в меня какое-то корибантическое безумие, и я не замечал более ничего – ни места, ни людей, ни настоящего, ни самого себя, ни что я говорю или пишу. Ибо мной овладевали впечатления, мысли, радость жизни, пронзительные видения и необычайная ясность зрения вещей, какая дается глазам лишь при чистейшем изображении{75}.
Позднее столь тесное единство с греческим миром стало для евреев невозможным. В год смерти Филона в Александрии прошли еврейские погромы; повсюду стремительно распространялась боязнь мятежей со стороны евреев. В первом веке до н.э. север Африки и Средний Восток захватила Римская империя. Римляне тоже поддались соблазну эллинской культуры; их давним богам нашлось место в греческом пантеоне, а сами они с восторгом переняли эллинскую философию. Чего они не унаследовали от греков, так это неприязни к евреям. Вообще говоря, последним римляне оказывали куда больше почтения, так как считали евреев достаточно надежными союзниками в тех греческих полисах, где к Риму относились враждебно. В религии евреям тоже предоставили полную свободу: все знали, что вера израильтян очень древняя, и одно это внушало уважение. Отношения между евреями и римлянами были неплохими даже в Палестине, где чужеземную власть всегда недолюбливали. К I веку н.э. иудаизм занял в Римской империи очень прочное положение: евреи составляли десятую часть ее населения, а в Александрии, где жил Филон, евреев было не менее сорока процентов от общего числа жителей. Римский мир искал в те времена новых религиозных решений; в воздухе витали идеи единобожия, а местные боги постепенно переходили в разряд скромных частных проявлений единой и вездесущей божественности. Римлян особенно привлекала высоконравственная сторона иудаизма. Многие из тех, кто по вполне понятным причинам не желал делать обрезание и соблюдать все законы Торы, часто становились почетными членами синагог; таких верующих называли "богобоязненными". Их становилось все больше; есть даже предположения, что в иудейскую веру обратился один из императоров Флавиев (как позднее Константин принял христианство). В Палестине, однако, группа политических ревнителей яростно сопротивлялась римской власти. В 66 году н.э. они подняли восстание против Рима и, как ни странно, целых четыре года сдерживали натиск римских войск. Власти опасались, что евреи начнут бунтовать и в других землях, поэтому мятеж был безжалостно подавлен. В 70 году войска нового императора Веспасиана взяли Иерусалим, Храм сровняли с землей, а город переименовали на римский лад: Элия Капитолина. Евреи в очередной раз вынуждены были стать изгнанниками.
Утрата Храма, идейного символа обновленного иудаизма, стала для верующих страшным горем, но, судя по всему, палестинские евреи, которые всегда были консервативнее эллинизированных соплеменников в диаспорах, успели подготовиться к бедствиям. На Святой Земле одна за другой появились многочисленные секты, и каждая из них так или иначе отрекалась от Иерусалимского Храма. Ессеи и кумранская секта считали, что в Храме все равно царят продажность и разврат, потому-то правоверным и приходится теперь жить небольшими группами вроде монашеской по духу общины, обосновавшейся у Мертвого моря. В секте мечтали построить новую, уже не рукотворную святыню – Храм Духа. Вместо давних обрядов жертвоприношения животных вводились очистительные ритуалы, грехи смывали с себя крещением и совместными трапезами. Бог должен пребывать в товариществе тех, кто Его любит, а не в каменном здании, – так рассуждали общинники.
Самыми прогрессивными среди евреев Палестины были фарисеи; они считали мировоззрение ессеев слишком оторванным от жизни. В Новом Завете фарисеи именуются "гробами повапленными" и громогласными лицемерами, но эти риторические крайности обусловлены полемикой I века. Фарисеи были страстными ревнителями иудейской духовности. Они верили, что всему Израилю суждено стать народом священников, а Бог должен пребывать не только в Храме, но и в самой невзрачной лачуге. В соответствии со своими взглядами, фарисеи вели себя как официальная духовная каста, соблюдали особые правила чистоты, а обряды проводили только в домашних святилищах. Они считали, что принимать пищу следует только в состоянии духовной чистоты, так как обеденный стол каждого еврея подобен жертвеннику Яхве в Храме. Помимо прочего, фарисеи призывали ощущать присутствие Бога в самых незначительных повседневных мелочах. Отныне евреи могли сближаться с Богом без посредничества священников и сложных ритуалов, а грехи искупали любовью и добрыми делами во благо своих ближних. Важнейшей из мицвот Торы стало милосердие. Кроме того, считалось, что, когда несколько евреев читают Тору сообща, рядом с ними незримо пребывает Бог. Начало столетия ознаменовалось появлением в стране двух соперничавших школ: первая, более строгая, опиралась на учение Шаммая старшего; вторую возглавлял великий раввин Гиллель старший – она-то и стала кузницей популярнейшей партии фарисеев. Сохранилась легенда о том, как один язычник пришел к Гиллелю и сказал, что обратится в иудаизм, если учитель успеет выразить всю сущность Торы, стоя на одной ноге. Гиллель ответил ему: "Не делай другим того, чего не пожелал бы себе, – вот и вся Тора. А теперь иди и читай ее"{76}.
К началу страшного 70 года фарисейство стало самым уважаемым и значительным направлением палестинского иудаизма. Оно уже доказало своему народу, что для поклонения Богу не нужны храмы; к этому сводится смысл известной притчи:
Однажды раввин Иоханан бен Заккай вышел за ворота Иерусалима, а раввин Иошуа пошел вслед за ним и увидел, что Храм лежит в руинах.
"Горе нам! – воскликнул Иошуа. – Погибла святыня, где искупали мы грехи Израилевы!"
"Не печалься, сын мой, – ответил Иоханан. – У нас по-прежнему есть иной, не менее верный путь искупления – любящая доброта; ибо сказал Господь, что милости хочет, а не жертвы"{77}.
По преданию, после падения Иерусалима раввин Иоханан бен Зак-кай (ок. 1-80 гг. н.э.) был вывезен из горящего города в гробу. Он был против восстания евреев и считал, что его народу было бы выгоднее избежать конфликта. Римляне позволили ему создать в Иавнее, что к западу от Иерусалима, независимую фарисейскую общину. Такие группы возникали по всей Палестине и Вавилонии, и между ними сохранялась тесная связь. В этих общинах проходили подготовку книжники-таннаи, к числу которых относились многие герои-раввины: сам Иоханан, мистик Акиба бен Иосиф (ок. 50-135 гг.) и раввин Исмаил бен Элиша. Таннаи составили "Мишну" – кодифицированный свод Устного Закона, где заветам Моисея придавался более современный вид. Впоследствии другие ученые – амораи – написали комментарии к "Мишне" и ряд трактатов; совокупность этих трудов получила название "Талмуд". Вообще говоря, есть два Талмуда: Иерусалимский, составленный к концу IV в., и Вавилонский; последний был закончен лишь к началу VI в. и считается сейчас более авторитетным. На этом процесс не остановился: новые поколения ученых мужей добавляли свои комментарии к Талмуду и экзегезам предшественников. Талмудические рассуждения о законе Моисея вовсе не так сухи, как может показаться со стороны. В сущности, это были нескончаемые размышления на тему о Слове Божьем и о новой "святая святых". Каждый комментарий ложился кирпичиком в стены и своды нового Храма, освящающего присутствие Бога среди Его людей.
Яхве всегда был богом потусторонним и повелевал людьми извне, с невообразимо далеких высей. Раввины сделали Его, однако, непосредственно близким человеку и наполнили Богом обыденные мелочи. Вследствие утраты Храма и мучительного опыта очередного изгнания евреи нуждались в Боге, который был бы рядом, вместе с ними. Раввины не строили какого-то официального учения о Боге. Вместо этого они учились переживать Его почти осязаемое присутствие. Такую духовность называют "нормальным мистическим" состоянием{78}. В самых ранних фрагментах Талмуда опыт переживания Бога связан с таинственными физическими явлениями. Раввины говорят о Святом Духе, который объемлет все сущее и само здание святыни и дает ощутить Свое присутствие в дуновениях ветра или жаре пламени; другие слышат Бога в колокольном звоне и громких ударах. Например, раввин Иоханан размышлял однажды над увиденной Иезекиилем колесницей, как вдруг пламя низошло с высоты, ангелы возникли ниоткуда и глас небесный подтвердил, что Господь уготовил раввину особую миссию{79}.
Ощущение близости Бога было настолько сильным, что какие-либо официальные, безличные доктрины в подобных случаях были бы совершенно неуместны. Раввины не раз высказывали предположение, что каждый израильтянин из числа стоявших некогда у подножия горы Синайской воспринял Господа по-своему. Бог, можно сказать, приспосабливал Себя "под стать разумению каждого человека"{80}. Как выразился один раввин, "Бог является не удручая, но сообразно со способностью человека Его узнать"{81}. Это исключительно важное прозрение означало, что Бога невозможно описать жесткой формулой, как если бы Он был для всех одинаков; Бог – переживание исключительно субъективное. Каждый человек воспринимает Божественную реальность по-своему – в том виде, который соответствует его потребностям и характеру. Раввины утверждали, что и каждый пророк видел Господа по-своему, соответственно особенностям его представлений о Божественном. Как мы убедимся впоследствии, сходные взгляды сложились и в других формах единобожия. Богословские мнения до сих пор остаются в иудаизме делом частным и никому не навязываются.
Любая официальная доктрина умаляла бы загадочность Господа. Раввины неустанно подчеркивали, что Бог совершенно непостижим. В тайну Божественного не смог проникнуть даже Моисей, а царь Давид признался, что его попытки постичь Господа оказались тщетными: Он слишком велик для человеческого ума{82}. Евреям запрещено было даже произносить Его имя, и это еще раз напоминает, что всякая попытка выразить сущность Бога заведомо обречена. Имя Господне записывали как "YHVH" и при чтении священных текстов не произносили. Восхищаться деяниями Бога в окружающем мире допустимо, но, как сказал раввин Хуна, это может приоткрыть лишь мимолетные проблески реальности: "Человек не в силах постичь смысл грома, урагана, бури, собственного естества и порядка во вселенной. Так не безумная ли Дерзость мнить, будто способен он познать пути Царя Царей?"{83} Значение идеи Бога сводилось не к поиску удобных ответов, а к пробуждению чувства таинственности и чудесности всего сущего. Раввины даже призывали израильтян не слишком часто восхвалять Господа в молитвах, ведь и лестные слова неминуемо искажают истину{84}.
Но какими отношениями может быть связана с обычным миром эта запредельная, непостижимая сущность? Раввины отвечали на этот вопрос парадоксом: "Господь – обитель мира, но мир – не Его обитель"{85}. Бог, так сказать, окружает, окутывает вселенную, но не пребывает в ней, как сотворенное Им сущее. Было у раввинов и другое излюбленное сравнение: Господь проницает мир, как душа обитает в теле: в каждом случае первое выше второго. Говорили также, что Бог подобен всаднику: сидя верхом, тот отчасти зависит от животного, но все же разумнее коня и властен над ним. Это, конечно, лишь несовершенные уподобления, и они тоже далеки от истины, так как наше воображение способно только строить догадки о бытии необъятного и невыразимого "чего-то", где мы живем и действуем. Высказываясь о присутствии Господа на земле, раввины столь же тщательно, как и библейские авторы, отличали следы Бога, которые Он позволяет нам замечать, от Его непостижимого сокровенного естества. Предпочитали образы "славы" (кавод), тетраграмматона (YHVH) и Святого Духа, постоянно напоминавшие о том, что Бог в нашем восприятии не равнозначен Его сущности.
Одним из самых популярных синонимов понятия "Бог" стала Шехина (от древнееврейского шакан: "пребывать в [чьей] скинии"). Теперь, когда храмы канули в забвение, символом близости к Божеству стал Господь, сопровождавший израильтян во время скитаний по пустыне. Многие полагали, что Шехина, оставшаяся с народом Божьим на земле, по-прежнему обитает на Храмовой горе, пусть даже сам Храм давно разрушен. Другие раввины возражали: гибель Храма, по их мнению, высвободила Шехину из окрестностей Иерусалима и позволила ей распространиться по всему миру{86}. Подобно "славе" Божьей или Святому Духу, Шехина считалась не самостоятельной божественной сущностью, а присутствием Господа на земле. Окидывая взглядом историю своего народа, раввины пришли к заключению, что Шехина была с евреями всегда:
Приди и узри, сколь любимы израильтяне Господом, ибо куда ни шли, следовала за ними Шехина, ибо сказано: "не открылся ли Я дому отца твоего, когда еще были они в Египте?"{87} И в Вавилоне Шехина была с ними, ибо сказано: "ради вас Я послал в Вавилон"{88} И когда Израиль спасется в грядущем, Шехина по-прежнему пребудет с ними, ибо сказано: "Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих"{89} – другими словами, Бог возвратится с твоими пленными{90}.
Связь Израиля с Богом была такой тесной, что, вспоминая, как Он помогал им в прошлом, израильтяне часто говорили: "Себя Ты спасал, Господи!"{91} Так раввины, на свой иудейский лад, нащупали наконец идею Бога, тождественного человеку, – аналог индуистского Атмана.
Образ Шехины помогал изгнанникам воспитывать в себе ощущение Божьего присутствия повсюду, куда ни заносила их судьба. Одни раввины говорили, что в чужих землях Шехина переносится из синагоги в синагогу, другие утверждали, что она всегда пребывает у входа молельни и освящает собой каждый шаг еврея, идущего в Дом Знаний; кроме того, Шехина стоит в дверях синагоги, когда находящиеся там евреи хором произносят Шема{92}. Подобно первым христианам, раввины призывали израильтян жить сплоченной общиной – как "одно тело и одна душа"{93}. Сама община стала новым Храмом, восславляющим вездесущего Бога; когда иудаисты собирались в синагоге и повторяли Шема в унисон, "ревностно, единогласно, единомышленно и единозвучно", Господь был среди них. Но разлада в общине Он не выносил, а если подобное случалось, немедленно возвращался на небеса, где ангелы извечно поют Ему хвалу "одногласно и всесозвучно"{94}. На высшую связь Бога с Израилем можно было надеяться лишь при условии полного единства израильтян на земле. Раввины неустанно повторяли, что всюду, где несколько евреев дружно изучают Тору, появляется и Шехина{95}.
В изгнании евреи с особой остротой ощущали жестокость окружающего мира, но благодаря Шехине могли чувствовать близость милосердного Господа. Иудаисты крепили к рукам и лбам филактерии (тфиллин), носили ритуальную бахрому (цицит) и, как предписывало "Второзаконие", гвоздями приколачивали над дверью домов текст Шема. Никто не должен был даже пытаться осмыслить такие странные обряды, ведь толкования лишь профанировали бы их сокровенный смысл. Вместо этого надлежало исполнять мицвот так, чтобы сам ритуал выливался в чувство всеохватной любви Господа: "Израиль любим! Библия окутывает его множеством мицвот: тфиллин на голове и руке, мезузах на двери, цицит на одеждах"{96}. Эти знаки были сродни дорогим подаркам, какие цари вручают своим супругам, чтобы те выглядели еще прекраснее.
Но все было не так просто. Судя по тому же Талмуду, кое-кто сомневался, что в нашем унылом мире вера в Бога что-то меняет{97}. Духовность раввинов стала нормой иудаизма – и не только для беженцев из Иерусалима, но и для евреев, проживших на чужбине всю жизнь. Сыграли роль вовсе не убедительные теоретические доводы – ведь многие практические предписания Моисеева Закона не имели логического смысла. Религию раввинов приняли потому, что она была действенной, помогала не впадать в отчаяние.
Эта форма духовности считалась, однако, привилегией мужчин. Женщинам не предлагали – иными словами, не разрешали – становиться раввинами, изучать Тору и молиться в синагогах. Вера в Бога, как и большинство других идеологий той эпохи, приобретала патриархальные черты. Религиозные обязанности женщин сводились к поддержанию ритуальной чистоты в доме. У евреев идея освящения сущего давно означала отделение одних его частей от других, и теперь они в привычном духе разъединили женщин и мужчин – как молоко на кухне держат в стороне от мяса. На деле это означало, что женщинам отвели место низших существ. Пусть раввины и твердили, что Господь особо благословил жен, на утренних молитвах мужчинам все равно вменялось благодарить Творца за то, что Он не сделал их язычниками, рабами или женщинами. Брак и семейный очаг, тем не менее, считались священными. Святость брака раввины подчеркивали предписаниями, которые нередко понимаются превратно. Например, запрет половой близости во время менструации объясняется вовсе не тем, что женщина в эти дни якобы грязна и неприятна. Кратковременное воздержание призвано было укрепить мужнюю любовь: "Супруг может чрезмерно привыкнуть к жене и отстраниться от нее, и потому в Торе сказано, что семь дней [в период менструации] она должна быть нидда [недоступна для половых сношений], чтобы [после] муж желал ее, как в день свадьбы"{98}. В праздничные дни перед посещением синагоги мужчине предписывалось ритуальное омовение – но не потому, что он нечист телесно, а для особой чистоты перед священным богослужением. По тем же соображениям женщине вменялось купание после месячных: так она готовила себя к последующему священнодействию встречи с мужем. Подобная идея святости сексуальных отношений стала совершенно чужда христианству, где секс и Бог нередко считались несовместимыми.







