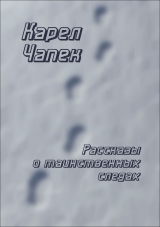
Текст книги "Рассказы о таинственных следах"
Автор книги: Карел Чапек
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Карел Чапек
РАССКАЗЫ О ТАИНСТВЕННЫХ СЛЕДАХ
Перевод Валентины Мартемьяновой
Содержание:
След
Элегия (След, II)
Следы
След
Бесконечно и покойно падал снег, покрывая стылую землю. «Почему-то вместе со снегом всегда опускается тишина», – подумал Боура, укрывшись в какой-то конуре; на душе у него было торжественно и грустно; он чувствовал себя всеми покинутым среди этой пустынной равнины. Спрятав под волнистым снежным покровом путаные следы жизни, земля опрощалась и выравнивалась у него на глазах, делаясь однообразно унылой и беспредельной. Наконец снег поутих, и танец снежинок – единственное движение в этой упоительной тишине – прекратился.
С робостью и трепетом бороздит пешеход нетронутую снежную целину, и странно ему оставлять первым длинную цепочку следов. Однако с противоположного конца навстречу движется еще кто-то, чернея из-под белой пороши; теперь две цепочки, встретившись, побегут рядом, и на девственно-чистой поверхности появятся первые признаки людской суеты.
Но встречный вдруг остановился; на усах у него снег; человек напряженно всматривается куда-то в даль. Боура замедлил шаг и проследил за направлением его взгляда; цепочки следов встретились и застыли.
– Во-он там видите – след? – спросил запорошенный снегом незнакомец и показал на какую-то вмятину метрах в шести от того места, где они стояли.
– Да, это след человека.
– Разумеется, но откуда он там взялся?
«Наверное, прошел кто-нибудь», – хотел было ответить Боура, но смутился: след был единственный; ни впереди, ни сзади – нигде ничего; резко и отчетливо отпечатавшись на снежной поверхности, след не вел никуда; он был одинок.
– Откуда он там взялся? – подивился Боура и двинулся было поглядеть.
– Погодите, – удержал его собеседник, – наделаете вокруг лишних отпечатков и все затопчете. А тут надо разобраться, – недовольно добавил он. – Куда это годится – один-единственный след? Положим, кто-то прыгнул отсюда прямо на середину поля; в таком случае следов рядом могло не быть. Но кому под силу прыгнуть так далеко? И как этому прыгуну удалось устоять на одной ноге? Ведь он неизбежно должен был бы потерять равновесие, а тогда ему пришлось бы опереться на другую ногу; к тому же он пробежал бы еще дальше – как всегда, когда на ходу соскакиваешь с трамвая. Но тут других отпечатков нет.
– Чепуха, – произнес Боура, – если он прыгал отсюда, следы остались бы и на дороге, а здесь шли только мы. Перед нами никого не было.
– След повернут пяткой к дороге; неизвестный двигался именно в том направлении. Если бы к деревне, то он повернул бы направо, потому что слева – чистое поле, а какого черта теперь искать в чистом поле?
– Позвольте, но путник должен был куда-то уйти, а я уверяю, что он вообще не трогался с места, потому как других следов не видно. Это же ясно. Следовательно, тут никто не проходил. Значит, разгадка в чем-то ином.
Боура усиленно соображал.
– Знаете, могло быть углубление на почве, а может, чей-то след отпечатался на подмерзшей земле и потом его припорошило снегом. Или представьте, что там стоял старый брошенный башмак и, когда прекратилась метель, его унесла ворона. Вот на земле и осталось пятно, напоминающее формой башмак. Этому нужно найти естественное объяснение.
– Если бы башмак стоял в поле перед снегопадом – под ним чернела бы земля, а там теперь снег.
– Значит, ворона унесла башмак, когда еще мела метель; или птица уронила башмак на лету, и он шлепнулся в чистый снег, но она снова его подняла. А, кроме того, это может быть не обычный след.
– Что же, птицы глотают башмаки, по-вашему? Или устраивают в них гнезда? Малая птаха башмака не поднимет, а большая в таком гнезде не поместится. Тут приходится рассуждать отвлеченно. Я полагаю, что это – след, но если его оставил не человек, то, значит, снег примят кем-то сверху. Вы считаете, что тут замешана птица, но вполне возможно, что кто-то сделал это с… аэростата, например. Допустим, некто повис на аэростате и одной ногой коснулся снега, чтобы всех подурачить. Не улыбайтесь, мне самому неловко давать столь неправдоподобное объяснение, но… Я буду счастлив, если это – не след.
Спутники двинулись в сторону загадочного отпечатка.
Открывшаяся им картина не могла быть ясней. От придорожного рва покато простиралась снежная целина, и одинокое пятно темнело где-то посредине поля; неподалеку от него, все в снежных хлопьях, стояло хрупкое деревце. Пространство от дороги до отпечатка башмака – нетронуто, нигде – ни намека на самолегчайшее прикосновение ноги; поверхность снега – белым-бела. Снег – мягкий и податливый, не то что сыпучая морозная пыль.
Посредине поля на самом деле был след – отпечаток большого американского сапога, на широкой подошве и с пятью крупными гвоздями на каблуке. Чистый снег плотно спрессован, нигде ни одной непримятой снежинки; значит, след появился после снегопада. Отпечаток глубокий и четкий. Тяжесть, пришедшаяся на небольшую площадь подошвы, должна была быть много больше веса любого из мужчин, склонившихся теперь над следом. Гипотеза птицы и поднятого башмака отпала сама собой.
Как раз над отпечатком башмака деревце протянуло свои длинные веточки, тоненькие, укутанные снегом; снег на них не был ни ссыпан, ни стрясен. Малейший щелчок – и он обвалился бы тяжелыми комьями. Гипотеза «шага сверху» теперь совершенно исключалась. «Сверху» ничего нельзя было предпринять, не сбив с дерева снег. Не осталось ни малейшего сомнения – перед ними был обычный след.
Вокруг – лишь чистое искрящееся пространство. Путники поднялись вверх по косогору и пробежали по гребню холма; по-прежнему далеко-далеко вниз тянулся засыпанный белым снегом склон, за ним подымался другой, еще обширнее и белее. И до самого горизонта не было даже намека на след второй ноги.
Возвращаясь обратно, спутники обнаружили лишь сдвоенные ряды собственных следов, такие ровные и четкие, словно их провели по линейке. И в самом центре пространства, окруженного этими рядами, зиял след иной, более крупной ноги, циничный в своей обособленности; что-то удерживало людей от желания растоптать этот след, избавиться от него с общего молчаливого согласия. Обессиленный и опустошенный Боура опустился на придорожную тумбу.
– Над нами кто-то подшутил, – проговорил он.
– Возмутительно, – заметил другой, – ужасно глупая шутка, но… черт побери, есть же пределы физически возможного! Ведь это все-таки неестественно… Знаете, – вырвалось у него, и в голосе послышался ужас, – ежели там один след, то, может, это был одноногий? Не улыбайтесь, я понимаю, все это глупо, но какое-то объяснение должно ведь быть? Тут под сомнение поставлен разум, это же начало чего-то… Либо мы оба спятили, либо я валяюсь дома в горячке, но только всему должна быть причина.
– Мы оба спятили, – задумчиво произнес Боура, – нам все подай «естественное» объяснение; мы хватаемся за сложнейшие, невероятнейшие, бессмысленнейшие предположения – только потому, что они «естественные». А, наверное, было бы куда проще и естественнее признать, что это просто чудо. Мы подивились бы и спокойно разошлись по своим делам… Без смятения в душе, скорее всего даже довольные.
– Нет, я не был бы доволен. Если бы след ознаменовал нечто великое… принес счастье… я сам упал бы на колени и возгласил: «Чудо!» Но это ведь просто неловко; это ничтожно мало – оставить один отпечаток вместо обычной вереницы следов.
– Если бы у вас на глазах воскресили умершую девушку – вы пали бы ниц и смирились; но не успеет на ваших коленях растаять снег, как вам придет в голову, что это был обман, лишь мнимая смерть. А тут как раз никакого обмана, ничего мнимого, тут вам продемонстрировали чудо в простейших условиях, как при чистом физическом эксперименте.
– Я, вероятнее всего, не поверил бы даже воскрешению из мертвых. Но и я жажду спасения, и я надеюсь на чудо… будто вот-вот произойдет что-то и перевернет всю мою жизнь. Этот след не спасет меня, не перевернет моей жизни, не выведет никуда, он лишь мучит, словно заноза, засевшая в мозгу, и я не могу от этого избавиться. Я в него не верю. Чудо успокоило бы меня, но этот след – первый шаг к сомнению. Лучше бы уж его вовсе не видать.
Оба надолго умолкли. В воздухе снова закружились снежинки, снег повалил гуще прежнего.
– Кажется, у Юма, – прервал молчание Боура, – я читал об одиноком следе на песке[1]1
…у Юма… я читал об одиноком следе на песке. – Юм Дэвид (1711–1776) – английский философ-агностик, автор «Трактата о человеческой природе» (1748), в котором говорится, что тот, кто увидел бы на прибрежном песке след человеческой ноги, должен был бы предположить и существование следа второй ноги, хотя бы он и был занесен песком или смыт водой.
[Закрыть]. Значит, такое встречается не впервые; по-моему, таких следов – тысячи, бесконечное множество, а мы их не замечаем, потому что привыкли к определенным правилам. Иной, например, на этот след и внимания не обратит; ему и в голову не придет, что это – уникальное явление, что он – единственный, что на свете существуют вещи, которые ни с кем и ни с чем не связаны. Посмотрите, как похожи наши с вами следы, но этот, единственный, – больше и глубже, чем наши. Когда я думаю о своей жизни, мне представляется, что в ней есть следы, которые ниоткуда и никуда не ведут. Это невероятно трудно – представлять все, что ты пережил, в виде звена некоей цепи, которое возникло однажды и в свой черед уступит место следующему звену. Бывает, что вдруг вам явится откровение или вы нежданно ощутите нечто, чего не было раньше и никогда не будет потом. Среди людских дел есть такие, которые ни с чем не соединишь, они тотчас обнаруживают свою обособленность. Мне известны поступки, которые ничем не кончались, ничто и никого не спасали, и все-таки… Случалось такое, что никуда не вело, от чего никому не стало легче жить, но, возможно, это и было самым главным в жизни. Вы не находите, что этот одинокий след – прекраснее всех, виданных вами до сих пор?
– А мне, – отозвался собеседник Боуры, – припомнились семимильные сапоги. Наверное, когда-то люди тоже наткнулись на подобный след и не смогли подыскать подходящего объяснения. Кто знает, может, предшествующий след обнаружится где-нибудь у Пардубиц или у Колина, а последующий – у самого Роковника? Я вполне могу себе представить, что второй такой след отпечатался не на снегу, а, скажем, среди толпы, на земле, во время празднества, там, где нечто уже произошло или еще произойдет; что этот шаг – звено в некоей непрерывной цепи шагов. Вообразите ряд таких чудес, и этот наш след найдет среди них свое естественное место. Если бы газеты были полностью информированы обо всем происходящем, возможно, из «Новостей дня» мы могли бы узнать о последующих шагах и проследить чей-то путь. Может, это некое божество сейчас шествует себе не спеша, но вполне продуманно и последовательно; возможно, его путь – это и есть некий высший знак, за который нужно ухватиться. И может быть, нам следовало бы пойти по стопам этого божества. Не исключено, что для нас это было бы спасением. Все, все вполне вероятно… Но разве не страшно – с предельной отчетливостью различить пред собою один-единственный след и не быть в состоянии сделать дальше ни шагу?
Боура, содрогнувшись, встал. По земле мело, мело все сильнее. Истоптанное поле и единственный отпечаток американского сапога исчезли под слоем свежевыпавшего снега.
– Я не отступлюсь, – буркнул заснеженный мужчина.
«От следа, которого уже нет и не будет больше…» – про себя договорил Боура, и путники разошлись в разные стороны.
Элегия (След, II)
В этот вечер несколько утомленный Боура читал доклад в Аристотелевском обществе. Хотя слушателей собралось немного, ему было как-то не по себе, и вскоре он почувствовал, что изнемогает; Боура понял, что аудитория не удовлетворена и дискуссии не избежать, а это почему-то не радовало его. Время от времени он слышал свой собственный голос, какой-то глухой, бесцветный, с тяжелой каденцией и неестественными ударениями. Боура попытался овладеть им, но – тщетно; слышать себя было мучительно и неприятно.
Кроме того, лектора удручали слушатели. Ощущение было такое, будто они отгорожены стеною и невероятно далеки от него; было досадно, что он вынужден делиться с ними своими сокровенными мыслями. Все казались ему на одно лицо и ужасно наскучили. Все было настолько безжизненно, что Боура терял ощущение реальности и блуждал в какой-то пустоте, которую не мог превозмочь и заполнить словами. С трудом заставив себя вглядеться в отдельные лица, он различил среди них знакомых, но чувствовал к ним неприязнь и был прямо-таки поражен теми бесчисленными подробностями их внешности, которые впервые бросились ему в глаза. «Что же это происходит? – спрашивал он себя в недоумении, уже приступив к выводам, – отчего мне так безразлично то, о чем я толкую?»
Боура вполне отчетливо представлял себе план доклада и говорил уверенно, без запинки; он развивал давно выношенную идею, которая некогда блеснула у него как озаренье, а теперь сделалась убеждением. Но сейчас, в непривычной тишине аудитории, все, произнесенное им, показалось ему странным и чуждым. «Ведь это истина, – спохватывался он, – настолько явная и безусловная, что в ней уже нет ничего моего, я сообщаю лишь факты, которые не имеют ко мне ни малейшего отношения.» Он вспоминал, какими близкими, глубоко интимными представлялись ему эти мысли, когда впервые осенили его. Тогда он мучился сомнениями и радовался любому новому доказательству, словно это был его личный успех; тогда они составляли суть его внутренней, духовной жизни. А сегодня – это голая истина, нечто внешнее и безликое, никак с ним не связанное; нечто столь бездушное, что он невольно спешил, стремясь отделаться поскорее. Однако чем более он торопился, тем более мучили его собственные слова – абстрактные и невыразительные, ничем не похожие на те, что некогда подсказывало ему вдохновение; тем не менее каждое слово, каждый оборот были донельзя знакомы и звучали назойливым повторением пройденного. Теперь он думал только о том, как бы поскорее закруглиться; с каждым словом он все неудержимее стремился к концу – лишь бы отбыть номер! Слушатели не сводили с него глаз. «Ага, теперь я ими завладел, вот сейчас я им все докажу; теперь подошло время главных аргументов. Господи, только бы не пасть духом, только бы преодолеть слабость и апатию!»
Но именно тут, перескочив с пятого на десятое, опустив ряд доказательств, Боура закончил лекцию, словно отрезал.
«Аристотелики» не были удовлетворены; несколько человек выступило с вопросами и возражениями – Боура воспринимал их не более чем наполовину; теперь, когда высказанные им идеи он слышал из чужих уст, они показались ему еще более безликими и банальными.
«Зачем мне их отстаивать? – думал он в тупой меланхолии, – ведь это не имеет ко мне никакого отношения; это голая истина и ничего больше; меня это нисколько не интересует!» Он говорит тяжело, мучительно заставляя себя сосредоточиться, и чувствовал, что речь его стала убедительной, что он выигрывает «свое дело». «Но это ведь вовсе не мое дело», – снова с удивлением отметил он…
Слово взял следующий оппонент – мужчина с зачесанными под гребенку волосами, отчего Боуре он показался особенно ретивым спорщиком.
– Убедительно прошу дать ваше определение истины, – воинственно начал оратор.
– Вопросы гносеологии не были предметом моей лекции, – возразил Боура.
– Убедительно прошу, – саркастически ухмыльнулся оппонент, – это чрезвычайно меня занимает.
– Вы мешаете ходу прений! – возроптали «аристотелики».
– Прошу прощения, – торжествующе усмехнулся щетинистый человек, – но вопрос задан по существу.
– Не по существу! – загудело Общество.
– Да, это вопрос по существу, – неожиданно согласился Боура.
– В таком случае будьте любезны ответить на мой вопрос, – повторил оппонент.
Боура поднялся:
– А я прошу прекратить дискуссию.
«Аристотелики» онемели от изумления.
– Полезнее было бы обсудить вопрос до конца, – заметил председатель. – Такова традиция Общества. Но, разумеется, я не могу настаивать на своем предложении.
– Мне нечего добавить к своему сообщению, – упрямо твердил Боура.
«Аристотелики» разразились смехом; доклад провалился, и председательствующему не оставалось ничего другого, как закрыть заседание, выразив сожаление, что «собравшиеся лишены удовольствия принять участие в обсуждении, обещавшем быть столь интересным».
Боура наконец выбрался из зала заседаний. В горле у него пересохло, голова была пуста.
Он вышел. Был мягкий зимний вечер; казалось, вот-вот повалит снег.
Глухо звучали трамвайные звонки, словно их обернули плотной ватой. Боура услышал, что его кто-то догоняет, и спрятался за дерево. Догонявший остановился, тяжело переведя дух.
– Моя фамилия Голечек, – произнес он торопливо, – я узнал вас… Вы меня помните?
– Нет, – поколебавшись, отозвался Боура.
– Вспомните в прошлом году… след на снегу…
– А – а, – обрадовался Боура. – Так это вы. Душевно рад. Я часто думал о вас. Так что же, отыскали вы другие следы?
– Какое! Искал, конечно… А почему на заседании Общества вы не ответили на последний вопрос?
– Не знаю. Не хотелось.
– Послушайте, меня вы почти убедили. Все было так ясно! И когда эта щетинистая образина вылезла со своим вопросом, мне даже захотелось вскочить и крикнуть: «Да как же так? Целый час для вас глаголет самое истина, а вы все еще не поняли, что это такое! Тут приводились бесспорные доказательства! В изложении не было ни ошибок, ни лакун. Ничего иррационального, все было продумано с начала и до конца». Отчего вы не стали ему отвечать?
– К чему? – удрученно возразил Боура. – Мне не известно, что такое истина. Я знаю: все, о чем я говорил, было убедительно, логично, очевидно – как угодно. Но это не было ни самоочевидно, ни логично, когда впервые пришло мне в голову. Тогда это выглядело до того сумбурно и странно, что порою я просто хохотал. Я сам себе казался безумцем. И был невыразимо счастлив. А ведь тогда в моих соображениях не было ни на волос рассудка. Не понимаю, откуда что бралось, – все было так беспричинно и бесцельно.
– Следы, которые ниоткуда и никуда не ведут, – вспомнил вдруг Голечек.
– Вот именно. А теперь я построил систему или, если угодно, установил истину, в этой системе все логично и ясно. Но тогда – не знаю, как бы вам передать – тогда это было куда удивительнее, прекраснее и больше походило на чудо. Тогда из моих мыслей ничего не следовало, они ни на что не годились. Я понимал, что существует возможность бесконечного множества иных, противоположных соображений, столь же поразительных, сверхъестественных и прекрасных. Тогда я понимал, что такое беспредельная свобода. Совершенство нельзя опровергнуть. Но едва я взялся конструировать истину, все как-то материализовалось; я должен был опровергать многое, чтобы осталось только одно: истина; я должен был доказывать и убеждать, быть логичным, быть понятным… Но сегодня, во время доклада, я вдруг осознал: прежде, да, прежде я был ближе к чему-то иному, более совершенному. И когда этот фанатик допытывался, что такое истина, у меня готово было сорваться с языка, что «не в истине дело».
– Этого лучше не говорить, – рассудительно заметил Голечек.
– Есть нечто большее, чем истина, – то, что не связывает, а высвобождает. Случались дни, когда я жил, словно в экстазе; я был свободен… Ничто не представлялось мне более естественным, чем чудеса. Ведь чудеса – всего лишь более яркие проявления свободы и совершенства. Это только счастливые случаи среди тысяч неудач и несчастий. Как близок был мне тогда тот единственный след! А потом, уже с точки зрения поисков истины, я иногда ненавидел его. Боже мой, ответьте мне, неужто мы собственными глазами видели это?
– Видели.
– Я так рад нашей встрече, – ликовал Боура. – Собственно, я вас ждал. Давайте посидим где-нибудь, где вам больше по душе. У меня в горле – пустыня. Представляете, были мгновения, когда я смотрел на себя словно со стороны, словно сам сидел в аудитории.
Они спустились в первый попавшийся кабачок. Боура был возбужден, много говорил, подсмеивался над «аристотеликами», в то время как Голечек молча вертел в руках бокал. «Что же ты ищешь, неукротимый? – думал он, поглядывая на Боуру. – Тебе являлось чудо – но ты не узрел в нем спасения. Ты постиг истину – и не покорился ей. К тебе слетало вдохновение, однако и оно не смогло навеки озарить твою жизнь. Ах, мне бы твои крылья!
О, просветленный дух! Наверное, крыла даны тебе лишь для того, чтобы все отринуть? Чтобы нигде не было для тебя ни пристанища, ни покоя? Чтобы стремиться в пустоту и наслаждаться простором, освежая грудь холодом небытия? Если бы мне выпало познать чудо – был бы спасен. Если бы мне открылась истина – я ухватился бы за нее обеими руками; если бы во мне разгорелась искра божья – неужто я не уподобился бы часовне, где пылает неугасимая лампада?
Даже огненный куст – и тот не спасет тебя. А ведь взор у тебя пламенный, и ты различил бы бога и в терниях и в купине, а я вот – слеп, отягощен плотью, и не увидеть мне чуда.
Ах, тебе, верно, недостает египетского плена, чтобы искупить все верой; но кто в силах связать тебя, парящий и безбожный дух?»
– Помните, – обратился к нему Боура, – в прошлом году, склонясь над тем единственным следом, вы предположили, что там, наверное, прошел бог и что можно было бы пойти по его стопам.
– Да нет, – нахмурился Голечек. – Бога нельзя выслеживать полицейскими методами.
– А как же?
– Никак. Можно лишь ждать, пока меч господень не пресечет твоих корней: тогда только поймешь, что держишься на земле лишь чудом, и навек застынешь в удивлении и благоденствии.
– Этот меч уже коснулся ваших корней?
– Нет.
Тут из-за стола в углу поднялся какой-то посетитель я направился к ним. Огромный, дюжий, большелицый и рыжий, он в задумчивости остановился подле них, да так и стоял, наклонив голову и рассматривая Боуру будто издали.
– Что вам угодно? – удивленно спросил Боура.
Человек молчал, лишь взгляд его словно приближался, становясь все более пристальным, неотвратимым, испытующим.
– Вы не пан Боура? – спросил он вдруг.
Боура поднялся.
– Я пан Боура. А кто вы?
– У вас есть брат?
– Есть… где-то за границей. Что вам от него нужно?
Человек подсел к их столу.
– Так, значит, – неопределенно начал он; потом поднял глаза и сказал: – Я и есть ваш брат.
Боура преувеличенно бурно обрадовался и переполошился.
– Ты?! Неужто в самом деле ты?
– Я, – рассмеялся человек. – Как вы поживаете?
– «Вы?..» Я… Отчего ты обращаешься ко мне на «вы»?
– Отвык, – отозвался человек и попытался улыбнуться, но на лице отразилось лишь напряжение и сосредоточенность.
– Вылитая мать, – заметил он, очерчивая пальцем голову Боуры.
– Я бы ни за что тебя не узнал, – восторженно лепетал Боура. – Боже мой, сколько воды утекло! А ну-ка, покажись! А ты в отца, в отца!
– Возможно.
– Какая случайность, – восхищался Боура, – мы ведь случайно заглянули сюда, я и мой приятель Голечек.
– Очень рад, – с достоинством произнес человек и протянул Голечеку большую, жаркую руку.
– Ну, как живешь? – смущенно спросил Боура.
– Да вот, приехал по делу. У меня там, на юге, свой заводишко. Но на родину все-таки съездил.
– Я там не бывал… со смерти родителей, – признался Боура.
– Дом наш разрушили. А на его месте что-то выстроили, кажется, школу, – словом, какое-то уродство из кирпича. Я заглянул внутрь, побродил, пока меня не окликнули – чего, дескать, мне надобно. Такие глупцы, ни о чем понятия не имели. Зато домик напротив цел, как и прежде, вот такой низенький, – прибавил он и показал рукой.
– Не помню, забыл, – смутился Боура. Рыжий детина наклонился к нему; усиленно что-то припоминая, он напряг взгляд, отчего глаза словно сдвинулись к переносице.
– А жил там… жил там Ганоусек, – вдруг радостно воскликнул он. – Ганоусек, нищий.
– С дочками, – просиял Боура.
– Да, у дочек были еще такие воспаленные глаза, с болезненными кругами. И я заходил к ним поесть.
– Вот об этом слышу впервые, – удивился Боура.
– Заходил. Они жарили для меня на плите хлеб. Что бы старик нищий ни приносил – объедки, корки, горох, чудовищную гадость, – я все ел. А потом заваливался спать и откармливал его вшей.
– Вот отчего мы не могли тебя дозваться, – улыбнулся Боура.
Нет, когда вы меня звали, я прятался наверху, на склоне, в высокой – вот такой, по пояс, – траве. Никто про то место не знал, а у меня была там своя норка – как у зайца, – и оттуда я следил за тем, что происходит дома. Оттуда было прекрасно видно, как выбегала мама, искала, звала меня, плакала от жалости и страха, а мне было и больно, и нестерпимо сладко, но я не отозвался бы ни за что на свете. Я боялся, что она меня заметит, и все-таки махал ей рукой. Мне хотелось высунуться на минутку, показаться, но так, чтоб узнать меня она не могла.
– Она тебя часто искала, – всплыло в памяти Боуры.
– Да, а я хотел лишь проверить, будет ли она и дальше искать, сидел, затаив дыхание, и ждал, когда она появится. Она искала, звала; правда, плакать потом перестала. А как-то даже не вышла на порог. Я прождал ее до вечера; мне страшно было одному, совсем-совсем одному. Но она так и не появилась; после этого случая я уже не прятался на косогоре, я шлялся где придется, забредая все дальше и дальше.
– Прости, а в какие края занесло тебя теперь?
– В Африку. Я думал, никто меня не любит, потому скитался по белу свету. Мне хотелось испытать, не приключится ли чего со мной. Я очень любил эти ощущения. Но дома меня никто ни о чем не расспрашивал, и я уходил поболтать на куче щебня к дорожным мастерам. Старый Ганоусек обычно молчал, изредка только поругивался, зато дочки его тараторили… тихо, но без умолку.
– А что было с тобой потом? – почти робко спросил Боура.
– Да что… – Рыжий богатырь задумался. Боура тоскуя ждал. Не расскажет ли брат чего-нибудь о себе? Их разделяла такая длительная разлука, такие дальние расстояния, что словами трудно заполнить эту брешь. Долго, брат, придется нам сидеть, болтая о ерунде, о пустяках, обыденных и незначительных, обо всем, что взбредет в голову, понадобится пропасть житейских мелочей, не важных на первый взгляд, чтобы люди сблизились и поняли друг друга.
Старший брат курил и сплевывал, глядя на пол, и в Боуре проснулось давнее детское ощущение: вот он, большой брат, и он смеет делать все, что вздумается, у него свои тайны. Мне бы хотелось расспросить его обо всем, что он делает, но он всего не расскажет. Я с удовольствием рассказал бы ему о себе, но он ни о чем не спросит! Ах, мне ни за что его не постичь.
Сколько раз я видел, как ты возвращаешься откуда-то, и выражение лица у тебя было отсутствующее, таинственное и довольное, как у кошки, которая с жадностью и наслаждением слопала на чердаке воробья и направляется домой, грязная, преступная, а глаза у нее так и светятся! Как часто я обследовал те места, которые ты покинул, чтобы разгадать, что тебе открылось или что ты скрываешь там; перерыв все и вся, я, обманутый в своих ожиданиях, с досадой обнаруживал лишь затканную паутиной изнанку вещей. Вот и сегодня у тебя знакомое выражение лица; ты снова возвращаешься откуда-то тайно, как и прежде, словно кошка, которая насладилась добычей и уже предвкушает новое приключение.
– Ну, ладно, – неожиданно произнес большой брат с каким-то облегчением. – Я пошел. Очень, очень рад был вас повидать.
Боура в смущении поднялся.
– И я был рад. Да ты останься! Ведь мы столько лет не виделись!
Большой брат надел пальто.
– Правда, много лет. Жизнь слишком длинная.
Братья стояли в растерянности, не зная, как проститься: большой брат наклонил голову, будто искал чего-то, какое-то более емкое, задушевное слово; криво усмехаясь, с трудом пошевелил губами.
– Денег хочешь? – выдавил он наконец. – У меня хватает.
– Нет, нет, – отказался Боура, вдруг почувствовав себя счастливым и растроганным. – Нет, пожалуйста, не нужно, но все равно спасибо, ты очень добр. Поезжай с богом, поезжай с богом.
– Отчего же не нужно? – буркнул старший брат и, поколебавшись, добавил: – Мне они без надобности. Ну как хотите. Прощайте.
Он вышел, огромный и прямой, слегка склонив голову к плечу. Голечек проводил его взглядом до самой двери, рыжий брат еще раз махнул на прощание рукой и пропал из виду.
Боура не поднимал глаз.
– Он забыл трость, – воскликнул Голечек и бросился вслед уходящему; впрочем, он был даже рад на время оставить Боуру в одиночестве. На лестнице он еще услышал шаги.
– Послушайте, сударь…
В два прыжка Голечек очутился у дверей. Но улица, куда ни глянь, была пуста. На землю падал мокрый снег и тут же таял.
Пораженный Голечек еще раз оглянулся. Никого, только лестница, ведущая вниз.
От стены отделились две фигуры. Полицейские.
– Здесь никто не пробегал? – поспешно спросил Голечек.
– У вас украли что-нибудь?
– Нет. Куда он пошел?
– Вообще никто не появлялся, – сказал один из полицейских. – Пока мы тут, никто из кабака не выходил.
– Мы здесь уже минут десять, – добавил его напарник.
– Наверно, он еще внизу.
– Нет, – возразил потрясенный Голечек. – Он ушел чуть раньше меня. Он забыл внизу свою трость.
– Трость, – задумчиво повторил полицейский. – Нет, на улицу никто не выходил.
– Но не мог же он провалиться сквозь землю, – с неожиданной злостью крикнул Голечек.
– Провалиться не мог, – миролюбиво согласился полицейский.
– Спускайтесь, сударь, вниз, – посоветовал другой. – Метет.
«Они думают, что я пьян, – догадался Голечек, – а я ведь и не пил вовсе. Что же это такое опять, а?»
– Он обогнал меня всего на несколько шагов, – в отчаянии снова принялся объяснять Голечек, – не может все-таки человек взять да и провалиться? Но если бы он вышел, вы его заметили бы, правда?
Полицейский вынул из кармана записную книжку:
– Его фамилия, сударь?
– Ерунда, – возмутился Голечек, – что вы хотите затеять?
– Бог знает, не стряслось ли с ним чего? Может, несчастье, а может…
Губы Голечека искривились от страшного гнева.
– Если бы только это! – воскликнул он и, бухнув дверьми, сбежал вниз.
Боура все сидел за бокалом вина, пил от огорчения и, возможно, даже не успел заметить отсутствия Голечека.
– Ваш брат исчез, – бросил Голечек, не в силах унять дрожь и волнение.
Боура кивнул головой.
– Это на него похоже.
– Позвольте, – поразился Голечек, – но ведь он поднимался по лестнице и вдруг исчез; на улицу вообще не выходил, словно провалился сквозь землю.
– Именно так, да, да, – кивнул Боура, – словно сквозь землю. Он всегда был такой. Убегал – и никто не знал об этом, а потом возвращался, занятый своими мыслями, и лицо у него было странное, словно он видел нечто большее, чем дано видеть людям.
– Черт возьми, да поймите вы наконец: он не убежал, он исчез. Это ж абсурд! Провалился прямо на лестнице; двое полицейских стояли у дверей, а его не видели.
– Чудак, ей-богу чудак. Он с детства такой… никогда не поймешь, что у него на уме; нелюдим, переменчив, жестокий и замкнутый. Вы его не знаете.





