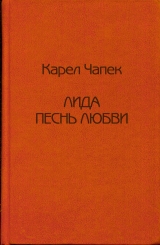
Текст книги "Лида. Песнь любви"
Автор книги: Карел Чапек
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Карел Чапек
ЛИДА
ПЕСНЬ ЛЮБВИ
Перевод Валентины Мартемьяновой
Лида
Голуб еще нежился в постели, когда к нему ворвался молодой Мартинец и бросил: «Пропала Лида!» Он был бледен и очень взволнован; с трудом выдавил из себя, что он и мать рассчитывают на дружеское участие Голуба и нуждаются в его совете. Лида ушла из дому вчера после обеда будто бы навестить кого-то и до сих пор не вернулась.
Голуб молчал; он был бы рад сказать что-либо утешительное, но не знал что. Перед его глазами всплыл образ Лиды, какой он видел ее в последний раз: девушка сидела на кушетке, сжавшаяся в комок, притихшая и трогательная; пристально глядя на собеседника, она тем не менее слушала его рассеянно; не удаляясь от общества, она словно старалась остаться в тени, не быть на глазах. Голубу Лида показалась странной и подавленной.
I
В последнее время Лида и впрямь вела себя странно. В голосе ее и жестах проскальзывала печаль, девушка была стеснена ею и не могла сделать ни одного движения непринужденно; потом, однако, как-то освободилась от этих пут и только говорила и смотрела откуда-то издали, словно из полной и безликой пустоты; но вскоре исчезло и это, остались лишь следы легкой рассеянности.
В тот день Лида с аппетитом ела, была оживлена и до мельчайших подробностей обсуждала фасон своего нового платья. Потом ей вздумалось навестить приятельниц. Ушла она в хорошем настроении и без каких-либо признаков беспокойства. Ничто не предвещало беды.
Только с вечера потянулись тревожные часы ожидания. Малейший скрип входных дверей – и перехватывало дыхание; чуть забрезжившая надежда, становясь явственнее, рождала в душе томительное волнение, по, продлившись несколько нестерпимо напряженных мгновений, рушилась: никто не появлялся. С еще большим беспокойством ждали очередного стука двери; при любом отдаленном глухом ударе мимолетное мгновение замирало, тянулось мучительно долго, терзало самое себя и вновь съеживалось, словно пружина. Наконец, в девятом часу, дом затих. Теперь надо всем распростерлось бездонное, безнадежное и безмерное время; ожидание сделалось непрестанной болью; не исчезая, боль распространялась вширь и вглубь одновременно. Лишь бой часов отдавался в мозгу, как пульсация крови в разбереженной ране.
Беспокойство прижало всех к стеклам окон. Внизу, на мокром дне улицы, несколько прохожих; любая женская фигура чем-то напоминает Лиду; все кажется, будто любой пешеход – спешит он или бредет медленно – несет весть от Лиды. Вот один остановился возле дома – и невыносимое, с замиранием сердца ожидание теснит грудь; но прохожий уже двинулся дальше – и снова ожиданье непомерной тяжестью опускается куда-то в глубь вашего существа. Внезапно на улице показались дрожки; их пронзительное дребезжание звучит взволнованным, прерывистым, поспешным объяснением; вы уже готовы лететь вниз по лестнице, но дрожки протарахтели, и стук их еще долго слышен откуда-то издали, словно у улицы нет конца. Прохожие редеют. И всякий раз удаляющиеся шаги уносят безмолвную печаль все дальше и дальше; уже только издали доносится звук шагов, словно слабое тиканье безнадежности. Улица пустынна; налево и направо расстилается необозримый путь одиночества. Ожидание обмерло. Слилось в бесформенный ужас.
Он воцарился тут с самого начала – сперва подвижный, текучий, то слабеющий, то усиливающийся. Мало-помалу ужас окаменел, сделался ощутимой тяжестью, неизъяснимым бременем, сжимающим грудь. Но это была обманчивая недвижность гигантского яйца, которое сосредоточенно готовится ожить. Оно вздувается, как нарыв; вместе с ним непрерывно растет тупое, гнетущее напряжение; оно кажется безучастным, но вдруг сосредоточивается где-то в глубине души, в одной точке пронзительной боли. И вся тоска сливается в едином предчувствии, что с Лидой случилось непоправимое. Дикий ужас взрыл ночь людей, не находивших себе места. Взметнувшаяся со дна души смутная тревога прорвалась наружу и обернулась ощущением ужаса; предчувствие, словно призрак, обрело почти явственное существование. «Мне привиделось, – записал позже Мартинец, – будто желтые входные двери окроплены кровью; я знал: за ними в подъезде лежит мертвая Лида, потому что я это видел доподлинно; облик двери, устрашающий, бесчувственный, по-людски зловещий, переполнял меня ужасом и мукой. (После той памятной ночи я стал замечать, что у любой двери есть свое, особое обличье.) Я не смог отогнать это наваждение, несмотря на отчаянные усилия. Но вдруг видение желтой двери потухло и передо мной явились бегущие люди, „скорая помощь“ и нескончаемая череда замерших трамваев – беспощадный, беспредельно разрастающийся миг уличной катастрофы. В голове роились и другие образы, столь же навязчивые, словно внушенные извне, и реальные; до сих пор я не в состоянии понять, откуда взялось столько голой, чуждой и внешней реальности в образах, рожденных одной лишь тревогой».
Тревога все глубже врастала в явь. В истерической поспешности одевалась мать, готовая стучаться ко всем знакомым, бежать на поиски, хоть куда-нибудь… Сын удержал ее; если беда стряслась у друзей – они давно сообщили бы об этом; сам он побежал в полицию. Лестница внизу зияла, словно черный колодезь; с каждой следующей ступенькой отчаяние становилось все безнадежней; с каждым шагом случившееся все неумолимее представлялось ему грубым, осуществившимся фактом. Мертвенно-пустынные проходы улиц были пропитаны сырой мглой, происшествие облекалось плотью, овеществлялось и разрасталось, словно в него проникало все больше и больше необработанного и тяжелого вещества. Коридоры полицейского управления и днем выглядят уныло; теперь же их холодная, пустынная печаль сделалась естественной частью призрака беды, и желтая, крайне неприветливая приемная уместилась в этой картине непреложным и мучительным фактом; несчастье обрело какое-то чуждое звучание в безучастном голосе чиновника, проговорившего: «Никаких сведений не поступало; имя и фамилия вашей сестры?»
Мартинец уходил с тяжелым сердцем; дело принимало все более страшный и неприятный оборот; по сонному городу – к полицейским отделениям, к приемному покою «Скорой помощи» катят дрожки, от госпиталя к госпиталю, – всюду ожидание, пустынность, тягостная тишина, в конце концов – шаги по коридору и недовольный, заспанный голос: «Девушки – мертвой или раненой – в этот день нигде не зарегистрировали», – однако все фактическое и внешнее, удручающее и отчужденное, с чем он столкнулся сегодня на своем изнурительном пути, сомкнулось с призраками несчастья в один общий безмерный и непостижимый мир горя и беды.
Мартинец медленно брел домой; но уже в дверях его встретил вопрошающий взгляд матери, и он понял, что рухнула их последняя надежда. С быстротою молнии в голове пронеслось: с самого начала они всё делали лишь с одной целью – скрыть друг от друга страшную муку предчувствия, что Лида сделалась жертвой преступления. Как будто вдруг обнажилась отвратительная рана – холодный, ясный страх, отчетливый и жуткий. Оба вдруг осознали то, что втайне предчувствовали: над Лидой совершено насилие, она похищена, грубо изнасилована и теперь лежит где-то, беспомощная, обесчещенная или мертвая; это была кульминация кризиса, которая не могла Длиться долго, и все же ощущение ее не исчезало до самого конца; хотя страх давно отпустил их, миг этот продолжал отбрасывать свою тень, словно вечное memento ([1]1
напоминание (лат. ).
[Закрыть]) боли.
В час кризиса пани Мартинцова упала на колени и читала молитвы, горячо и поспешно:
«Господи Иисусе, луч света извечного, смилуйся над нами! Господи всевышний на небесах, смилуйся над нами! Господи всеблагий, помилуй нас! Господи Иисусе, всевидящий отец наш, смилуйся над нами! Господи Иисусе, ангел небесный, смилуйся! Иисусе, тихий и покорный сердцем, смилуйся! Господи Иисусе, творец мира и покоя, смилуйся над нами! Ради таинства святого твоего преображения, освободи нас, господи! Ради смертной твоей тоски и мук твоих, господи, освободи нас!»
Монотонно и механически падали слова молитв, словно капли воды или уходящие мгновенья; этот призыв повторялся непрестанно, до умопомрачения, как бы измеряя глубину горя. Это был вопль страдания, который, многократно повторяясь, вливается в беспредельное и странно нудное однообразие застоявшейся печали. С каждым новым обращением к господу, с каждым повтором печаль водворялась все полнее, неся тишину и оцепенение. Вскрик за вскриком – и вокруг становится все более одиноко и пусто; все измерения времени растут, как растет глубина от ритмического вращения бура. Все окружающее будто испарилось и улетучилось; куда-то отступила, отодвинулась мучительная близость предметов; и. словно по безграничному пустому простору, сквозь оцепеневшее сознание несется монотонное: «Господи Иисусе, смилуйся над нами».
Каждое слово молитвы исполнено таинства и уносится в бесконечность; не сетует и не обвиняет, не впитывает человеческое горе и не рассказывает о нем, но уносится в бесконечность и уносит с собой людское страдание. Чем же ты сделалась, боль, окруженная этим горизонтом без конца и края? Что еще осталось от тебя, сущее мгновение, во все стороны распахивающееся в вечность? О, скорбное сердце, есть ли в мире что-нибудь большее, чем милосердие и избавленье?
«Всемилостивый боже, очи твои провидят мою печаль и по вздохам моим читают мою тоску, ты, кто так часто бывал милостив ко мне, взываю к тебе ныне из глубин души своей. Услышь голос мой и приди на зов мой, ибо судьба моя в твоих руках».
Мало-помалу, почти неощутимо, пустота заполняется. Как будто из молитвы хлынуло что-то изобильное и бесформенное. Каждое слово раскрывается до беспредельной глубины; нечто изменчивое, неизъяснимое раздвигает человеческое восприятие за пределы очевидного – до нереального и неопределенного. В перерывах между молитвами близость вещей снова обрушивается на душу, и оттого с удвоенной силой и повышенной настоятельностью звучат потом молитвенные вскрики. Вещи, вновь омертвев, расступаются; из неисчерпаемого богатства весомых слов образуется странная атмосфера, которая обволакивает вещи, хороня их в своей глубине. Это – мучительные и страшные вещи, они напоминают о Лиде и о ее несчастье. И все это недвижно, омертвело, погружено в беспредельную глубину; это – лишь тела, помещенные в прозрачный стеклянный шар, в недвижно-тихую атмосферу, которая держит их в плену, в глубинах безмолвия и покорности.
После томительного часа молитв пани Мартинцова поднялась, словно очнувшись. Все переменилось вокруг; прах и пепел, из которых слагается реальность, тихо сгустились в новый порядок; все, вплоть до последней мертвой вещи, надело новую маску – терпеливое выражение покоя: «Будь что будет».
Меж тем молодой Мартинец до самого рассвета метался из угла в угол. Чем дольше размышлял он над происшествием с Лидой, тем таинственнее оно ему представлялось. Его мучили уже не догадки, а вопросы. Мерзкое преступление, жертвой которого стала Лида, вовсе не мираж; это проблема, разрастающаяся с каждым новым вопросом и ответом. Ибо в абсолютном мраке случившегося не исключено самое страшное.
Боже, что предпринять? Довериться полиции? Но полиция начнет допрашивать, и прежде всего – Лидиных знакомых; ее злополучное несчастье разнесут по всему свету и осудят, а если Лида вернется, ее уже успеют пригвоздить к позорному столбу; постыдное клеймо останется на ней навсегда. Лучше уж все скрыть – да, но тем временем прибегут Лидины подружки, будут расспрашивать, что с ней; если больна – они захотят ее навестить. Если болезнь опасная – явятся тетки и ни за что на свете не отрекутся от своего права бодрствовать, как всегда, У изголовья своей любимицы. Притворяться, будто она уехала, тоже нельзя, так как Лида не пришлет никому даже самой скромной открытки и привета. Они поймут, что от них нечто утаивается, учуют атмосферу лжи и недомолвок.
Скорее всего, Лида вернется; но привычный доброжелательный мир, в котором она жила прежде, окажется разрушенным; капля по капле жестокость будет просачиваться в ее жизнь, тысячи разнообразных вещей коснутся раны, с которой она придет в дом, ибо девичья жизнь соткана из тончайшей и нежнейшей пряжи и легко ранима.
Боже, что предпринять? Да-да, найти ее, живой или мертвой; живую – защитить от позора и муки; мертвую – оградить от неуместного вмешательства газет, жаждущих сенсаций; любой ценой защитить Лиду!
День занимался серый и холодный; сегодня Лида должна быть найдена, но Мартинец, надев шляпу, все еще колеблется и не уходит из дому…
Где Лида? Что же, собственно, с ней приключилось и где ее искать? У него уже сложился определенный план и четкая гипотеза; но сейчас все как-то отпало само собой… Впопыхах вырисовывается новая альтернатива действий; таинственное исчезновение Лиды выглядит уже по-иному, обрастает новыми мучительными подробностями; одна за другой в мозгу рождаются все новые идеи и внезапные догадки. Мартинец неутомимо перебирает все «за» и «против» – одно за другим; с лихорадочной поспешностью набрасывается на каждую новую возможность, развивает, а затем отвергает ее. Господи, что предпринять?!
Терпеливо, словно убогий наук, мозг ткет все новые и новые альтернативы. Медленно, мучительно, словно из маленьких камешков, воздвигается очередная гипотеза. Трепетно, боязливо тянется тоненькая нить еще одной возможности. Все чаще останавливается мысль, и приходится страшно напрягаться, чтобы сдвинуться с места; одно и то же слово, как бы произнесенное вполголоса, возвращается многократно, и нет на всем белом свете слова, которое можно было бы поставить рядом с ним.
Молодой Мартинец стоит нахмурившись и силится поймать какой-то ускользающий образ. Ничего, кроме непомерной усталости. Все догадки рассыпались в прах. Предположения отпадали, словно отмершие чешуйки; все подсказанное разумом отделилось от него и отпало, все очевидное и мыслимое было отброшено, как пустая скорлупа; и где-то на дне души осталось лишь взбудораженное, беспомощное, нагое ядрышко слепой воли. Это был уже только страстный, безрассудный порыв к борьбе за Лиду, без оговорок и колебаний; это было бесповоротное решение, это был окончательный выбор.
– Пойду искать Лиду, – сказал он матери.
– Иди, – прошептала она, – да направит господь бог стопы твои.
II
Тогда-то, в полной растерянности, Мартинец и обратился к Голубу за советом. Он пытался рассказать все, что ему было известно, но не находил причин, которые хоть как-нибудь проясняли бы тайну Лидиного исчезновения. Голуб вертел и комбинировал факты и так и сяк, пока не уверился, что из них ровно ничего не следует. Каждый предполагаемый шаг неизбежно заводил в тупик неизвестности. Оставалась лишь острая необходимость и очевидная невозможность действовать. Голуб колебался; воображению то и дело представлялась съежившаяся фигурка…
– По-моему, – начал он, – Лида сбежала; вам неприятно это слышать, но это – единственное, что я могу предположить. Право, я с радостью выдвинул бы более приемлемую версию. Я не настолько глубоко знаю Лиду, чтобы точно определить, какие поступки соответствовали бы ее натуре. Вы – ее брат; наверное, вы знаете сестру лучше и можете с полной уверенностью сказать: нет, сбежать она не могла, на это она не способна.
– Этого я утверждать не могу, – сокрушенно признался Мартинец, – я вообще не понимаю, что можно, а что – нет; ручаюсь только – поводов для побега у нее не было.
– Речь идет не о поводах: поводы девушка всегда находит только в себе самой. Любая Лида способна нас поразить, совершив то, чего от нее никто не ожидал. Их побуждения нам неведомы. В душу не влезешь. Поводы, дружище, в расчет принимать не приходится; поводов может быть великое множество. Но вот поступков – куда меньше, и потому логика их проще. Мы можем выдвинуть бесконечное количество мотивов, сообразно которым вела себя Лида, а вот число поступков, которые она могла совершить сама либо предпринять по чьему-то наущению, ограничено. Собственно, поступок кладет предел любой неопределенности. Поступки уже не столь субъективны, как их мотивы; в них есть единообразие, повторяемость и закономерность, которые не зависят от мотивов и вообще не подчиняются нашим желаниям или побуждениям. Поступки фатальны.
Раскольникова толкнули на преступление необычайные мотивы; его план был обдуман до последних мелочей и совершенно оригинален; однако исполнение оказалось вполне заурядным – обыкновенное убийство с целью ограбления, каких до него и после совершались сотни. И самое поразительное, что произошло оно как-то случайно.
Скажем, мотивы любого самоубийства сугубо индивидуальны. И все же каждое такое самоубийство обыкновенно повторяет другие: служанки, как правило, прибегают к яду, а не к бельевой веревке; это – не обязательно, но это – обычно. Совершая свои поступки, мы бессознательно принимаем за образец наиболее часто встречающиеся решения; вероятно, и сама действительность движется в том же направлении. И чем событие обыкновенное, тем чаще оно повторяется. Временами оказывает свое действие закон серийности, не из-за какой-либо внутренней причинной связи, но скорее всего случайно, бессознательно, по привычке… Словом, сие от нас не зависит. Чистейшее стечение обстоятельств. А значит, мы имеем право предполагать, что и в Лидином случае «обычность» играет определенную роль.
– Лидин случай совсем особый, – возразил Мартинец.
– Ну хорошо, допустим, что он совершенно необычен, – согласился Голуб, – однако наблюдается парадокс необычных случаев: они повторяются. Повторяются несчастья, самоубийства, преступления и рекорды. Игроки в рулетку прямо-таки вынуждены считаться с парадоксальностью случаев, с повторяемостью редких явлений. Словом, даже самые необычайные поступки подпадают под правило фатального однообразия и повторяемости. И Лидино несчастье тоже имеет аналогии в недавнем прошлом.
Вы хотите разыскать Лиду, хотите разгадать тайну, ключи от которой вам не даны. Все ваши предположения могут соответствовать истине; ведь чем меньше мы знаем, тем многообразнее вероятность. Значит, остается одно: отыскать среди всех мыслимых возможностей – самую правдоподобную и реальную; а это и есть заурядная возможность, более или менее обыкновенная, будничная и повседневная.
Все обычное – правдоподобно не потому, что оно основательнее мотивировано, а потому, что чаще случается. Говоря о правдоподобии, необходимо принимать в расчет обычность происшествий, непроизвольную повторяемость поступков; нужно считаться с тем, что даже при абсолютно непостижимых, сугубо индивидуальных мотивах результаты получаются однообразные, фатально безличные, а следовательно, вполне предсказуемые; и задача состоит не в том, чтобы обнаружить факт, а в том, чтобы угадать волю рока, который действует слепо и по шаблону.
Для нас необъясним факт Лидиного исчезновения, и мы силимся представить хотя бы его правдоподобное развитие; но – заметьте! – тем самым мы искушаем судьбу. То-то и то-то мы считаем правдоподобным; будем надеяться, что рок и впрямь подчинил себе Лидины поступки и, хотя она этого не сознавала, управлял ею.
Я, так же как и вы, полагаю, что здесь играют роль обстоятельства, которые затрагивают честь Лиды-женщины. Это в высшей степени правдоподобно, поскольку Лида – прелестна. Вопрос только в том, насилие ли это? Разумеется, для вас этот вопрос решается однозначно… Но совершить насилие вовсе не так легко, как вам кажется. Так просто, ни с того ни с сего, на Лиду не нападешь. Обратите внимание: лишь только вы захотите представить, как это могло произойти, – вы теряетесь. Затащить и изнасиловать взрослую девушку здесь, в городе, можно лишь при исключительно благоприятном стечении обстоятельств; а исключительные обстоятельства – это плод фантазии, но никак не реальность.
К сожалению, я не могу убедить вас более основательными доводами; их у меня нет. Но если исключено самоубийство и несчастье, значит, речь может идти либо о насилии, либо о бегстве. Насилия совершаются чаще всего при совершенно других отношениях, в другой среде, среди крестьян. Я вообще не припомню ни одного случая, чтобы нечто подобное случалось в наших с вами обстоятельствах; и, напротив, помню десятки и сотни побегов из дому. Следовательно, Лидин случай в значительно большей мере похож на побег, чем на изнасилование, поскольку побег – дело более обыкновенное.
– По-вашему, Лида – обыкновенная девушка? – тихо спросил Мартинец.
– Нет, но тем хуже для нее. Обычно влюбленные, решаясь на побег, преодолевают какое-то препятствие. Поскольку Лиде ничего не возбранялось, значит, ей мешало нечто неразрешимое, нравственное, что она преодолевала в себе самой. Вероятно, тут замешан некто, кого никто из вас не знает. Очевидно, препятствие заключалось в нем. Вы вольны воображать какие угодно романтические истории, но обыкновенно все выглядит довольно прозаично. Истинная любовь обладает слишком высокой способностью переносить страдания, чтобы опуститься до подобного решения. В большинстве случаев девушка становится жертвой, она запутывается в сетях страсти; в подобных случаях обычно все происходит так, словно решающим был самый низменный мотив. Вы молоды, и если вы разыщете этого человека, то, очевидно, сочтете своим долгом, долгом чести… короче, вы не должны вести себя с ним как с равным, – добавил Голуб с внезапным участием.
Молодой Мартинец поднялся.
– Вы кончили?
– Не совсем. Есть в этой истории одно весьма красноречивое обстоятельство: Лида ушла из дому совершенно спокойно и перед уходом с аппетитом поела. Аппетит, по-видимому, единственное, что не может быть поддельным. Значит, она даже понятия не имела, что не вернется. Вероятнее всего, она шла на заурядное свидание с этим незнакомцем; но что приключилось с ней потом, в каком положении она оказалась – этого мы не можем сказать: считайте это ослеплением – но все равно это только слово для обозначения мотивов, совершенно нам неизвестных. Что-то произошло с ней внезапно; и если бы она еще заглянула домой, то, думаю, уже не нашла бы в себе сил покинуть вас. Вообще все это страшно загадочно. По-моему, вы разыщете сестру, Мартинец, но не расспрашивайте, не вынуждайте к признаниям, не унижайте ее.
– Где же мне ее искать? – нетерпеливо перебил Мартинец.
– Где-нибудь за городом. Существуют десятки тысяч мест, где она может очутиться. На выбор цели могли оказать влияние самые разные обстоятельства; но о них нам ничего не известно. Если бы Лида действовала рассудительно, исходя из каких-то, нам неведомых обстоятельств, любые наши догадки ни к чему бы не привели; но если она принимала решение вслепую, в состоянии аффекта, случайно, – попробовать можно. И это – парадокс случая. Если бы кто-то, играя в рулетку, ставил по какому-то неизвестному нам плану, мы не могли бы предугадать его действии, но если он играет необдуманно, как бог на душу положит, мы с большей или меньшей уверенностью можем сказать, на какие цифры он машинально поставит: на количество прожитых лет, на счастливое для него число, на круглую дату и т. д. Точно так же в лотерее и в любой азартной игре; и у Лиды – мы можем угадать, где она скрывается, если только она действовала слепо и необдуманно, словно в горячке.
Люди не стали бы участвовать в лотерее, если бы определенные числа не имели для них своего особого, необычного значения. Убежище, избранное Лидой в состоянии аффекта, должно иметь для нее какой-то особый смысл. У любого человека обнаруживается пристрастие к тем или иным местам – потому ли, что там он бывал в молодости, или оттого, что именно там он еще не бывал, а может – просто из-за того, что нравится их название. Это не важно, такие места всегда для нас предпочтительнее, чем остальной мир. Наверное, вы уже припоминаете, о каких местах Лида любила говорить. Или, быть может, она рассказывала, будто во сне ей хотелось уехать куда-то. Может, какое-то название просто застряло у нее в памяти. Лида охотно делится своими фантазиями – попробуйте припомнить… главным образом случайно оброненные слова. Вот видите, вам уже и пришло что-то в голову.
Мартинец молчал, покрывшись потом от слабости.
– Итак, мы можем предположить, что Лида с кем-то бежала, – монотонно продолжал Голуб, – скорее всего, это был человек, встречи с которым по каким-то соображениям считались предосудительными. Судя по всему, Лида сделала это, поддавшись внезапному порыву, запутавшись, поспешно, и тут есть для нас какая-то зацепка, – по-видимому, укрыться она решила в том месте, которое прежде чем-то привлекало ее. Это – самое естественное и самое правдоподобное предположение; но это только предположение, поскольку мы не принимаем в расчет тысячи неизвестных нам фактов; мы не можем сказать, что произошло на самом деле, речь идет лишь о том, что могло произойти вероятнее всего. Полагаю, я не сказал ничего необычного, ведь чем обычнее обстоятельства, тем больше шансов, что все произошло именно так, как мы думаем. Всем этим я не могу убедить ни вас, ни себя. Но даже если я угадаю реальные обстоятельства дела – пережитое Лидой все равно останется непостижимым.
Молчание Мартинца ставило Голуба в затруднительное положение. «Я строил на песке, – думал он, – на песке множества случаев. Но боже мой, неужто Лида – в самом деле энный случай среди многих других? Разве она не единственная и не самая прекрасная? Не чудо жизни? Но если я прав, то имеют ли значение „нераскрытые мотивы“ ее поведения, ее муки и метания? Ей принадлежат лишь мотивы поступков и расплата; „события“ же развиваются независимо от ее воли – так, словно бы все это служило для них лишь поводом свершиться ».
Голуб был поражен. «Все, что я говорил, было чудовищно и бессердечно; я совершенно пренебрег тем, что Лида – женщина и человек. Мне бы только подвести свой сомнительный баланс. Я унизил ее ради своих расчетов».
Ужасная тоска охватила Голуба. «Отчего, – думал он, – именно „обыденность“ моих предположений так угнетает меня? Бог мой, вся наша жизнь есть не более как „обыденность“, только мы этого не замечаем и лишь потому можем существовать и совершать поступки. И вдруг, нежданно-негаданно, эта самая обыденность пугает и поражает нас. Когда мы ее осознаем, она представляется чудовищной; неожиданно мы сталкиваемся с чем-то безличным даже в своих собственных поступках; вдруг обнаруживается, что наша воля – лишь мираж и предчувствие событий, которые от нас не зависят. В каждом нашем поступке остается нечто случайное; однако случайность – это открытый путь, по которому в нашу жизнь вторгается рок. Рок – не железная необходимость, а железная случайность. Даже самое будничное, самое обыкновенное – всего лишь следствие жестокой, неумолимой случайности».
Мартинец пожал плечами.
– Не знаю, что предпринять. Я не могу решиться. Не могу пересилить ужас.
– Вот и я не могу избавиться от страха, – тихо признался Голуб.
– Буду искать, – решил Мартинец, – но иначе. По-моему, здесь необходимо идти путем более глубоких, внутренних решений. Не знаю, может быть, правда окажется в конце концов на вашей стороне, но к Лиде это не относится… Пожалуй, я все-таки туда съезжу. А пока двинусь вслепую, куда глаза глядят, может, увижу след на мостовой и различу оттиск ее каблучков среди тысяч других… Буду надеяться на счастливый случай. Может, произойдет нечто необычное, непредставимое, и это мне поможет. Очевидно, вы правы, но вам не понять, что это значит – разыскивать любимого человека.
Мартинец колебался; ждал, что Голуб посоветует еще что-нибудь; он жаждал этого, чтобы убедиться до конца; но Голуб молчал.
– Ну так скажите же, – выкрикнул Мартинец, – если вы убеждены… если…
– Я убежден меньше вашего, – ответил Голуб.
Мартинец ушел, поблагодарив; обещал зайти после полудня, но не появился; а к вечеру от него принесли записку.
«Ваши догадки подтверждаются, – писал Мартинец, – и, собственно, чисто случайно. Я бесцельно метался по городу; и впрямь разглядывал землю под ногами, не пропустил ни одного закоулка – я понимал, что это безумие, но ничего не мог с собой поделать. Под конец я встретил одного знакомого, и тот – невзначай, сам по себе (заметьте, что и тут есть нечто особенное), – рассказал, что вчера во второй половине дня встретил Лиду и проводил ее к подъезду дома, где ее ждала на примерку портниха. Но я-то знал, что Лида шла не к портнихе, потому что была у нее утром. Она явно хотела избавиться от своего провожатого, чтобы встретиться с кем-то другим. В самом деле она что-то скрывала от нас… Должен сообщить Вам одну очень странную деталь: я вдруг обнаружил, что довольно долго стою на улице возле вокзала; я понятия не имел, что мне здесь нужно, и потому принялся изучать расписание поездов. Станция, название которой вертелось у меня в голове во время нашего разговора, была подчеркнута ногтем, таким же способом была выделена и другая остановка, о которой я прежде не думал, но которую Лида определенно упоминала. Создавалось впечатление, словно Лида была тут и выбирала поезд. У меня нет уверенности, но совпадение столь необычно, что я туда поеду. Да, еще, – если я ее разыщу, что будет причиной: Ваша максимально правдоподобная версия или мой счастливый случай? Мама заметила бы, что это перст божий. Не знаю. Еду».
Весь следующий день Голуб провел в чрезвычайном напряжении. К вечеру пришла телеграмма, и он надорвал ее чуть ли не в лихорадке.
В телеграмме сообщалось: «Напрасно побывал обоих местах Мартинец».
В этот миг Голуб ощутил невыразимое, глубокое облегчение. Он улыбался, бегал но комнате, словно на его долю выпал нечаянный выигрыш. «Значит, это не так, – твердил он самому себе, – значит, это не так! Лида так не поступила!» Его охватила бесконечная нежность и сочувствие к девушке; с губ готовы были сорваться тысячи полуосмысленных слов, которые он мог высказать ей либо просто кому-нибудь…
В тот вечер Голуб ощутил неодолимую потребность быть на людях, среди уличной толпы, в кафе. Ему хотелось растянуть день как можно дольше – на всю ночь и даже до следующего вечера – и не отпускать его от себя ни за что на свете. Побег Лиды теперь представлялся ему в высшей степени поэтическим; Голуб был в каком-то экстазе, веселился от души и сам не сознавал, что просидел в одиночестве и тишине целую ночь. Он чувствовал, что мгновения эти чересчур значительны, чтобы пропустить их; его переполняло нечто огромное, и он боялся раздробить это состояние работой мысли. «Я освобожден, – ликовал он, – боже, сделай так, чтобы искупление было даровано мне надолго! Да не настанет миг пробужденья! Да продлится мой сон! Может быть, Лида сейчас спит, – умиленно думал он, – затерявшись в мире, как белочка в лесу; а я знаю о ее шагах не больше, чем о ее грезах. Но это прекрасно, что она грезит; что живет непостижимой и такой отдельной от меня жизнью, и если заблуждается, то по-своему, а если блуждает, то никому неведомо где. Где бы она ни была, хорошо уже то, что ее нет на месте, отмеченном судьбой, она недоступна, привлекательна и стоит на перекрестке неисповедимых путей; такой я вижу ее теперь. Господи, я ошибался; несчастье, преступление либо рок… Каждый, кто хочет попасть в цель – метит в черное, в черное-пречерное; однако самое черное обмануло меня; то самое черное, ночи черней, чего я больше всего боялся, – не случилось».








