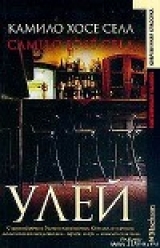
Текст книги "Улей"
Автор книги: Камило Хосе Села
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава третья
После обеда дон Пабло направляется в тихое кафе на улице Сан-Бернардо сыграть, как обычно, партию в шахматы с доном Франсиско Роблес-и-Лопес Патоном, а попозже, часов в пять, полшестого идет за доньей Пурой, чтобы вместе совершить прогулку и затем стать на якорь в кафе доньи Росы – там они пьют по чашечке шоколада, который дону Пабло всегда кажется водянистым.
За одним из соседних столиков, у окна, играют в домино четверо: дон Роке, дон Эмилио Родригес Ронда, дон Тесифонте Овехеро и сеньор Рамон.
У дона Франсиско Роблес-и-Лопес Патона, врача-венеролога, есть дочь Ампаро, она замужем за доном Эмилио Родригесом Рондой, тоже врачом. Дон Роке – это муж доньи Виси, сестры доньи Росы; по мнению свояченицы, дон Роке Моисее Васкес – негодяй, каких мало. Дон Тесифонте Овехеро-и-Солана, ветеринар в чине капитана, добродушный провинциал, немного застенчивый, носит кольцо с изумрудом. Наконец, сеньор Рамон – булочник, хозяин довольно большой пекарни неподалеку от кафе.
Все шестеро друзей собираются здесь каждый вечер, это люди спокойные, серьезные, есть, конечно, у каждого какая-нибудь слабость, но ведут они себя чинно, никогда не спорят, только переговариваются, сидя за своими столиками, чаще всего насчет игры, а порой и о других делах.
Дон Франсиско потерял слона.
– Плохи мои дела!
– Еще бы! Я бы на вашем месте сдался.
– Ну нет, подожду.
Дон Франсиско глядит на зятя, который играет в паре с ветеринаром.
– Слушай, Эмилио, как там девочка? Девочка – это Ампаро.
– Хорошо. Уже поправилась. Завтра подыму ее с постели.
– Вот как, очень рад. Сегодня вечерком к вам зайдет мать.
– Очень приятно. А вы придете?
– Не знаю, может быть, и я смогу.
Тещу дона Эмилио зовут донья Соледад, донья Соледад Кастро де Роблес.
Сеньор Рамон выставил дубль пять, который у него чуть было не засох. Дон Тесифонте отпускает обычную свою шуточку:
– Кому везет в игре…
– И наоборот, капитан. Вы меня поняли?
Дон Тесифонте корчит недовольную мину, друзья смеются. В действительности дону Тесифонте не везет ни с женщинами, ни с костяшками. Весь день он сидит в четырех стенах, выходит только сыграть в домино.
У дона Пабло выигрышная позиция, он рассеян, почти не смотрит на доску.
– Слышишь, Роке, вчера твоя свояченица здорово ругалась.
Дон Роке досадливо машет рукой – его-де ничем уже не удивишь.
– Она всегда ругается, с руганью, наверно, и родилась. Ох и хитрая бестия эта моя свояченица! Если бы не девочки, я бы уж давно показал ей, где раки зимуют! Но что поделаешь, терпение и выдержка! Такие толстухи, да еще до рюмочки охотницы, не заживаются.
Дон Роке полагает, что ему надо лишь сидеть и ждать – со временем кафе «Утеха» с целой кучей всяких вещей в придачу перейдет к его дочкам. Если рассудить, дон Роке поступает неглупо – ради такого наследства, несомненно, стоит потерпеть, подождать хоть бы и пятьдесят лет. Париж стоит мессы.
Донья Матильда и донья Асунсьон каждый вечер встречаются – не поесть, Боже упаси! – в молочной на улице Фуэнкарраль, хозяйка которой, донья Рамона Брагадо, крашеная, но очень еще бойкая старуха, их приятельница. Во времена генерала Примо она была актрисой и сумела с грандиозным скандалом добиться доли в десять тысяч дуро в завещании маркиза де Каса Пенья Сураны – того самого, что был сенатором и дважды занимал пост заместителя министра финансов, – он по меньшей мере лет двадцать был ее любовником. У доньи Рамоны хватило здравого смысла не растратить эти деньги попусту, а приобрести молочную, которая давала приличный доход и имела надежную клиентуру. Но и кроме того донья Рамона не зевала, бралась за любые поручения и умела добывать деньги из воздуха; лучше всего удавались ей дела любовные – под прикрытием своей молочной она с успехом исполняла роль сводни и посредницы, нашептывая заманчивые, ловко состряпанные небылицы какой-нибудь девчонке, мечтавшей купить сумочку, а затем запуская руку в денежную шкатулку какого-нибудь ленивого барчука из тех, что не любят утруждать себя и ждут, пока им все поднесут на блюдечке. Особы вроде доньи Рамоны – пластырь на любую болячку.
В этот вечер общество в молочной от души веселилось.
– Принесите нам булочек, донья Рамона, я плачу.
– Вот как! В лотерею выиграли?
– Ах, донья Рамона, всякие бывают лотереи! Я получила письмо от Пакиты из Бильбао. Поглядите, что она пишет.
– А ну-ка, прочтите!
– Прочтите сами, у меня зрение совсем никуда становится. Вот, читайте здесь, внизу.
Донья Рамона надела очки и прочла:
– «Жена моего друга заболела злокачественным малокровием». Черт возьми, донья Асунсьон, значит, дело может пойти на лад?
– Читайте, читайте.
– «И он говорит, что нам уже не надо предохраняться, а если я буду в положении, он на мне женится». Послушайте, да вы прямо-таки счастливая женщина!
– Да, благодарение Богу, с этой дочкой мне повезло.
– А ее друг – преподаватель?
– Да, дон Хосе-Мария де Самас, преподает психологию, логику и этику.
– Ну что ж, дорогая, поздравляю вас! Отлично пристроили дочку!
– А что, недурно!
У доньи Матильды тоже была приятная новость – не столь определенно приятная, какой могла стать новость, сообщенная Пакитой, но все же, бесспорно, приятная. Ее сыну, Флорентино де Маре Ноструму, удалось заключить очень выгодный контракт в Барселоне на выступления в «Паралело», в блестящем спектакле-ревю под названием «Национальные мелодии», и, так как спектакль этот проникнут патриотическим духом, можно было надеяться, что власти окажут ему поддержку.
– Я ужасно довольна, что он будет работать в большом городе – деревня наша такая некультурная, актеров иногда даже камнями забрасывают. Как будто они и не люди! Однажды в Хадраке дошло до того, что пришлось вмешаться полиции; не подоспей она вовремя, эти безжалостные дикари убили бы моего бедняжку до смерти – для них нет лучшего развлечения, чем драться да говорить гадости артистам. Ох, ангелочек мой, какого страху он там натерпелся!
Донья Рамона соглашается.
– Да-да, в таком большом городе, как Барселона, ему, конечно же, будет лучше – там больше будут ценить его искусство и уважать его.
– О да! Когда он мне пишет, что отправляется в турне по деревням, у меня просто сердце переворачивается. Бедненький мой Флорентино, он такой чувствительный, а ему приходится выступать перед такой отсталой и, как он выражается, полной предрассудков публикой! Это ужасно!
– Да, конечно. Но теперь-то все пойдет хорошо…
– Дай Боже, чтобы и дальше так было!
Лаурита и Пабло обычно пьют кофе в шикарном баре неподалеку от Гран-Виа – таком шикарном, что как поглядишь на него с улицы, так, пожалуй, не сразу решишься войти. Чтобы пройти к столикам – их всего с полдюжины, не больше, и на каждом скатерть и цветочница, – надо пересечь полупустой холл, где два-три франта потягивают коньяк да несколько пустоголовых мальчишек проигрывают в кости взятые дома деньги.
– Привет, Пабло, ты уже и разговаривать ни с кем не хочешь! Ну понятно, влюбился…
– Привет, Мари Тере. А где Альфонсо?
– Дома сидит, со своими, он в последнее время очень переменился.
Лаурита надула губки; когда они сели на диванчик, она не взяла Пабло за руки, как обычно. Пабло ощутил некоторое облегчение.
– Слушай, кто эта девушка?
– Приятельница моя.
С видом грустным и чуть лукавым Лаурита спросила:
– Такая приятельница, как я теперь?
– Нет, что ты!
– Но ты же сказал «приятельница»!
– Ладно, знакомая.
– Вот-вот, знакомая… Слушай, Пабло…
Глаза Лауриты вдруг наполнились слезами.
– Чего тебе?
– Я ужасно расстроилась.
– Из-за чего?
– Из-за этой женщины.
– Знаешь что, крошка, замолчи и не мели глупостей!
Лаурита вздохнула.
– Ну конечно, и ты же еще меня ругаешь.
– И не думал ругать. Слушай, не действуй мне на нервы.
– Вот видишь?
– Что видишь?
– Да то, что ты меня ругаешь. Пабло переменил тактику.
– Нет, крошка, я не ругаю тебя, просто мне неприятны эти сцены ревности – ну что поделаешь! Всегда одно и то же, всю жизнь.
– Со всеми твоими девушками?
– Ну, не со всеми одинаково – одни больше ревновали, другие меньше…
– А я?
– Ты намного больше, чем все остальные.
– Ну ясно! Просто ты меня не любишь! Ревнуют только тогда, когда любят, очень сильно любят, вот как я тебя.
Пабло взглянул на Лауриту с таким выражением, с каким смотрят на редкостное насекомое. Лаурита вдруг заговорила нежным тоном:
– Послушай, Паблито.
– Не называй меня Паблито. Чего тебе?
– Ах, золотце, какой ты колючий!
– Пусть так, но не повторяй вечно одно и то же, придумай что-нибудь другое, мне это уже столько людей говорило.
Лаурита улыбнулась.
– А я не огорчаюсь, что ты колючий. Ты мне нравишься таким, какой ты есть. Только я ужасно ревную! Слушай, Пабло, если ты когда-нибудь разлюбишь меня, ты мне об этом скажешь?
– Скажу.
– Да кто вам поверит? Все вы обманщики!
Пока они пили кофе, Пабло Алонсо понял, что ему с Лауритой скучно. Очень миловидна, привлекательна, нежна, даже верна, но ужасно однообразна.
В кафе доньи Росы, как и во всех прочих, публика, что приходит по вечерам, совсем не такая, как та, что собирается после полудня. Конечно, все они постоянные посетители, все сидят на одних и тех же диванах, пьют из тех же чашек, принимают ту же соду, платят теми же песетами, выслушивают те же грубости хозяйки, однако, Бог весть почему, у людей, являющихся сюда в три часа дня, ничего нет общего с теми, кто приходит после половины восьмого; вероятно, единственное, что могло бы их объединить, – это гнездящаяся в глубине их сердец уверенность, что именно они-то и составляют старую гвардию кафе. Дневные посетители смотрят на вечерних, а вечерние в свою очередь на дневных как на втируш, которых с грехом пополам можно терпеть, но о которых и думать не стоит. Еще чего не хватало! Две эти группы – взять ли отдельных входящих в них индивидуумов или рассматривать их как некие организмы – несовместимы, и если кто-то из дневных посетителей случайно задержится и вовремя не уйдет, то приходящие под вечер глядят на него недобрым взором, ровно таким же недобрым, каким дневные посетители смотрят на вечерних, явившихся раньше своего часа. В хорошо организованном кафе, в таком кафе, которое было бы неким подобием Платоновой Республики, следовало бы установить пятнадцатиминутный перерыв, чтобы приходящие и уходящие не могли столкнуться даже у вращающейся входной двери.
В кафе доньи Росы после полудня остается один-единственный знакомый нам человек, кроме хозяйки и прислуги. Это сеньорита Эльвира, но она здесь уже стала чем-то вроде мебели.
– Ну как, Эльвирита, спали хорошо?
– Да, донья Роса. А вы?
– Как всегда, милая, как всегда, только и всего. Всю ночь бегала в клозет – видно, съела за ужином что-то, что мне повредило, и желудок вконец расстроился.
– Скажите пожалуйста! А теперь вам лучше?
– Да, как будто получше, только слабость ужасная.
– Ничего удивительного, понос очень ослабляет.
– И не говорите! Я уже твердо решила: если к завтрашнему дню не станет лучше, вызову врача. Я так не могу работать, все из рук валится, а дело такое, вы же знаете, что если сама за всем не присмотришь…
– Ну ясно.
Падилья, продавец сигарет, старается убедить покупателя, что табак в самодельных сигаретах, которые он продает, не из окурков.
– Сами посудите, табак из окурков сразу отличишь – сколько его ни промывай, у него привкус остается особый. Кроме того, от табака из окурков разит уксусом на сто лиг, а этот можете поднести к самому носу и ничего такого не учуете. Я, конечно, не стану вам клясться, что это табак высшего сорта, я своих клиентов не хочу обманывать; это, конечно, табак попроще, но хорошо просеянный, без мусора. А как набиты гильзы – сами видите, работа не машинная, все вручную сделано, можете пощупать, если хотите.
Альфонсито, мальчик на побегушках, выслушивает распоряжение посетителя, чей автомобиль ждет у входа.
– Ну-ка, посмотрим, хорошо ли ты понял, главное – не болтать лишнего. Поднимешься на второй этаж, позвонишь и подождешь. Если дверь тебе откроет вот эта сеньорита – посмотри хорошенько на фото, она высокого роста, блондинка, – ты ей скажешь: «Наполеон Бонапарт», запомни эти слова, и если она ответит: «Был разбит при Ватерлоо», ты отдашь ей письмо. Все понятно?
– Да, сеньор.
– Прекрасно. Запиши-ка эти слова про Наполеона и то, что она тебе должна ответить, – выучишь по дороге. Потом она, когда прочтет письмо, скажет тебе время – шесть часов, семь или какое-нибудь другое; ты его хорошенько запомни и бегом сюда, чтобы передать мне. Понял?
– Да, сеньор.
– Ну ладно. Теперь ступай. Если хорошо все исполнишь, дам тебе дуро.
– Да, сеньор. Только послушайте, а если мне откроет дверь кто-нибудь другой, не эта сеньорита?
– Ах, и в самом деле! Если тебе откроет дверь кто-нибудь другой, это не беда – скажешь, что ошибся, спросишь: «Сеньор Перес здесь живет?» – и когда тебе ответят: «Нет», – уйдешь, и дело с концом. Все ясно?
– Да, сеньор.
Консорсио Лопесу, шефу, позвонила по телефону не кто иная, как Марухита Ранеро, бывшая его возлюбленная, мать двух близнецов.
– Что ты тут делаешь, в Мадриде?
– А мы приехали с мужем, его должны оперировать.
Лопес немного смутился; вообще-то его нелегко вывести из равновесия, но этот звонок, по правде сказать, застал его врасплох.
– А малыши?
– О, они уже совсем взрослые. В этом году в школу пойдут.
– Как бежит время!
– Еще бы.
У Марухиты чуть задрожал голос.
– Слушай.
– Что?
– Ты не хочешь повидаться со мной?
– Но…
– Ну ясно. Ты думаешь, что я совсем уже развалина.
– Брось, дурочка, просто сейчас я…
– Да не сейчас. Вечером, когда ты освободишься. Мои муж в санатории, а я остановилась в пансионе.
– В каком?
– В «Кольяденсе», на улице Магдалины.
У Лопеса в висках застучало, будто стреляли из ружей.
– Слушай, а как я туда пройду?
– Очень просто, через дверь. Я для тебя уже сняла комнату, номер три.
– Слушай, а как я тебя найду?
– Ах, не глупи. Я сама приду к тебе.
Повесив трубку и поворачиваясь к стойке, Лопес задел локтем стеллаж с ликерами – все бутылки полетели на пол: куэнтро, калисай, бенедиктин, кюрасао, кофейный крем и пепперминт. Вот шум-то поднялся!
Петрита, служанка Фило, пришла в бар Селестино Ортиса за сифоном – у Хавьерина вздулся животик. Бедный малыш, его часто мучают колики, и помогает ему только газированная вода.
– Слушай, Петрита, ты знаешь, братец твоей хозяйки что-то очень загордился.
– Не сердитесь на него, сеньор Селестино, он, бедняга, прямо каиновы муки терпит. Он, наверно, вам задолжал?
– Ну ясно. Двадцать две песеты.
Петрита направилась в заднюю комнату.
– Я сама возьму сифон, вы только свет включите.
– Ты же знаешь, где выключатель.
– Нет, включите вы, а то, бывает, током ударит.
Когда Селестино Ортис вошел включить свет, Петрита прямо сказала:
– Послушайте, я стою двадцать две песеты?
Селестино Ортис не понял вопроса.
– Что?
– Стою я двадцать две песеты?
У Селестино Ортиса кровь прилила к голове.
– Ты стоишь целого царства!
– А двадцать две песеты?
Селестино Ортис схватил девушку.
– Получайте за все кофе сеньорито Мартина.
В задней комнатке бара Селестино Ортиса будто ангел пролетел, вздымая ветер крылами.
– А почему ты на это идешь ради сеньорито Мартина?
– Потому что мне так хочется, и потому что я его люблю больше всех на свете; и об этом я говорю каждому, кто это хочет знать, и первому – моему парню.
Щеки у Петриты разрумянились, грудь трепетала, голос чуть охрип, волосы разметались, глаза сверкали – она была хороша какой-то дикой, звериной красотой, как одержимая страстью львица.
– А он тебя любит?
– Я ему не позволяю.
В пять часов общество, собирающееся в кафе на улице Сан-Бернардо, расходится, и примерно к половине шестого, а то и раньше, каждый кулик уже сидит в своем болоте. Дон Пабло и дон Роке – у себя дома, дон Франсиско и его зять – в своих кабинетах, дон Тесифонте – за книгами, а сеньор Рамон приглядывает, как опускают металлические шторы его булочной, его золотых россыпей.
В кафе за столиком, стоящим чуть в стороне, остаются два человека, оба молча курят; одного из них зовут Вентура Агуадо, он изучает нотариальное дело.
– Дай-ка мне сигарету.
– Возьми, пожалуйста.
Мартин Марко закуривает.
– Зовут ее Пурита, прелесть, а не женщина, ласковая, как ребенок, изящная, как принцесса. Ох, и подлая жизнь!
Пура Бартоломе в это время сидит с богатым аферистом в ресторанчике на улице Кучильерос. Мартин вспоминает ее слова при последнем прощании.
– До свидания, Мартин! Ты же знаешь, по вечерам я в пансионе, можешь всегда позвонить мне. Но сегодня не звони, сегодня у меня встреча с одним другом.
– Что ж, ладно.
– До свидания, поцелуй меня.
– Прямо здесь?
– Ох, дурачок, люди подумают, что мы муж и жена.
Мартин Марко затянулся с истинно величественным видом. Потом глубоко вздохнул.
– В общем… Слушай, Вентура, одолжи мне два дуро, я сегодня не обедал.
– Чудак человек, разве можно так жить?
– Сам понимаю!
– И что же, никакой работы не находится?
– Почти никакой, были две статейки по заказу, двести песет, девять процентов вычетов.
– Ловок, нечего сказать! Ладно, бери, пока у меня у самого есть! Нынче мой папаша раскошелился. Бери пять, два – это все равно что ничего.
– Большое спасибо. Ты позволишь заплатить за тебя твоими деньгами?
Мартин Марко подзывает официанта.
– Сколько за два кофе?
– Три песеты.
– Получите, пожалуйста.
Официант засовывает руку в карман и дает сдачу – двадцать две песеты.
Мартин Марко и Вентура Агуадо – друзья, друзья давние, настоящие, когда-то, до войны, вместе учились на юридическом факультете.
– Пошли?
– Как хочешь. Здесь нам больше нечего делать.
– Эх, по правде сказать, мне и в любом другом месте нечего делать. Ты куда идешь?
– Сам не знаю, пойду прогуляюсь, чтобы убить время.
Мартин Марко улыбнулся.
– Подожди-ка, я проглочу щепотку соды. При расстроенном пищеварении нет лучшего средства.
Хулиан Суарес Соброн, он же Заднюшка, пятидесяти трех лет, место рождения Вехадео, провинция Овиедо, и Хосе Хименес Фигерас, он же Сучок, пятидесяти шести лет, место рождения Пуэрто де Санта Мария, провинция Кадис, сидят в подвале Главного управления общественного порядка, дожидаются, пока их поведут в тюрьму.
– Ай, Пепе, хорошо бы сейчас выпить чашечку кофе!
– Да, и тройную порцию коньячку. Попроси, может, тебе дадут.
Сеньор Суарес нервничает больше, чем Пепе Сучок; этот Хименес Фигерас, сразу видно, более привычен к таким передрягам.
– Слушай, а почему нас здесь держат?
– Почем я знаю? Ты, я надеюсь, не обольстил какую-нибудь добродетельную девицу и не бросил ее с деточкой?
– Ах, Пепе, какое у тебя хладнокровие!
– Просто я знаю, малыш, что тут ничем не поможешь.
– Да, конечно, это верно. Больше всего меня огорчает, что я не мог предупредить мамочку.
– Ты опять?
– Нет-нет, не буду.
Обоих друзей задержали накануне вечером в баре на улице Вентуры де ла Веги. Полицейские, идя за ними следом, вошли в бар, огляделись и – хлоп! – пулей кинулись прямо к ним. Вот собаки, опытные, видно!
– Следуйте за нами!
– Ай! Почему вы меня хватаете? Я честный человек, я никого не трогаю, у меня все документы в порядке.
– Очень хорошо. Все это вы объясните, когда вас спросят. Выкиньте этот цветок.
– Ай! Почему? Мне вовсе незачем следовать за вами, я ничего плохого не делаю.
– Пожалуйста, не скандальте. Взгляните сюда. Сеньор Суарес взглянул. Из кармана у полицейского торчали серебристые браслеты наручников.
Пепе Сучок поднялся.
– Пойдем с этими господами, Хулиан, там все выяснится.
– Пойдем, конечно, но только какие манеры!
В управлении на них не пришлось заполнять карточки, они уже там значились. Записали только дату задержания да два-три слова, которых им не удалось прочесть.
– Почему нас арестовали?
– Вы не знаете?
– Нет, ничего не знаю. Откуда мне знать?
– Погодите, узнаете.
– Скажите, я не могу известить, что меня арестовали?
– Завтра, завтра известите.
– У меня, видите ли, мамочка старушка, она, бедная, будет очень беспокоиться.
– Ваша мать?
– Да, ей уже семьдесят шесть лет.
– Ничего не могу сделать. И сказать вам тоже ничего не могу. Завтра все выяснится.
В камере, куда их привели, огромном квадратном помещении с низким потолком, при скудном свете пятнадцатисвечовой лампочки в проволочной сетке сперва ничего нельзя было разглядеть. Немного погодя, когда глаза стали привыкать, сеньор Суарес и Пепе Сучок начали постепенно узнавать знакомые лица – злосчастных педерастов, карманников, алкоголиков, профессиональных шулеров, всяких людишек, которые привычны к каверзам судьбы и всегда ходят с потупленной головой.
– Ай, Пепе, хорошо бы сейчас выпить чашечку кофе!
Пахло в камере очень противно – прогорклый, резкий запах, от которого свербило в носу.
– О, сегодня ты рано. Где был?
_Как всегда, выпил чашечку кофе с друзьями.
Донья Виси целует мужа в плешь.
– Если б ты знал, как я рада, когда ты приходишь пораньше!
– Скажи пожалуйста! Старый что малый.
Донья Виси улыбается, бедная донья Виси всегда улыбается.
– Знаешь, кто придет сегодня вечером?
– Еще бы, какая-нибудь сплетница.
Донья Виси никогда не обижается.
– Нет, моя приятельница Монсеррат.
– Великое счастье!
– Она очень добрая женщина!
– Она сообщила тебе еще о каком-нибудь чуде этого обманщика из Бильбао?
– Замолчи, что за еретические слова! И почему тебе так нравится говорить гадости – ведь ты думаешь иначе.
– Да уж нравится.
Дон Роке с каждым днем все больше проникается убеждением, что его жена глупа.
– Ты посидишь с нами?
– Нет.
– Ох упрямец!
Раздается звонок у двери, и в квартиру входит приятельница доньи Виси, как раз в ту минуту, когда попугай на третьем этаже изрыгает ругательства.
– Слушай, Роке, это просто невыносимо. Если их попугай не научится вести себя прилично, я донесу в полицию.
– Ну что ты болтаешь! Ты представляешь себе, какая потеха будет в комиссариате, когда ты явишься туда с доносом на попугая?
Прислуга ведет донью Монсеррат в гостиную.
– Я сейчас скажу хозяйке, присаживайтесь.
Донья Виси помчалась приветствовать подругу, а дон Роке, немного поглядев из-за занавесок на улицу, сел у жаровни и вытащил колоду карт.
– Если трефовый валет выйдет раньше, чем пятерка, – хороший знак. Если туз – это ни к чему, я уже не мальчишка.
У дона Роке свои приемы гадания на картах. Трефовый валет вышел третьим.
– Бедняжка Лола, она меня ждет! Сочувствую, малышка!
Лола – сестра Хосефы Лопес, бывшей прислуги семейства Роблес, с которой у дона Роке кое-чего было, но теперь она растолстела, постарела, и ее вытеснила младшая сестра. Лола помогает по хозяйству донье Матильде, той самой пенсионерке, у которой сын мечтает стать великим артистом.
Донья Виси и донья Монсеррат стрекочут взахлеб. Донья Виси счастлива – на последней странице двухнедельного журнала «Херувим-миссионер» напечатано ее имя и имена троих ее дочерей.
– Сейчас увидите собственными глазами, что я не выдумываю, это истинная правда! Роке! Роке!
С другого конца квартиры дон Роке откликается:
– Чего тебе?
– Дай девочке журнал, где про китайцев напечатано!
– Что?
Донья Виси объясняет приятельнице:
– Ах, Боже мой, эти мужчины как будто глухие.
Она кричит мужу еще громче:
– Я говорю, дай девочке… Ты слышишь?
– Слышу!
– Так вот, дай девочке журнал, где напечатано про китайцев!
– Какой журнал?
– Где про китайцев, ну, про тех китайцев, которых крестили!
– Что? Не понимаю. Про каких китайцев?
Донья Виси улыбается донье Монсеррат.
– Муж мой такой добряк, но его ничто не интересует. Сейчас я сама схожу за журналом, одну минуточку. Вы уж извините.
Войдя в комнату, где дон Роке сидит у ночного столика и раскладывает пасьянс, она спрашивает:
– Ну, что это такое? Ты разве не слышал, что я сказала?
Дон Роке не поднимает глаз от карт.
– Довольно глупо с твоей стороны думать, что я встану с места из-за каких-то китайцев!
Донья Виси порылась в корзинке с шитьем, нашла нужный номер «Херувима-миссионера» и, тихонько ворча, вернулась в гостиную, где так холодно, что едва можно усидеть.
Швейная корзинка осталась открытой, и оттуда между мотками штопки и коробкой с пуговицами – коробкой из-под леденцов от кашля, купленных в год эпидемии гриппа, – робко выглядывал уголок другого номера журнала доньи Виси.
Дон Роке откинулся на спинку стула и взял журнал.
– Вот он где.
«Он» – это священник из Бильбао, совершающий чудеса. Дон Роке принялся читать журнал.
«Росарио Кесада (Хаэн), за исцеление ее сестры от затяжного колита, 5 песет.
Рамон Эрмида (Луго), за разные успехи, ниспосланные ему в коммерческих делах, 10 песет.
Мария Луиса дель Валье (Мадрид), за исцеление от небольшой опухоли на глазу, происшедшее без помощи окулиста, 5 песет.
Гуадалупе Гутьеррес (Сьюдад-Реаль), за исцеление ребенка в возрасте одного года семи месяцев от ранения вследствие падения с балкона второго этажа, 25 песет.
Мартина Лопес Ортега (Мадрид), за успешное приручение домашнего животного, 5 песет.
Благочестивая вдова (Бильбао), за отыскание пакета с деньгами, утерянного служащим ее магазина, 25 песет».
Дон Роке озадачен…
– Ну, уж этому я не поверю, это не серьезно.
Донья Виси чувствует себя в какой-то мере обязанной извиниться перед приятельницей.
– Вам не холодно, Монсеррат? В этом доме временами прямо-таки мерзнешь!
– О нет, что вы, Виситасьон, здесь очень приятно. Очень милая у вас квартира, вполне комфортабельная, как говорят англичане.
– Ах, Монсеррат, вы всегда душка!
Донья Виси улыбнулась и начала искать свое имя в списке. Донья Монсеррат, высокая, мужеподобная, костлявая, неуклюжая усатая дама, слегка косноязычная и близорукая, надела пенсне.
Действительно, как уверяла донья Виси, на последней странице «Херувима-миссионера» значилось ее имя и имена трех ее дочек.
«Донья Виситасьон Леклерк де Моисес, на крещение двух китайских младенцев именами Игнасио и Франсиско-Хавьер – 10 песет. Сеньорита Хулита Моисее Леклерк, на крещение китайского младенца именем Вентура – 5 песет. Сеньорита Виситасьон Моисее Леклерк, на крещение китайского младенца именем Мануэль – 5 песет. Сеньорита Эсперанса Моисее Леклерк, на крещение китайского младенца именем Агустин – 5 песет».
– Ну, что вы скажете?
Донья Монсеррат любезно кивает.
– Очень похвально, ну просто очень-очень похвально. А сколько еще предстоит сделать! Страшно становится, как вспомнишь, сколько еще миллионов язычников надо обратить. Эти языческие страны, наверно, кишат людьми, как муравейник муравьями.
– Воображаю! А какие миленькие эти малютки китайчата! Если бы мы жадничали и не хотели кое-чем пожертвовать, все они отправились бы прямехонько в лимб [19][19]
По учению католической церкви, область преисподней, где обретаются в ожидании пришествия Мессии души праведников, живших до Христа, и младенцев, умерших некрещеными.
[Закрыть]. И несмотря на наши скромные старания, там, в лимбе, вероятно, полным-полно китайцев, не правда ли?
– О да, да.
– Дрожь берет при одной мысли! И над всеми китайцами тяготеет проклятие! Толкутся все они там взаперти, не знают, бедненькие, что делать…
– Это ужасно!
– А младенчики-то, которые еще и ходить не умеют, они тоже, как червяки какие-нибудь, будут вечно копошиться на одном месте?
– Поистине так.
– Возблагодарим же Господа за то, что мы родились испанками. Родись мы в Китае, наши деточки, скорее всего, угодили бы на веки вечные в лимб. Стоит ради этого растить детей! Сколько мук примешь, пока их родишь, да потом еще натерпишься!
Донья Виси с нежностью вздыхает.
– Бедные девочки, они и не подозревают, что им угрожало! Слава Богу, что они родились в Испании, а если бы им привелось родиться в Китае… Ведь такое тоже могло случиться, не правда ли?
Все соседи покойной доньи Маргот собрались в квартире дона Ибрагима. Нет только Леонсио Маэстре, которого по распоряжению судьи арестовали; еще нет жильца из цокольного, секция Г, дона Антонио Хареньо, проводника, работающего в спальных вагонах и находящегося в поездке; нет и жильца с третьего, секция Б, дона Игнасио Гальдакано – он, бедняга, сумасшедший, – да сына покойницы, дона Хулиана Суареса, который неизвестно куда запропастился. Все остальные в полном составе, все очень взволнованы происшедшим и с готовностью явились по приглашению дона Ибрагима, чтобы обменяться мнениями.
В не слишком просторной квартире дона Ибрагима все приглашенные едва умещались – большинству пришлось стоять у стен и в промежутках между мебелью, как это бывает на заупокойных бдениях.
– Дамы и господа, – начал дон Ибрагим, – я разрешил себе созвать вас сюда, так как в нашем доме произошло событие, выходящее за рамки нормального.
– Хвала Господу! – прервала его донья Тереса Корралес, пенсионерка с пятого этажа, секция Б.
– Да услышит Он нас! – торжественно ответил дон Ибрагим.
– Аминь! – вполголоса заключили несколько человек.
– Когда вчера вечером, – продолжал дон Ибрагим де Остоласа, – наш сосед, дон Леонсио Маэстре, которому все мы желаем, чтобы его невиновность вскоре воссияла ярким, ослепительным светом, подобно лучам солнца…
– Мы не должны осложнять деятельность правосудия! – воскликнул дон Антонио Перес Паленсуэла, служащий в правлении профсоюза, жилец со второго, секция Б. – Мы должны воздерживаться от каких бы то ни было преждевременных суждений! Я в этом доме ответственный съемщик, и моей обязанностью является не допускать даже малейшего давления на судебные власти!
– Помолчите, не перебивайте, – сказал дон Камило Перес, мозольный оператор, жилец с первого, секция Д. – Дайте говорить дону Ибрагиму.
– Пожалуйста, продолжайте, дон Ибрагим, я не намерен мешать вашему выступлению, я только требую уважения к нашим почтенным судебным органам и содействия их работе на благо порядка…
– Тс-с… Тс-с… Дайте ему говорить!
Дон Антонио Паленсуэла умолк.
– Как я уже сказал, когда вчера вечером дон Леонсио Маэстре сообщил мне печальную весть о преступлении, жертвой коего стала донья Маргот Соброн де Суарес – царство ей небесное! – я поспешил попросить нашего доброго и близкого друга, доктора Мануэля Хоркеру, здесь присутствующего, дать точное и подробное заключение о состоянии нашей покойной соседки. Доктор Хоркера откликнулся на мою просьбу с готовностью, которая служит веским свидетельством его высокого понятия о профессиональном долге, и мы вместе вошли в жилище пострадавшей.
Тут дон Ибрагим прибегнул к изысканнейшему приему своего ораторского искусства:
– Разрешу себе смелость предложить всем вынести благодарность нашему достославному доктору Хоркере, который вместе со столь же славным доктором доном Рафаэлем Масасаной, что в данную минуту из скромности укрылся за портьерой, является гордостью всех нас, жильцов этого дома.
– Отлично сказано, – заметили в один голос дон Эксуперио Эстремера, священник с пятого, секция В, и дон Лоренсо Согейро, владелец бара «Эль Фонсаградино» в цокольном.
Одобрительные взгляды присутствующих обратились от первого врача ко второму; это напоминало бой быков, когда один матадор, отличившийся и вызываемый публикой на арену, выводит с собой другого, которому не так повезло и не удалось отличиться.








