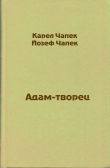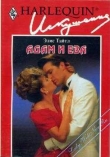Текст книги "Адам и Ева"
Автор книги: Камиль Лемонье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
VIII.
Это было порой высших наслаждений лета. Цапля еще не пролетала. Вся земля цвела золотом и солнцем, как румяные отблески вертящейся мельницы. Наступил тяжкий и томительный полдень, когда даже у ручья мы не могли обрести прохладу. Жажда неведомой любви мучила нас.
– Скажи, милый, нет больше ничего, что я должна еще узнать. Я больна оттого, что не нахожу покоя от какой то тягостной, тягостной тайны, которую не могу выразить.
Она бросилась на траву, как раненый зверек, и не промолвила еще мне слова любви.
Вокруг нас природа тоже болела от сумрачного палящего зноя Cириуса и Солнца. Гроза неистовствовала. Груды мрамора и металлов катились по склонам гор. Грохот плугов взрывал слои базальта. Обезумевшие быки метались в хлевах. И молния рассекала тучу огромными ослепительными трещинами. Объятый сладким ужасом грома и треска, стоял обессиленный и опаленный лес. Но вот, заструился обильный дождь, влажный жар вещества. Земля встрепенулась и с жадной жаждой впивала могучую, животворную жизнь.
Однажды мы узрели чудо. Словно лестница хрустального и самоцветного дворца простерлась над лесом радуга.
Всю ее дугу мы не видели, но своими сапфирными и изумрудными уступами она опиралась на кровлю нашего жилища и развертывала свой свод. Другим своим концом она соединялась с неведомой точкой земли. Я видел в этом счастливый знак. И думал:
«Наша жизнь гармонически очерчена этой дугой, простирающейся от дома к лесу».
Мы пошли вместе набирать опенок, кислых вишен и шелковицы. Они надушили наши руки. Вместе с тучными травами и похищенными из гнезд яйцами, они составляли легкую пищу наших трапез.
Мы были в невинном возрасте любви. Мы жили, словно в пору невинности мира. И кровавые блюда не извращали божественного вкуса поцелуев. Влажное и волшебное сияние разливалось по лицу леса. Струился шелест золотистого дождя у края опушки. Листва дрожала широким, павлиньим трепетом. Мглистое утро заплетало в наши волосы серебристые шелковые нити. Мы внимали песням птиц и любовались на воздушную игру белок. Рыжие гости лужаек, проворный кролики боязливый, осторожный заяц не убегали уже при звуке наших шагов. Наивная и возвышенная идиллия сливала нас снежным и хрупким существованием дочерей румяных зорь и мирных ночей. Как в сказках, два сильвана, лесных человека, обитали в зеленой тайге.
Однажды, я нарезал ветвей бузины и, вынув из них сердцевину, связал их вместе наподобие свирели.
Так и древний пастух уходил к реке, нарезал тростнику, чтобы вести музыкой своё стадо. Я углубился в сердце леса, осененный надеждой, и ничего не сказал Еве. Я не знал, как дудеть на этом звучном инструменте. Сначала я неловко подносил его к губам, надувая щеки. Он не издал ни одного звука. Потом прикоснулся к нему губами с легким дуновеньем дыхания, и вот слабо зазвучала тонкая нотка, резкая и грустная, как крик раненого птенчика. Нет, нет, это еще не мелодия, это еще не искусство! Я водил губами от ветки к ветке, пробуя другие звуки, извлекая их из глубины моей груди сначала очень слабо, потом все с большим жаром.
О, летний ветер, ветер твой наивный, терпеливый музыкант и твой соревнователь! И я настойчиво старался извлечь из этих скриплых, как зеленый плод, дудок чистый звук. То было мне досадно, то я чувствовал себя счастливым. Шумели ветви деревьев, ворковал ручей, а я никак не мог заставить мою флейту издавать отчетливые звуки, кроме грубого и резкого свиста. Вдруг золотистый дрозд просвистал свои четыре радостные и сочные ноты. О, как я был ничтожен рядом с тобою, прекрасная, чудесная птица! Я слушал, как падали звуки, подобные жемчужинам, в пустую, металлическую чашу. Я не смел пригубить моих дудок. Дрозд отлетел еще немного дальше и снова запел. Я побежал за ними умолял:
– Дрозд, милый золотистый дрозд, не улетай, прошу тебя!
Но он перелетал с дерева на дерево, а я бежал все дальше, внимая ему и следуя за ним с моими полыми ветвями.
– О, дрозд, насмешливый дрозд!
Из леса раздался взрыв смеха. Если бы я только мог похитить у тебя одну из нот, другие сами бы возникли. Я снова дунул в мою свирель, подбирая тон. Птица свистала, и тот час же за нею начинал я. Под конец золотистый дрозд упорхнул совсем. Но, я все ещё слышал в себе его песню. Я упрямо добивался звуков в течение целых часов, и, наконец, ноты пришли. Я вернулся к жилищу в восторге и гордый.
И промолвил Еве:
– Послушай мою песню.
И с дудками у губ я был, как герой, ставший пастушком. Но – увы, – я арию опять забыл. Я пронзительно свистал на этом грубом инструменте.
– О, это вскрики грустной синицы зимой.
– Нет, Ева, уверяю тебя, это дрозд, который там, в лесу.
А она засмеялась, как птичка.
Целыми днями я упражнялся в игре. Мы вместе уходили в лес, и звуки теперь лились, ясные и легкие. Передо мной Ева танцевала. Гибко колебались ее бедра. Медленно угасал краткий и прозрачный день. Вечер стелился над полосами розовых фиалок, когда мы подходили к дому.
– Не затворяй двери, моя милая, пусть войдет к нам прекрасная звездная ночь. Она присядет у окошка и серебряным шелком месяца соткет счастливые грезы над нашим сном.
IX.
Это было однажды утром возле ручья, на том берегу, где когда-то я провел с моим обнаженным сердцем столько мучительных дней. Я стоял там, поджидая Еву, склонившись над течением воды. Замер шелест ветвей. Я понял, что шла она немою поступью, чтобы меня застать врасплох. Я не поднял головы, губы мои овевались струйкой серебряной пены.
«О, – думал я, – вот ее лицо отразится сейчас в воде и, испив глоток этой воды, я почувствую, что выпил жизнь с ее уст».
Как дитя, готовился я к этой сладостной игре. Она подошла потихоньку, а я стоял неподвижно в ожидании, когда ее лицо отразится рядом с моим в ручье. Но вдруг поток воды, казалось, заиграл всеми красками зари, и Ева в подвижном зеркале струй стояла нагая, как юная супруга Эдема. О, чудо! Утро мира! Ева скинула свою одежду и предстала передо мной со своим румяным телом, смеясь мне в отражении воды, как будто выходила, полная свежести, из рук природы. Я касался устьем рта ее озаренного блеском тела. Она слилась вдали с потоком, словно снопы разбросанных роз и азалий. О, Ева, – ты ли это, или ты лишь воздушный и лучезарный призрак. Я – осиротевший Адам, я – смиренный и грустный человек с пустыми, бессильными над рекой руками.
А ты – ты выходишь из земли, выступаешь из облака, подобно метеору. Я видел, как ты явилась из недр жизни.
Ева наклонилась, и губы ее сложились в поцелуй и целовали мои в подвижном отражении воды.
Это дитя, по истине, посвятило мне праздник своего тела. Она создала такой чистый символ, что мир для меня только теперь начинал нарождаться. Ее нагота одевала ее нужной туникой, и она не была грехом, но невинностью и красотой. Она пришла ко мне, как дочь земли и утра, как цветок человечества, выросший из одинокого желания, она пришла со своим ясным и влажным смехом и с руками, обвивавшими, наподобие гирлянд, ее голову. Она казалась мне первобытным существом до грехопадения, как и я сам, скинув одежды, вернулся к правде природы. Не было ли то в ее бесхитростном уме прекраснейшим и целомудренным деяньем, согласным с волей Божества. Но если – бы мы с ней отправились венчаться в деревушку или в город, мы поступили бы как все другие мужчины и женщины: мы не могли бы уже глядеть на наше тело без стыда. Наше падение разрушило бы священную красоту нашей жизни.
Я обнимал ее. И, объятый к ней любовью под отчим небом, я чувствовал, – словно земля содрогается в высшем восторге, как будто обе они, – и земля и она – были одною моей супругой.
X.
В вешние часы лета эта нужная женщина вошла в лес и ныне жила в нем со мною жизнью детства. Эта жизнь была также естественна, как дождливая или солнечная погода, как пчелка, как из маленького семечка рождается цветок, а из него – другие цветы бесконечной чередою. Но, если человек оглядывается назад за минувшие дни и высчитывает длину времени, которое предшествовало этому мгновенью жизни, у него возникают странные мысли. Сочетанье планет в глубине обширных небес не более удивительно, чем встреча тела и души с другой душой и телом, и это-то и есть одна из тайн мира.
О, красота, моя милая Ева! Ты уже раньше пребывала крошечной клеточкой жизни в утробе первой матери и была предназначена мне. Племя твое ступало через ночи и дни по бесконечным путям земли, и ты, еще не родившись, уже жила для меня. Ты была всеми девами и всеми матерями моего поколения до последней, которая тоже была девой и потом родила тебя. Ты ожидала по ту сторону ночи, когда разверзнется священная утроба девы и матери для рождения меня, и это рождение принадлежало к иному племени, никогда не знавшему твоего. И ныне ты была рядом со мною в чаще леса. Ты была милой Евой, любимой женщиной Бытия всех веков. И, быть может, новые поколения выйдут из нас и осенят новым чудом другие браки сквозь течение времени. Вся жизнь, до тебя и после нас, заключается в эфемерном и извечном существе, в котором выявятся твой лик и мой. Но я пошел тебе навстречу под сиянием таких древних звезд, что, быть может, те, что светят ныне, только их разлетевшаяся звездная пыль.
Я не устаю твердить себе об этом с восторгом оцепененья. И надо было только, чтобы пришла ты на заре, покинув деревушку, так же, как я оставил город! Мы оба спали вчера, не ведая завтра, и ты пришла в тот миг, когда я подошел к границе леса. Боже мой, может ли это быть? И какой человек, думая так, не преклонил бы колен со смиренным и изумленным сердцем ребенка перед бесконечной и неведомой благодатью и не простер бы своих дрожащих рук, касавшихся твоего тела, словно самого божества.
Но в яростную пору нашей любви мы были слишком заполнены безумием, чтобы вполне понять красоту этой великой тайны. Жгучий сон вина бродит в винограднях и становится чистым и прозрачным лишь когда отстоится. Мы обшаривали алыми ногами вспененный чан, где бродила гордость и жизнь. Мы были, как молодые животные, выпущенные из стойла на волю. Мы были волками в лесу и нежными ягнятами, игравшими на лужайке. Хмель утра кружился паром у наших висков: быть может, так и первобытное человечество, опьяненное чарами первых апрелей мира, пылало геройской любовью и расточало свое семя. Ева без отдыха вонзала топор в твердое дерево моей силы. Жизнь текла по глубоким сладостным ранам. Я не щадил дорогого мне страдания и умирания и нового рожденья в поцелуях.
Созрели плоды ароньева дерева и яблоки. Боярышник, кизил, горькие ягоды шиповника покрывали красным цветом лесные полянки. И орехи белыми кистями свисали с ветвей. Всякий плод земли есть чудесный дар. Лес при помощи дождя и солнца чудесно вызывает ароматы для утоления голода пчелы и человека. Но пчела знает лучше человека, какую сладкую целительную пищу, какие золотые пряности таят в себе сердцевина и клей растений. Мы брали с собой эти благоуханные дары. Они пропитывали ароматом наши яства. Из них мы сохраняли часть про запас на зиму.
Однажды я отправился с ружьем в чащу вереска и убил дикого петуха. Самка взвилась с криком, словно разорвавшим воздух. Я принес убитую дичь Еве и почти каждый день после того уходил с собакой убивать невинных животных в лесу. И, однако, я был тем же человеком, который незапятнанными еще руками клялся щадить живых созданий. Но дикая гордость возникла из смиренной жизни, как румяный плод вырастает из зеленой почки.
Ева промолвила мне со своим розовым смехом: – Если ты мне хочешь нравиться, как в том уверяешь, ты пойдешь с ружьем в лес. Мне так хочется полакомиться мясом, после такого долгого воздержания. И я брал ружье и отправлялся в лес. Свежие плоды, сочные ягоды потеряли уже свой вкус. Мы разрывали зубами волокна мяса, эти ткани таинственной жизни земли. Мы поступали так, словно благодеянье, оказанное нам созданием зверей, не было дано человеку для братского и внутреннего наслажденья, но, напротив, явилось трагическим предназначеньем для удовлетворения его алчности и неистовства.
Стой! Фазан бьется блестящими перьями в чаще кустарника, серый заяц выскакивает из просеки. Я знаю норы кроликов и воздушные тропы белки. Однажды утром следы маленьких копыт выдали мне проходившую по тому месту косулю. В лес! Ева! В лес! Она сама теперь брала из моих рук ружье, а Голод шествовал впереди нас, нюхая землю и виляя хвостом. Мы еще не изведали чистой радости, вкушая испеченный благодатными руками хлеб.
Ведь, звери так мирно приходили к нам в пору нашей невинной любви. А ныне они убегали от нас. Их хитрость скрываться от нас равнялась нашей хитрости преследования.
Простое и набожное сердце не делает различия между птицами и лесом, ни между пышными деревьями и тварями. И вкупе все для него есть достойная жизнь. Но мы лишились простоты. Бурное вино жизни ударило нам в голову. Два горячих и ярых существа шагали с гордыми возгласами по зеленым тропам, где раньше пробегали милые жители лесов. Сначала я не узнал человека своего племени, жестокого бесчувственного убийцу, вырвавшегося из лесных теней. Мы уже стояли нагими перед божеством, но в крови нашей еще не было разъедающего пламени. Мы отдались, охваченные безумием, во власти темного закона мрачной судьбы. И жизнь, и смерть держали нас за кисти рук, не готовивших еще хлеба, не выстроивших кровли и не качавших еще колыбели. Радуга, небесный символ гармонии, осеняла наше жилище. Она обвенчала нас в лесу. Но в наших сердцах не нашла себе точки опоры.
Лес вселял в нас свое безумие. Тяжелая оцепенелость смерти застыла в наших глазах. И мы не внимали больше ни пенью птиц, ни любовным визгом белок, нет – мы выискивали сквозь колебавшуюся листву, уязвимые места на их крохотных тельцах.
Красота жизни закатилась. Ныне убийца вступил в Эдем, и хохотал жестоким, алчным смехом Евы.
Но дни были полны сладости. При пробуждении леса мы удалялись под сень прохлады утра. Ночь еще не уходила, тенистые покои словно не хотели исчезать из плотных чащ ветвей. Но вот восходило солнце. Косые лучи озаряли полосами медленно клубившийся пар. Прозрачный и трепетавший вспышками колонны из яшмы и бледного золота колебались при легком и свежем порыве ветра. На иглах сосен излучался алмазными искрами иней. Бесчисленные воздушные нити, звезды, зонты и розетки трепетали, и не было видно таинственной работницы, которая их сплетала. До зари она плела, и каждая нить отливала перламутром росы. Ювелирной резьбой и кружевными узорами казался папоротник. И розовый дождь свежих брызг скатывался с листьев. У подножия деревьев ширились светлые лужицы. В чащах кустов блестели сапфирные и изумрудные очи, как пестрый павлиний хвост. И весь лес дымился, как виноградный чан. Ныне тени поднимались небольшими радужными облачками и взвивались светлыми кольцами фимиама. Резко вскрикивала кукушка, слышалась дробная трель зеленого дятла, пересвистывались синицы.
Мы шли с прохладным дуновением дыхания наших уст, опьяненные волнами созревшего сока, и глядели, как пробуждался, сквозь туман, легкий, молодой ветерок лужаек. Одни лишь мы оставались ночью среди разраставшегося света.
Сладостный лес, баюкавший нашу любовь, пробудил в нас дикие возгласы предков. Солнце вставало и заходило в кроваво-красном озарении. Но мы не уставали убивать. Уже утомившийся день склонялся к закату. В ровном застывшем воздухе последних дней лета, среди сepo-зеленого безмолвия расплывавшихся в прозрачном сумраке деревьев, лет казался дном спящих вод, и словно исчезал в сладостном и ясном забвении. А наши убийства созревали для гниения у подножья дубов.
Однажды, когда мы пошли на охоту, наша собака побежала вперед со странным тявканьем. Через некоторое время мы услышали, как она скакала в лесу и потом где-то вдалеке принялась лаять, как никогда не лаяла до той поры.
– Наверно, в лесу кто-нибудь есть, – сказала Ева. – Это друг, которого нам приведет Голод. Его лай такой радостный!
Я взглянул на Еву. И увидел, как ее грудь слегка вздрагивала, словно Ева ждала кого-то близкого и неведомого. В тот же миг моя дикая душа одинокого человека ожесточилась.
– Тебе мало тебя и меня в этом лесу? Пусть лучше тот уходит, если не хочет отведать моей пули.
Если бы в это мгновенье показалась на дороге тень человека, я уложил бы его на месте, как лесного зверя. Ева мне промолвила с нежным упреком:
– Ты был для меня нежным супругом, а теперь говоришь мне, как оскорбленный господин. Если то на самом деле друг, перед которым радостно тявкал Голод, можешь ли ты запретить этому животному обладать более привязчивым сердцем, чем твое?
Я смирился, устыдясь своего гнева, ибо она говорила разумно.
– Видишь, Ева, мы проливали невинную кровь и ныне я говорю, как опьяненный кровью человек.
Мы пошли туда, откуда доносился лай. Это был тревожный и вместе предупреждающий лай с короткими досадливыми вскриками, словно пред препятствием, в которых слышалась, однако, приветливость и гостеприимство, словно братское увещание. Лай то приближался, то удалялся, замолкал, возобновлялся, и вдруг мы увидали Голода, который описывал широкие круги и с легкими прыжками вел к нам большую, тощую и робкую собаку, которая, верно, заблудилась в лесу.
– Не бойся, – как бы говорил лай. – Этот человек совсем не такой ужасный, как кажется, а та пришла так же, как и ты.
И изнуренная собака вертелась теперь у наших ног и глядела на нас человечьими глазами.
Я услышал тогда в себе голос Творца, говоривший человеку в райском саду:
– Адам! Адам! Что ты сделал?
И я также внимал Еве, когда она говорила: «Если хочешь мне нравиться, ты дашь мне отведать кровь и жизнь животных этого леса».
А покорное животное убежало в чащу деревьев и привело другого заблудшего животного.
Ева, Ева! Вот прекрасный и поздний урок: мы проливали жизнь, и меня мучила едкая жажда. Но собака научила нас нежной любви, Отныне, когда нас начнет одолевать голод, я буду уходить в лес, и руки мои будут неуклюжи и неловки, как у угрюмого и покорного жреца. А эта милая и странно жестокая девушка принялась смеяться, сознавая свою юную власть.
В этот день мы привели к себе новое животное. Приласкав его, я сказал Еве:
– Как назовем мы его?
Она захлопала в ладоши и ответила мне:
– Назовем его Нуждою, потому что у нас уже есть Голод.
Какая у тебя смешная мысль, Ева! И; однако, не более странно, что одна собака называлась Голодом, а другая Нуждою. Голод и Нужда были всегда моими неразлучными спутниками. Одно без другого не встречаются. Смеясь, ты сказала Ева глубокую правду. Я опустил руку на ясные и влажные глаза животного, подул ему в ноздри и сказал:
– Так называйся же Нуждою, этой печалью былой поры, в знак воспоминанья о страдании прежнего старого мира, хотя здесь Нужда только название забытой вещи.
XI.
Крестовник, зверобой, медовая марена и другие розовые и пахучие цветы засыхали. Это была пора, когда там внизу у людей кончается жатва. И ульи полны меда и воска. Пряный запах леса, благоухание сена перестали куриться по вечерам. Мы знали закон, который согласует с полетом пчел золотые цветы и сладостные ароматы. И вся земля покрывается белым пологом, как символом брака и счастья.
Потемневшие ткани, красный бархат, пышный и суровый багрец созревших и блиставших красотою плодов, отмечали конец августа.
Каждый день приносил новое чудо, и рожденье новой краски и благоухания в обширной вселенной также чудесно, как полет метеора и переселение народов. Близ ручья бузина и жимолость красовались гроздьями черных ягод. Словно кораллы краснели иглы стройного боярышника. Пурпурные плоды шиповника стали кислы, как маленькие дикие яблочки. Амарантовые серьги горькой рябины походили на разукрашенную рождественскую елку. Теперь и кизиль, и айва налились ароматной мякотью. И с запахами, цветами и плодами прилетели новые птицы: королек, поползень и однообразно насвистывающий на равнине скворец.
Ни ты, Ева, ни я не слышали еще такой сладостной музыки. Она навивала на нас нежную грусть, подобную ощущению нашей немощной плоти. В этой музыке слышался уже резкий свист северо-восточного ветра зимы. И этот призвук был для нас, как кислый и возбуждающе сок лесных яблок, в которые я вонзал свои зубы после тебя.
Так мы вступили в сад Эдема, внимая песням, и глядели, подобно первому человеку и первой женщин, не ведавших неожиданных даров земли, как распускались цветы. И ветер также был нам неведом, как деревья и источник, и каждый вечер, и каждое утро. Ева порою долго стояла, склонившись над травой, или внимала легкому шелесту соков. Но она еще не понимала красоты муравья, жука и земляного червя. Смеясь, она отклоняла их с пути, как будто от этого движения зависало измененье порядка мира. Но после короткого колебания они снова возобновляли свой прежний прерванный путь.
Так выполняли они свое назначенье. Я же мало-помалу старался приобщиться к смыслу жизни. Ты, Красота, моя милая Ева, – налагаешь на все свою десницу или создаешь легкую преграду, чтобы расстроить то маленькое и чудесное деянье, которое совершают твои твари. Но за твоею десницей есть другая, – мы ее не знаем, но она, вопреки тебе, направляешь их по предназначенным для них путям. Также и ты, Ева, когда впервые пришла к краю леса, как будто свернула с пути, который я избрал, чтобы идти перед тобою. Но ты явилась мне, и ничто не могло бы помешать мне уйти в то утро из дому с моим Голодом.
Плетет паук, растет трава, бежит ручей, все послушно таинственному закону, который один для всех – для насекомого и растения, для воды и человека. Мы кроем крыши для чего-то такого, чего не знаем. Жизнь ступает вместе с нами, и мы не знаем, для чего живем. И вот в один какой-нибудь день смерть захлопнет над нами дверь.
Я сам слишком недалеко ушел от той жизни, которой живут люди, чтобы не бояться смерти. Я еще не видел, что вслед стае бедности человеческого языка слово смерть получает абсолютный смысл, благодаря которому для умирающего всякое существующее явление представляется пройденной стадией, тропой, ограниченной небытием, и мы измеряем вечность в тот краткий час, когда жизнь как бы застывает в нас. Но она уходит и вновь возрождается, и снова все возобновляется, согласно закону, порождающему из замкнутой клетки – живую.
Как только я вызывал мрачный образ смерти, Ева бледнела. Словно в забытье сжимала она меня в объятиях.
– Милый, твое сердце стучит рядом с моим. Как могла бы я поварить, что смерть тебя когда-нибудь похитит у меня?
Это бесхитростное дитя произнесло такое сладостное слово, словно оно было словом святых, ибо надо, надо верить. Багряный поток крови перестал бы омывать мои жилы, если бы и он не был, по своему, актом веры. Ева прижимала свои губы к моим и восклицала:
– Вот мои перси, возьми их в свои руки. Вот мои волосы, заверни ими свои пальцы. Сама смерть не сможет нас разъединить!
Боже, с какой полной жизни гордостью она восклицала это. Крик ее поднимался к вершинам деревьев, как вызов.
Шел третий месяц нашей любви. Твоя грудь, моя Ева, была так упруга под моими пальцами! Ты предлагала мне ее, трепетавшую и налитую, как плод, и не ведала стыдливости. Ты также просто и естественно, какой была сама жизнь, предлагала мне свое тело. Оно было подобно вечной жажде и вечному голоду. Одежда твоя спадала, и сама ты не знала, что была нагой в моих объятиях. Но ты не промолвила еще мне слова любви, словно красота твоей груди и твоей утробы была ничем рядом с более великой красотой, скрытой в тебе.
Под утро я вступил в цветущий сад. Я влез на дерево и сорвал горячий плод любви. Твое тело узнало мое. Но падает яблоко с ветви, и снова поднимаются соки, рождаются новые яблоки для иной жажды, пока не воздвигнуты преграды. Но дева не сразу молвит слово, которое водружает вокруг нее ограду. Она разжимает колена и пробуждается лишь наполовину. В глубине ее существа скрывается более сладостный сад, чем девственность ее утробы, но она не знает об этом. Я, моя дорогая Ева, говорил тебе о любви, как тот, кто познал уже любовь. Но ты мне подарила твои маленькие перси и не ведала какое божественное имя у любви.
Однажды утром, уйдя вместе в лес, мы присели на холмик, и никто из нас не говорил. Вился легкий туман, осень уже склонялась к концу. И вдруг, услышав пение дрозда, ты заплакала. Я не знал, почему горячий дождь слез орошал твои щеки. Я захотел тебя поцеловать, но ты отстранила мои губы, промолвив:
– Ты не думаешь, милый, что лес проснется теперь, когда пропел дрозд?
Какое ты странное слово сказала! Лес покрывался листочками, и, если бы пришла весна, ты сказала бы иное слово. Ты прибавила потом, как будто не своим голосом:
– Мне казалось, что спала я целую вечность. О, дорогой Адам, дрозд пропел и ныне я просыпаюсь!
Я тоже услышал его ныне впервые, но пение его не имело для меня того же смысла, как для Евы.
– Видишь, – ответил я ей, – он поет, потому что теперь перелет. Они всегда поют в пору созревания рябины.
Я говорил, как человек, не знающий, что предметы суть только проявления движений нашей души. А Ева все слушала пение птицы.
– О, – промолвила она, – его пение так нежно проникает в меня! Оно так глубоко опускается в мою душу и, словно прекрасный мелодичный дождь, орошает ее своими каплями. Я не знала еще этого как будто слегка плачущего и потом словно смех улетающего голоса.
Розы расцветали на ее ланитах. Я не думал, что она была так прекрасна. Я взял ее в мои объятия, смеясь промолвил, как она:
– Дрозд пропел, маленькая Ева! Он охмелел от рябины, и я – также, как дрозд: румяные гроздья твоих уст вскружили мне голову.
Это походило на детскую игру, и Ева не смеялась. Она взяла мое лицо руками. Долго глядела в мои безумные зрачки, и что-то случилось: она уже не была прежней дикой девушкой. Нежная юная женщина устремила в мои глаза свой строгий, влажный взгляд.
– О, – сказала она мне, – это, ты, конечно, ты! Это твои глаза! Твое лицо! Мне кажется, тебя я вижу впервые!
И потом, когда я обнял ее, она опустила свою голову мне на плечо и сказала:
– Теперь я чувствую другую боль, более сладостную, чем тогда, когда ты меня взял!
Я не знал, что она хотела сказать. О какой боли говоришь ты, дорогая Ева? Мои руки нежны, как у птицелова, что, насвистывая, пленяет птиц, и я едва коснулся концов твоих персей. Я не мог сделать тебе больно.
– О, – проговорила она, – это похоже на то, как будто душа моя меня покидает. Ты часто мне говорило любви, но дрозд не пел. Теперь и я…
Она вздохнула. Долго, долго трепетала она, зардевшаяся и пылавшая огнем на моей груди. Мне казалось, я видел, как приближался румяной поступью день под сумраком леса. Кущи на востоке оделись листвою. С пурпурным трепетом своего тела она походила на сад роз, упавших с неба. И ныне с любовью в ней родилась стыдливость, девственный страх души, которая отдалась нагая. Ева не покраснела, когда я расстегнул ее платье под светом луны.
Друг, друг, друг, ты не осмелилась высказать до конца свои жестокие слова. Твоя душа приблизилась к концам твоих губ и замерла. Но я приблизил уста, и никогда еще ты мне не дарила такого поцелуя. Дрозд пропел, моя маленькая Ева! Я уже знал теперь, какой чудесный смысл таился в этом голосе леса.
Поднимались пары тумана, волнистые ткани вздрагивающей плоти утра. Природа была нага под лучами солнца, и юная супруга также сбросила одежды со своей души. Божественная музыка жизни звучала с плеском ручья, шелестом листьев и птиц.
В следующее утро я будил Еву, касаясь устами шелковистого краешка ее век. Она спала, подобно сну леса в тот день, когда впервые пел дрозд и, наконец, под легким дуновеньем моего дыхания, нехотя открывались ее глаза, И вслед за тем, как сама она меня просила, я нежно рассеял ночь вокруг нее, промолвив:
– Дрозд пропел, дорогая Ева!
Это было подобно знаку благовестия, которым каждое утро я говорил ей, что моя любовь родилась. Дрозд не лучше поет, чем другие птицы. Он прилетает каждое лето, когда плоды уже поспели. Он насвистывает грустную, как серый дождь, песню. И потом улетает со своей кружащейся песенкой при шелесте последних листьев. Но этот дрозд никогда не покидал нас. Нашей любовью стала рябина с красными ягодами, где он пел свою песню.
Но, дорогая моя, если бы в ту пору мы не пришли друг к другу по тропинкам маленькой дикой земляники, но узнали бы друг друга в городе, этот символ рябины не увековечил бы никогда взаимных даров наших жизней. Крошечного голоса самой скромной птички достаточно, чтобы заполонить им все небо. И каждая птица приходит в свой час, но только одна не перестает петь, когда ее слушают просто и внимают тому, что она хочет сказать. Там внизу, у людей ты не была бы Евой, и Адам не пришел бы к тебе через лес. Твоя маленькая грудь в моих руках расцвела бы летом и потом зачахла бы совсем.