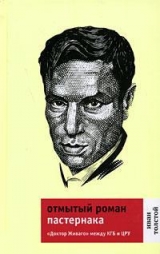
Текст книги "Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ"
Автор книги: Иван Толстой
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Композиторство было лишь частью его разносторонней личности. Набоков был исключительно общительным человеком. Кого он только не знал: Исайю Берлина, Джорджа Гершвина, Уистена Одена, Мэри Маккарти, Вилли Брандта. В 1943 году он по своей собственной воле вступил в политику и окунулся в бесконечные общественные акции, нисколько, впрочем, не обманываясь их политическим прагматизмом и далеким от искусства интересам. Впрочем, для него это не было бегством из музыки, напротив: он втянулся в политику вместе с музыкой.
«Никогда еще, – вспоминает он в „Багаже“, – над искусством так не измывались, как под конец зловещего правления господ Жданова и Сталина» (там же, с. 261).
И, подав собственноручное заявление, Набоков поступил в распоряжение американского военного командования в Германии, где с апреля 1945 года он служил офицером по культурным связям в Morale division стратегических войск – в частях, так сказать, политпросвета, только американского.
Много горьких страниц отдано в «Багаже» истории холодной войны и ее культурным институтам, в частности, Конгрессу за свободу культуры, активности которого русская эмиграция обязана книгами, художественными заказами, рабочими местами для музыкантов, переводчиков, гидов и администраторов. Когда же в середине 60-х годов взаимного холода поубавилось, в американской печати появились статьи, вскрывающие финансовые источники антикоммунизма – главным образом, ЦРУ. Разразился праведный скандал, и многие интеллектуальные и информационные начинания полетели вверх тормашками.
Между прочим, как это ни смешно звучит, не обо всех политических проблемах конца 40-х годов можно было говорить в 1975 году в нью-йоркском издании книги. По авторскому замыслу, «Багаж» состоял не из трех, а из четырех глав, одна из которых – «Буддийская свадьба» – была издательством сочтена «несвоевременной». Речь в ней шла о трагедии выдачи Западом казаков, власовцев и перемещенных лиц (дипийцев) в руки Сталину, о русских и советских судьбах, прошедших перед глазами Набокова. В название главы был положен эпизод несостоявшейся свадьбы молодого НКВДиста с девушкой-остовкой, свадьбы, задуманной престарелым немецким теософом, одним из многих странных людей, встреченных рассказчиком на своем пути.
Кстати, здесь, в Германии Николай Дмитриевич повстречал и своего полузабытого отца, надеявшегося на помощь родного сына и с недоумением теперь отвергавшего старые слухи о своей неблаговидной роли при разводе.
Набоковское музыкальное наследие весьма велико, и все же не только оно и не активная преподавательская деятельность (в Нью-Йорке, Аннаполисе, Балтиморе, Буфало) оставили его имя на скрижалях истории. По прошествии лет особенно заметна его роль как художественного руководителя и пропагандиста современной музыкальной культуры: в 1952-м он возглавляет «Парижский фестиваль 20 века», в 1954 – музыкальный фестиваль в Риме, в 1961 – в Токио, с 1963 по 1968 – в Берлине, в разные годы он организует фестивали негритянской культуры и фестиваль «Восток встречается с Западом» в Японии, затем такой же фестиваль – в Индии, а в Мадрасе фестиваль музыки барокко. На протяжении десяти лет состоит генеральным секретарем музыкальной секции ЮНЕСКО в Париже. Он – влиятельнейшая личность в культуре мирового масштаба, и этим влиянием он обязан постоянной закулисной поддержке со стороны американской разведки.
Этот яркий человек совершенно не заботился о выпуске своих пластинок. Ему был интересен внешний мир, и в этом заключался его конфликт с самим собой. Замкнутость, одиночество, погружение в себя не были его сильными сторонами. Он был ненасытен в своем стремлении стать частью происходивших в мире процессов – политических и культурных.
Отсюда, по-видимому, и скорое забвение его в следующих поколениях. Сделал ли в литературе его кузен Владимир больше, чем Николай – в музыке? Непросто судить об этом, потому что о неисполняемом композиторе молчат музыкальные критики. Или дело в том, что в его композиторской карьере не было своей «Лолиты?».
Итак, из обращения Николая Набокова в августе 1957 к «Галлимару» ничего не получилось, но идея русского издания «Живаго» никуда не исчезла. Отметим, кстати, что экземпляр романа он получил от Элен Пельтье – вслед за рукописью терцевской повести «Суд идет». Но Терца отложил, поставив в своих планах на первое место Пастернака: Элен Пельтье признавалась в 1973 году Андрею Синявскому, эмигрировавшему во Францию, что ЦРУ выбрало для издания большой роман знаменитого русского писателя, а не маленькую повесть безвестного литератора. Уже тогда, в конце 50-х годов Элен не обманывала себя в том, какую организацию представляет Николай Набоков и каков характер деятельности Конгресса за свободу культуры. Пельтье-старший назвал ей все вещи своими именами.
Николай Дмитриевич оказался достоин своей роли и связную между Синявским и собою не выдал: доказательство тому тайна терцевского авторства вплоть до 1965 года. И слово Набоков сдержал: «Суд идет» был впервые напечатан польским эмигрантским журналом «Культура», который финансировался тем же Конгрессом.
Можно ли предположить, что ближайшей подруге Элен, товарищу по конспиративному переводу «Живаго» – Жаклин – не было известно о деятельности Николая Набокова, о возможностях Конгресса, о том, что если бы дошло дело до выпуска русского оригинала, Элен собиралась взять его у Жаклин, поскольку это был единственный выправленный текст?
Прошло четыре месяца, и 12 декабря 1957 в доме Жаклин де Пруайяр на набережной Сены, в самом центре Парижа, собралось совещание. Присутствовали: Клеманс Эллер (Heller, руководитель Шестой секции Ecoles pratique des hautes etudes), заинтересованный в данной публикации, как отмечает Жаклин, «с научной стороны дела»; два представителя издательства «Мутон» – главный редактор Корнелис ван Скуневельд и директор типографии Питер де Риддер, Элен Пельтье-Замойска, сама Жаклин де Пруайяр и ее муж – адвокат Даниэль.
Наиболее важной и деятельной в этом собрании фигурой был Клеманс Эллер, осуществлявший поручение Николая Набокова (в то время с Жаклин еще персонально не знакомого), то есть волю ЦРУ. Любопытно в этой связи, что в академических кругах Парижа Эллера считали не агентом ЦРУ, а агентом КГБ. (Прошу читателя отметить: я не делаю соответствующего утверждения, а лишь пересказываю историческую сплетню.)
Собравшиеся должны были выработать план, что делать в новых условиях. Проблема становилась трехсторонней. Дело в том, что запретив всем европейским издателям выпускать русский текст, Фельтринелли очень охладил руководство «Мутона», которое в этой новой политической обстановке на глазах у всего мира совершенно не желало становиться участником юридического скандала, более того – причиной такого скандала.
Самой Жаклин де Пруайяр Фельтринелли дважды прислал свое грозное предупреждение. У нее тоже пропало всякое желание предоставлять для печатания свой – меченый (новомирский) – экземпляр.
Тем не менее, Эллер уговорил Жаклин стать посредницей в переговорах между Фельтринелли и «Мутоном». По эллеровскому плану, она должна была объяснить миланцу следующее: хочет того Фельтринелли или нет, но желание русских читателей в эмиграции столь сильно, что какое-нибудь эмигрантское издательство рано или поздно (скорее, рано) возьмет да и выпустит русский текст самым пиратским образом, благо машинописных экземпляров «Живаго» гуляет по Европе, якобы, видимо-невидимо. Не лучше ли самому принять решение о таком печатании? Если нужна для этого подходящая типография – то вот, пожалуйста, «Мутон» всегда готов («Mouton mange tout», по французской пословице: «Баран всё съест»).
Фельтринелли был очень озадачен: решиться на русское издание значило занять по отношению к Москве непримиримую позицию, стать врагом. Причем Москва стала бы врагом далеким, а появлялся бы враг под боком – собственная коммунистическая партия, итальянская, которую Фельтринелли до последнего времени финансировал и которая не собиралась рвать с Советским Союзом.
Предлагая русское издание, Жаклин настаивала на выпуске книги именно по ее экземпляру – со всеми авторскими исправлениями. И это было для Фельтринелли еще одним доводом против подобной затеи: выпуская пруайяровский вариант, он издавал бы другую книгу, не ту, что хранилась в его сейфе, не ту, по которой делались переводы во всех странах (кроме Франции, разумеется). Это был важнейший юридический вопрос: версия Жаклин создавала бы новую правовую ситуацию: она, а не он, владела бы русскими правами.
Но как же меняется при таком угле зрения образ невинной овечки Жаклин де Пруайяр! Признавшись (через 35 лет) в исполнении этой роли, она вынуждает совершенно иначе взглянуть на конфликт между нею и Фельтринелли. Борис Леонидович, запертый в Переделкине, недоумевает: что это они там не могут сговориться во благо роману? А мы теперь понимаем, что в фельтринеллиевских глазах Жаклин была игроком безымянной команды конкурентов, легко идущих на шантаж, а вовсе не безобидным доверенным лицом Пастернака. Но в Переделкине этого было, разумеется, не понять. Да и в Париже она занимала позицию «духовного» помощника Пастернака. Над молодой Жаклин в 58-м году действительно нависла угроза конца карьеры. С одной стороны, Фельтринелли грозил иском, а с другой – слишком подозрительной становилась авантюра Клеманса Эллера, непонятно во имя чего настаивающего на форсировании русского «Живаго».
Когда в 2000 году я впервые брал интервью у госпожи де Пруайяр, меня интересовало, насколько заметны были ей тогда торчащие уши ЦРУ. По словам Жаклин, она совершенно об этом не думала, нисколько не догадывалась.
А если бы догадывалась? Прекратила бы отношения с Эллером? Во всяком случае, никто из участников библиографического заговора ни слова об американцах не произнес. Кто же во Франции, да и вообще в Европе, потерпит, чтобы ученый ассоциировался с заокеанской разведкой? Но какая, в таком случае, сила стояла за финансовой легкостью эллеровских предложений?
«Эти люди, – вспоминает Жаклин в интервью, – охраняли меня, чтобы я не была в затруднении перед Пастернаком. Потому что если бы я знала, что это деньги ЦРУ, это было бы для меня ужасно. Потому что это стало бы политическим делом, а у меня это было духовное дело» (Жаклин).
Никто в этом не сомневается. Но это – намерения Жаклин. Не будем путать их с возможностями.
Пока же в ее доме, как они и условились 12 декабря 57-го, ее экземпляр романа был переснят. Для надежности. Одну пленку оставили у хозяйки (через тридцать лет Жаклин подарит ее изумленному Сергею Залыгину для первой советской публикации в «Новом мире»), другую отдали в «Мутон» ван Скуневельду, третью депонировали в Шестой секцииу Эллера (судьба ее с тех пор неизвестна).
Самое главное – теперь можно было сообщать Фельтринелли, что дискуссия вокруг авторского права не столь актуальна, поскольку «Мутон» готов вступить в переговоры. И пока эти переговоры ведутся, надо, не объявляя об этом Фельтринелли, набрать текст. А потом поставить миланца перед фактом: вот безупречный русский вариант.
Увы, эта хитрость не сработает и правленый, утвержденный самим автором (как мы помним – «симоновский») текст не будет использован еще в течение десяти лет, а издаваться на Западе будут тексты с многочисленными ошибками.
Почему? Что сорвалось? Как могла Жаклин упустить из рук, казалось бы, верное дело и не выполнить данного Пастернаком поручения? Кто виновник текстологического произвола? Почему к читателям было проявлено глубокое неуважение – как все равно к мутонам? И при чем же здесь голландцы?
Личная драма графини де Пруайяр напрямую связана с ответами на эти вопросы.
4 марта 58 года Фельтринелли сломался или изобразил, что сломался: он послал письмо Клемансу Эллеру (с Жаклин он старался общаться поменьше).
«Издатель Джанджакомо Фельтринелли Милан, виа Скарлатти, 26
Господину Клемансу Эллеру E(cole) P(ratique) des H(autes) E(tudes)
Милан, 4 марта 1958
Милостивый государь,
Г-н Дель Бо передал мне Ваше письмо от 25 февраля, касающееся русского издания романа Пастернака. Благодарю Вас за Ваш интерес к вопросу, к которому я отнесся с особым вниманием.
В связи с русским изданием пастернаковских трудов возникают следующие обстоятельства.
1) Согласие Пастернака на подобные действия. Хотя я полагаю, что Автор был бы живо заинтересован в выпуске издания на языке оригинала, я до сих пор не получил по этому вопросу никакого ясного подтверждения. Поскольку подобное издание может поставить автора в затруднительное положение, я предпочел бы получить известие на этот счет от него самого.
2) «Доктор Живаго» защищен Международной Конвенцией по авторским правам, поскольку первое издание этой книги появилось в Италии, стране, подпадающей под данную конвенцию. И, следовательно, не может быть никакого издания на каком бы то ни было языке ни в одной из стран, принявших конвенцию, без моего разрешения, которое я дам исключительно с согласия автора (см. Пункт 1).
3) Если же Автор выскажется в пользу русского издания в Западной Европе, я полагаю, что охотно возьму на себя эту задачу, обратившись к какой-нибудь французской или голландской типографии.
Уверен, что это было бы на пользу самому автору, поскольку никто в таком случае не счел бы, что к изданию причастны какие-либо эмигрантские организации, и так далее... а это, естественно, усложнило бы его положение в глазах властей у него в стране.
Кстати, я хотел бы просить Вас, если представится такая возможность, переправить мне пару строчек от Автора, о чем и я также позабочусь своими силами. Что же касается голландского издательства Мутон & Co, думаю, мы вполне можем принять к сведению их предложения отпечатать книгу – после того, как согласование с автором к чему-нибудь приведет.
Примите, милостивый государь, уверения в моих преданных чувствах.
Джанджакомо Фельтринелли»
(Архив К. Эллера, перевод с французского, публикуется впервые. Письмо любезно предоставлено нам Жаклин де Пруайяр.)
Показывая себя мягким и уступчивым, Фельтринелли ничего не терял: добиться такой бумаги от автора, по понятным конспиративным причинам, было невероятно трудно.
Между тем, сроки сильно поджимали: имя Пастернака попало в шорт-лист, шведские академики проявляли полную расположенность к его кандидатуре, один из представителей Нобелевского комитета даже приезжал в Переделкино беседовать с Борисом Леонидовичем: не будет ли отказа? Пример отказавшегося Льва Толстого подсказывал, что правильнее разузнать заранее, и стокгольмское жюри продумывало все шаги премиальной процедуры.
Обращение шведского представителя к Пастернаку вовсе еще не означало, что вопрос в комитете решен, это было лишь снятием одного из возможных формальных препятствий. Более того, с писателем не обсуждались языки существующих изданий: на эту сторону дела ни автор, ни комитет повлиять не могли.
А в августе 58-го, самое позднее, экземпляры русского издания надо было представить в Стокгольм.
Кто же все-таки ввел это требование? Почему о нем столь определенно пишет Жаклин де Пруайяр, а позднее – руководитель Российского государственного архива новейшей истории Виталий Афиани и, наконец, человек совсем со стороны – сотрудник голландской контрразведки BVD (мы еще обратимся к его показаниям)? Что, если в январе 2009-го мы этого пункта в бумагах Нобелевского комитета не обнаружим?
Вопрос этот – болезненный в данной истории. Попробуем предложить два возможных ответа. Прежде всего, учитывая мощное давление на комитет со стороны советских представителей, такое требование могли выдвинуть кремлевские гонцы: мол, Москва, не против премии, но сейчас она совершенно не к месту и может даже повредить Пастернаку, раздражить Кремль и все напортить. Правильно было бы дождаться русского издания в самой Москве. Беря, тем самым, академиков «на пушку», советские разведчики отлично знали, что на родине книга не появится, а блокировать русское издание у Фельтринелли они уж как-нибудь сумеют.
Второй возможный источник слуха – разведка американская, которой русское издание необходимо было для своих целей – как козырь в политической игре.
Преследуя взаимно противоположные цели, дезинформаторы с обеих сторон сыграли на появление устойчивой легенды, которую ни подтвердить, ни опровергнуть пока что нельзя. Во всяком случае, Жаклин де Пруайяр вспоминает, что ей об этом требовании как о непреложном условии рассказал галлимаровский консультант Брис Парэн со слов Альбера Камю. Пал ли и он жертвой сознательной дезинформации?
В начале 2007 года я обратился к нынешнему секретарю Нобелевского комитета Хорасу Энгдалю, который любезно проконсультировался с крупнейшим специалистом по истории Нобелевских наград Кьелом Эспмарком и другими членами Королевской Академии. 16 февраля господин Энгдаль написал мне:
«Предположение, что Шведская Академия в 1958 году могла объявить о своем нежелании награждать Пастернака, пока „Доктор Живаго“ не будет выпущен на языке оригинала, было встречено всеми с недоверием. Господин Эспмарк заявил, что ему никогда не попадались документы, подтверждающие подобное предположение, и что саму идею выдвигать специальные условия для присуждения премии и объявлять о них трудно вообразить, поскольку это нарушило бы правила секретности, окружающей процесс выбора лауреата. И если доселе неведомый источник не будет обнаружен, тезис о том, что публикация „Живаго“ по-русски проложила путь к награде, должен быть отвергнут. По всей вероятности, Пастернак получил бы ее несмотря ни на что. Но, возможно, его друзья на Западе полагали иначе. ЦРУ вряд ли могло быть в курсе обсуждений, проходивших в Шведской Академии. Они были не столь уж всемогущи».
Мнение Кьела Эспмарка заслуживает безусловного доверия. Он – автор классического труда «Нобелевская премия по литературе: Исследование критериев отбора», вышедшего уже двадцать лет назад. Но то, что он пишет в своем исследовании, признаться, во многом Шведскую Академию идеализирует.
«В послевоенный период, – рассказывает Эспмарк, – ряд Нобелевских премий по литературе вызвал споры об их политическом воздействии на атмосферу холодной войны. Литературные премии, подобно премиям Мира и в противоположность премиям научным, подчеркивают ценностные вопросы и различающиеся точки зрения, что нередко болезненно воспринимается в окружающем мире. В то же время, Шведская Академия по этим вопросам неоднократно высказывала пожелание оставаться в стороне от политических разногласий. Ведущим принципом, пользуясь словами Ларса Гилленстена, была „политическая чистота, невовлеченность“.
Время от времени возбуждаемые споры вокруг выбора победителей частично объяснимы тем фактом, что во многих кругах наблюдается непонимание независимого положения Шведской Академии перед лицом государства и правительства. Не раз приходилось указывать на это отличие от практики восточно-европейских стран. Например, в статье в газете Dagens Nyheter (22 февраля 1984) приводилась ссылка на Никиту Хрущева, который в своих воспоминаниях утверждал, что это именно он, через шведского министра, посоветовал Академии дать премию Шолохову. Журналист, приведший это утверждение, признал, что шолоховское награждение было «досаднейшим эпизодом в истории Нобелевских премий». Гилленстен отвечал (27 февраля 1984), что не существует ни малейшего свидетельства хрущевского давления ни в бумагах Академии, ни еще где-либо» (Эспмарк, с. 99).
Последний аргумент по меньшей мере странен: как будто давление не могло быть устным.
«Эту ситуацию, – продолжает цитировать Эспмарк Ларса Гилленстена, – трудно понять в коммунистических и тоталитарных государствах. Но для Шведской Академии и для прочих учреждений, распределяющих Нобелевские премии, уход от политического влияния не подлежит сомнению. Присуждение награды Шолохову могло быть удачным или провальным, но Никита Хрущев не имеет ни чести, ни несчастья быть к этому факту причастным» (там же, с. 100).
Здесь же Эспмарк дает любопытное пояснение:
«Пастернак сам способствовал распространению слуха о том, что в 1954 году Академия зондировала почву у советских властей с связи с идеей присуждения ему премии и запрашивала их согласия. В 1981 году, от имени Академии, Гилленстен опроверг этот слух как совершенно беспочвенный: „Запросы такого рода не делались и никогда не делаются“ (там же).
Как бы ни уверял нас историк литературных наград в полной независимости стокгольмского жюри, жизненный опыт противится этой прекрасной сказке. Противится и обилие секретных документов ЦК КПСС, и невероятный накал политических страстей в прессе того времени (к чему мы еще обратимся в дальнейших главах), и сама легенда о требовании русского текста, даже если за нею никто из шведов не стоял. Тем легенды и живучи, что не рождаются на совершенно уж пустом месте.
Непреложен факт: ЦРУ проявило бешеную активность в выпуске русского текста к сроку. Поспешность была связана с затянувшимися переговорами между «Мутоном» и Фельтринелли (по вине последнего, конечно) и с тем, что пруайяровский вариант он обещал опротестовывать. Тем самым хитрость срывалась, Фельтринелли мог угрозой судебного иска спугнуть Нобелевский комитет.
Как же сделать так, чтобы миланцу было не отвертеться?
Перед группой Эллера вставала парадоксальная задача: имея правильный текст, обзавестись неправильным, фельтринеллиевским. Где его взять?
Тут мы подходим к одной истории, больше похожей на легенду, нежели на быль. Впервые я услышал ее в частной беседе с сэром Исайей Берлином в 1990 году в лондонском клубе «Атенеум». Вторым рассказчиком (весна 1992-го) был парижанин Товий Зиновиевич Гржебин, сын известного издателя и сам непродолжительное время выпускавший книги. В третий раз, на этот раз в печатном виде, я встретил ее в письмах Феликса Морроу к Карлу Профферу (Проффер, с. 137). Наконец, о ней упоминает и сын Фельтринелли – Карло (Карло, с. 122).
История такова. Какой-то европейский город, огни аэропорта, шум винтовых самолетов... Некто, имеющий отношение к нашему рассказу, летит из точки А в точку Б, и по каким-то сейчас уже неведомым причинам самолет его совершает незапланированную посадку в совершенно другом аэропорту. Рассказывают, что этот непредусмотренный аэропорт почему-то находился на Мальте. Раздосадованных пассажиров выводят на летное поле и провожают в зал ожидания.
А в фюзеляже самолета тем временем происходит что-то очень странное: какие-то господа роются в багажном отсеке, находят нужный им чемодан, извлекают оттуда толстую рукопись, тащат ее в здание аэропорта, в укромную комнату, где уже приготовлен фотоаппарат и расставлены специальные лампы.
Через два часа неудачливых пассажиров отводят обратно на летное поле, снова включаются моторы, и стальная птица, как ни в чем не бывало, продолжает свой турбовинтовой путь в пункт Б, будто и не ломалась по пути.
Происходила эта история на Мальте или в каком-то другом аэропорту, а может, и не происходила вовсе – как говорится, кто знает об этом точно, пусть поднимет руку. Но рассказывался этот эпизод не раз, разными людьми, в разное время и при разных обстоятельствах. И будто бы, говорили некоторые рассказчики, эту операцию с блеском провели не американские, а именно британские спецслужбы. В связке со своими заморскими коллегами.
Настаивать на достоверности этой легенды я не буду, однако факт остается фактом: у ЦРУ в руках появился текст романа. Точь-в-точь фельтринеллиевский.
Предстояло его спешно издать. Причем тайком от Жаклин.








