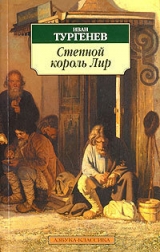
Текст книги "Степной король Лир"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
XXVI
Дождик перестал, но ветер дул с удвоенной силой – прямо мне навстречу. На полдороге седло подо мною чуть не перевернулось, подпруга ослабла; я слез и принялся зубами натягивать ремни... Вдруг слышу: кто-то зовет меня по имени... Сувенир бежал ко мне по зеленям.
– Что, батенька, – кричал он мне еще издали, – любопытство одолело? Да и нельзя... Вот и я туда же, прямиком, по харловскому следу... Ведь этакой штуки умрешь – не увидишь!
– На дело рук своих хотите полюбоваться, – промолвил я с негодованием, вскочил на лошадь и снова поднял ее в галоп; но неугомонный Сувенир не отставал от меня и даже на бегу хохотал и кривлялся. Вот наконец и Еськово – вот и плотина, а там длинный плетень и ракитник усадьбы... Я подъехал к воротам, слез, привязал лошадь и остановился в изумлении.
От передней трети крыши на новом флигельке, от мезонина, оставался один остов; дрань и тесины лежали беспорядочными грудами с обеих сторон флигеля на земле. Положим, крыша была, по выражению Квицинского, лядащая; но все же дело было невероятное! По настилке чердака, вздымая пыль и сор, неуклюже-проворно двигалась исчерна-серая масса и то раскачивала оставшуюся, из кирпича сложенную, трубу (другая уже повалилась), то отдирала тесину и бросала ее книзу, то хваталась за самые стропила. То был Харлов. Совершенным медведем показался он мне и тут: и голова, и спина, и плечи – медвежьи, и ставил он ноги широко, не разгибая ступни – тоже по-медвежьему. Резкий ветер обдувал его со всех сторон, вздымая его склоченные волосы; страшно было видеть, как местами краснело его голое тело сквозь прорехи разорванного платья; страшно было слышать его дикое, хриплое бормотание. На дворе было людно; бабы, мальчишки, дворовые девки жались вдоль забора; несколько крестьян сбилось поодаль в отдельную кучу. Знакомый мне старик поп стоял без шляпы на крыльце другого флигеля и, схватив медный крест обеими руками, время от времени молча и безнадежно поднимал и как бы показывал его Харлову. Рядом с попом стояла Евлампия и, прислонившись спиною к стене, неподвижно смотрела на отца; Анна то высовывала голову из окошка, то исчезала, то выскакивала на двор, то возвращалась в дом; Слёткин – весь бледный, желтый, в старом шлафроке, в ермолке, с одноствольным ружьем в руках, перебегал короткими шагами с места на место. Он совсем, как говорится, ожидовел; задыхался, грозился, трясся, целился в Харлова, потом закидывал ружье за плечо, – целился опять, кричал, плакал... Увидав меня с Сувениром, он так и ринулся к нам.
– Посмотрите, посмотрите, что тут происходит! – завизжал он, – посмотрите! Он с ума сошел, взбеленился... и вот что делает! Я уж за полицией послал – да никто не едет! Никто не едет! Ведь если я в него выстрелю, с меня закон взыскать не может, потому что всякий человек вправе защищать свою собственность! А я выстрелю!.. Ей-богу, выстрелю!
Он подскочил к дому.
– Мартын Петрович, берегитесь! Если вы не сойдете, – я выстрелю!
– Стреляй! – раздался с крыши хриплый голос. – Стреляй! А вот тебе пока гостинец!
Длинная доска полетела сверху и, перевернувшись раза два на воздухе, брякнулась наземь у самых ног Слёткина. Тот так и взвился, а Харлов захохотал.
– Господи Иисусе! – пролепетал кто-то за моей спиною. Я оглянулся: Сувенир. «А! – подумал я, – перестал теперь смеяться!»
Слёткин схватил близ стоявшего мужика за шиворот.
– Да полезай, полезай же, полезайте, черти, – вопил он, тряся его изо всей силы, – спасайте мое имущество!
Мужик ступил раза два, закинул голову, помахал руками, закричал:
– Эй, вы! господин! – потолокся на месте и верть назад.
– Лестницу! лестницу несите! – обратился Слёткин к прочим крестьянам.
– А где ее взять? – послышалось ему в ответ.
– И хоть бы лестница была, – промолвил не спеша один голос, – кому ж охота лезть? Нашли дураков! Он те шею свернет – мигом!
– С’час убиеть, – проговорил один молодой белокурый парень с придурковатым лицом.
– А то нешто нет? – подхватили остальные. Мне показалось, что, не будь даже явной опасности, мужики все-таки неохотно исполнили бы приказание своего нового помещика. Чуть ли не одобряли они Харлова, хоть и удивлял он их.
– Ах вы, разбойники! – застонал Слёткин, – вот я вас всех...
Но тут с тяжким грохотом бухнула последняя труба, и среди мгновенно взвившегося облака желтой пыли Харлов, испустив пронзительный крик и высоко подняв окровавленные руки, повернулся к нам лицом. Слёткин опять в него прицелился.
Евлампия одернула его за локоть.
– Не мешай! – свирепо вскинулся он на нее.
– А ты – не смей! – промолвила она, – и синие ее глаза грозно сверкнули из-под надвинутых бровей. – Отец свой дом разоряет. Его добро.
– Врешь: наше!
– Ты говоришь: наше; а я говорю: его.
Слёткин зашипел от злобы; Евлампия так и уперлась ему в лицо глазами.
– А, здорово! здорово, дочка любезная! – загремел сверху Харлов. – Здорово, Евлампия Мартыновна! Как живешь-можешь со своим приятелем? Хорошо ли целуетесь, милуетесь?
– Отец! – послышался звучный голос Евлампии.
– Что, дочка? – отвечал Харлов и пододвинулся к самому краю стены. На лице его, сколько я мог разобрать, появилась странная усмешка, – светлая, веселая, – и именно потому особенно страшная, недобрая усмешка... Много лет спустя я видел такую же точно усмешку на лице одного к смерти приговоренного.
– Перестань, отец; сойди (Евлампия не говорила ему «батюшка»). Мы виноваты; все тебе возвратим. Сойди.
– А ты что за нас распоряжаешься? – вмешался Слёткин. Евлампия только пуще брови нахмурила.
– Я свою часть тебе возвращу – все отдам. Перестань, сойди, отец! Прости нас; прости меня.
Харлов все продолжал усмехаться.
– Поздно, голубушка, – заговорил он, и каждое его слово звенело, как медь. – Поздно шевельнулась каменная твоя душа! Под гору покатилось – теперь не удержишь! И не смотри ты на меня теперь! Я – пропащий человек! Ты посмотри лучше на своего Володьку: вишь, какой красавчик выискался! Да на свою эхиденную сестру посмотри; вон ее лисий нос из окошка выставляется, вон она муженька-то подуськивает! Нет, сударики! Захотели вы меня крова лишить – так не оставлю же я и вам бревна на бревне! Своими руками клал, своими же руками разорю – как есть одними руками! Видите, и топора не взял!
Он фукнул себе на обе ладони и опять ухватился за стропила.
– Полно, отец, – говорила меж тем Евлампия, и голос ее стал как-то чудно ласков, – не поминай прошлого. Ну, поверь же мне; ты всегда мне верил. Ну, сойди; приди ко мне в светелку, на мою постель мягкую. Я обсушу тебя да согрею; раны твои перевяжу, вишь, ты руки себе ободрал. Будешь ты жить у меня, как у Христа за пазухой, кушать сладко, а спать еще слаще того. Ну, были виноваты! ну, зазнались, согрешили; ну, прости!
Харлов покачал головою.
– Расписывай! Поверю я вам, как бы не так! Убили вы во мне веру-то! Все убили! Был я орлом – и червяком для вас сделался... а вы – и червяка давить? Полно! Я тебя любил, сама знаешь, – а только теперь ты мне не дочь и я тебе не отец... Я пропащий человек! Не мешай! А ты стреляй же, трус, горе-богатырь! – гаркнул вдруг Харлов на Слёткина. – Что все только целишься? Али закон вспомнил: коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя, – заговорил Харлов с расстановкой, – то датель властен все назад потребовать? Ха-ха, не бойся, законник! Я не потребую – я сам все покончу... Валяй!
– Отец! – в последний раз взмолилась Евлампия.
– Молчи!
– Мартын Петрович! братец, простите великодушно! – пролепетал Сувенир.
– Отец, голубчик!
– Молчи, сука! – крикнул Харлов. На Сувенира он и не посмотрел – и только сплюнул в его сторону.
XXVII
В это мгновенье Квицинский со всей своей свитой – на трех телегах – появился у ворот. Усталые лошади фыркали, люди один за одним соскакивали в грязь.
– Эге! – закричал во все горло Харлов. – Армия... вот она, армия! Целую армию против меня выставляют. Хорошо же! Только предваряю, кто ко мне сюда на крышу пожалует – и того я вверх тормашками вниз спущу! Я хозяин строгий, не в пору гостей не люблю! Так-то!
Он уцепился обеими руками за переднюю пару стропил, за так называемые «ноги» фронтона, и начал усиленно их раскачивать. Свесившись с краю настилки, он как бы тащил их за собою, мерно напевая по-бурлацкому: «Еще разик! еще раз! ух!»
Слёткин подбежал к Квицинскому и начал было жаловаться и хныкать... Тот попросил его «не мешать» и приступил к исполнению задуманного им плана. Сам он стал впереди дома и начал, в виде диверсии, объяснять Харлову, что не дворянское он затеял дело...
– Еще разик, еще раз! – напевал Харлов.
...Что Наталья Николаевна весьма недовольна его поступками и не того от него ожидала...
– Еще разик, еще раз! ух! – напевал Харлов. А между тем Квицинский отрядил четырех самых здоровых и смелых конюхов на противоположную сторону дома, с тем чтобы они сзади взобрались на крышу. От Харлова, однако, не ускользнул план атаки; он вдруг бросил стропила и проворно побежал к задней части мезонина. Вид его до того был страшен, что два конюха, которые успели уже взобраться на чердак, мигом спустились обратно на землю по водосточной трубе, к немалому удовольствию и даже хохоту дворовых мальчишек. Харлов потряс им вслед кулаком и, вернувшись к передней части дома, опять ухватился за стропила и стал их опять раскачивать, опять напевая по-бурлацки.
Он вдруг остановился, во́ззрелся...
– Максимушка, друг! приятель! – воскликнул он, – тебя ли я вижу?
Я оглянулся... От толпы крестьян действительно отделился казачок Максимка и, ухмыляясь и скаля зубы, вышел вперед. Его хозяин, шорник, вероятно, отпустил его домой на побывку.
– Полезай ко мне, Максимушка, слуга мой верный, – продолжал Харлов, – станем вместе отбиваться от лихих татарских людей, от воров литовских!
Максимка, все продолжая ухмыляться, немедленно полез на крышу... Но его схватили и оттащили – бог знает почему – разве для примеру другим; помощи большой он Мартыну Петровичу не оказал бы.
– Ну, хорошо же! Добро же! – промолвил Харлов угрожающим голосом и снова взялся за стропила.
– Викентий Осипович! позвольте я выстрелю, – обратился Слёткин к Квицинскому, – я ведь больше для страха, ружье у меня заряжено бекасинником. – Но не успел еще ответить ему Квицинский, как передняя пара стропил, яростно раскаченная железными руками Харлова, накренилась, затрещала и рухнула на двор – и вместе с нею, не будучи в силах удержаться, рухнул сам Харлов и грузно треснулся оземь. Все вздрогнули, ахнули... Харлов лежал неподвижно на груди, а в спину ему уперся продольный верхний брус крыши, конек, который последовал за упавшим фронтоном.
XXVIII
К Харлову подскочили, свалили долой с него брус, повернули его навзничь; лицо его было безжизненно, у рта показалась кровь, он не дышал. «Дух отшибло», – пробормотали подошедшие мужики. Побежали за водой к колодцу, принесли целое ведро, окатили Харлову голову; грязь и пыль сошли с лица, но безжизненный вид оставался тот же. Притащили скамейку, поставили ее у самого флигеля и, с трудом приподнявши громадное тело Мартына Петровича, посадили его, прислонив голову к стене. Казачок Максимка приблизился, стал на одно колено и, далеко отставив другую ногу, как-то театрально поддерживал руку бывшего своего барина. Евлампия, бледная как сама смерть, стала прямо перед отцом, неподвижно устремив на него свои огромные глаза. Анна с Слёткиным не подходили близко. Все молчали, все ждали чего-то. Наконец послышались прерывистые, хлюпающие звуки в горле Харлова, точно он захлебывался... Потом он слабо повел одной – правой рукой (Максимка поддерживал левую), раскрыл один – правый глаз и, медленно проведя около себя взором, словно каким-то страшным пьянством пьяный, охнул – произнес картавя:
– Рас... шибся... – и, как бы подумав немного, прибавил: – Вот он, воро... ной жере... бенок! – Кровь вдруг густо хлынула у него изо рта – все тело затрепетало...
«Конец!» – подумал я... Но Харлов открыл еще все тот же правый глаз (левая века не шевелилась, как у мертвеца) и, вперив его на Евлампию, произнес едва слышно: – Ну, доч... ка... Тебя я не про... – Квицинский резким движением руки подозвал попа, который все еще стоял на крыльце флигеля... Старик приблизился, путаясь слабыми коленями в тесной рясе. Но вдруг ноги Харлова как-то безобразно повело и живот тоже; по лицу, снизу вверх, прошла неровная судорога – точно так же исказилось и задрожало лицо Евлампии. Максимка начал креститься... Мне стало жутко, я побежал к воротам и, не оглядываясь, приник к ним грудью. Минуту спустя что-то тихо прогудело по всем устам сзади меня – и я понял, что Мартына Петровича не стало.
Ему брусом затылок проломило, и грудь он себе раздробил, как оказалось при вскрытии.
XXIX
«Что он хотел сказать ей умирая?» – спрашивал я самого себя, возвращаясь домой на своем клеппере: «Я тебя не про... клинаю? или не про... щаю?» Дождик опять полил, но я ехал шагом. Мне хотелось подольше остаться одному, хотелось безвозбранно предаться моим размышлениям. Сувенир отправился на одной из телег, прибывших с Квицинским. Как я ни был молод и легкомыслен в то время, но внезапная, общая (не в одних частностях) перемена, постоянно вызываемая во всех сердцах неожиданным или ожиданным (все равно!) появлением смерти, ее торжественность, важность и правдивость – не могли не поразить меня. Я и был поражен... но со всем тем мой смущенный детский взор заметил тотчас многое: он заметил, как Слёткин, проворно и робко, словно краденую вещь, швырнул в сторону ружье, как он и жена его оба мгновенно стали предметом хотя безмолвного, но общего отчуждения, как сделалось пусто вокруг них... На Евлампию, хотя вина ее была, вероятно, не меньше сестриной, это отчуждение не распространялось. Она даже некоторое сожаление к себе возбудила, когда повалилась в ноги скончавшемуся отцу. Но что и она была виновата, – это все-таки чувствовалось всеми. «Обидели старика, – промолвил один седоватый головастый крестьянин, опираясь, как некий древний судья, обеими руками и бородою на длинную палку, – на вашей душе грех! Обидели!» Это слово «обидели!» тотчас было принято всеми, как бесповоротный приговор. Правосудие народное сказалось, я понял это немедленно. Я заметил также, что на первых порах Слёткин не смелраспоряжаться. Без него подняли и понесли тело в дом; не спросясь его, священник отправился за нужными вещами в церковь, а староста побежал в деревню справлять подводу в город. Сама Анна Мартыновна не решилась обычным начальническим тоном приказать поставить самовар, «чтоб теплая вода была – обмыть покойника». Ее приказание походило на просьбу – и отвечали ей грубо...
Меня же все занимал вопрос: что он, собственно, хотел сказать своей дочери? Простить ли он ее хотел или проклясть? Я решил наконец, что – простить.
Дня через три происходили похороны Мартына Петровича на счет матушки, которая очень огорчилась его смертью и приказала не жалеть издержек. Сама она не поехала в церковь, – потому что не хотела, как она выражалась, видеть тех двух мерзавок и гадкого того жиденка; но послала Квицинского, меня и Житкова, которого, впрочем, с того времени иначе уже не величала, как бабой! Сувенира она на глаза к себе не пускала и долго потом еще гневалась на него, называя его убийцей своего друга. Опала эта была ему весьма чувствительна: он постоянно расхаживал на цыпочках по комнате, соседней с той, где находилась матушка, предавался какой-то тревожной и подлой меланхолии, вздрагивал и шептал: «Чичас!»
В церкви и во время процессии Слёткин показался мне снова попавшим «в свою тарелку». Он распоряжался и суетился по-прежнему и жадно наблюдал за тем, чтобы не тратилось лишней копейки, хотя дело не касалось собственно его кармана. Максимка, в новом, тоже моей матушкой пожалованном казакине, выводил на клиросе такие теноровые ноты, что в искренности его преданности покойнику, конечно, уже никто сомневаться не мог! Обе сестры были, как следует, в траурных платьях – но казались более смущенными, чем огорченными, особенно Евлампия. Анна приняла на себя смиренный и постный вид, впрочем, не силилась плакать и все только проводила своей красивой сухой рукой по волосам и щеке. Евлампия все задумывалась. То общее, бесповоротное отчуждение, осуждение, какое я заметил в день смерти Харлова, чудилось мне и теперь на всех лицах бывших в церкви людей, во всех их движеньях, в их взглядах, – но еще степеннее и как бы безучастнее. Казалось, все эти люди знали, что грех, в который впало харловское семейство, – тот великий грех поступил теперь в ведение единого праведного Судии и что, следовательно, им уже не для чего было беспокоиться и негодовать. Они усердно молились за душу покойника, которого при жизни особенно не любили, даже боялись. Очень уже круто наступила смерть.
– И хоть бы испивал, братец ты мой, – говорил на паперти один мужик другому.
– И не пимши да захмелеешь, – отвечал тот. – Каков случай выдет.
– Обидели, – повторил первый мужик решающее слово.
– Обидели, – промолвили за ним другие.
– А ведь покойный сам вас притеснял? – спросил я одного мужика, в котором я признал харловского крестьянина.
– Барин был, известно, – отвечал мужик, – а все-таки... обидели его!
– Обидели... – опять послышалось в толпе.
У могилы Евлампия стояла тоже словно потерянная. Раздумье ее разбирало... тяжкое раздумье. Я заметил, что с Слёткиным, который несколько раз с ней заговаривал, она обращалась, как, бывало, с Житковым, и еще хуже.
Несколько дней спустя в нашем околотке распространился слух, что Евлампия Мартыновна Харлова навсегда ушла из родительского дома, предоставив сестре и свояку все доставшееся ей имение и взявши только несколько сот рублей...
– Откупилась, видно, Анна-то! – заметила моя матушка, – только у нас с тобою, – прибавила она, обратившись к Житкову, с которым играла в пикет – он заменил ей Сувенира, – руки неумелые!
Житков уныло глянул на свои мощные длани... «Они-то, неумелые!» – казалось, думалось ему...
Скоро потом мы с матушкой переехали на жительство в Москву – и много минуло лет, прежде чем мне пришлось увидеть обеих дочерей Мартына Петровича.
XXX
Но я увидал их. С Анной Мартыновной я встретился самым обыкновенным образом. Посетив, после кончины матушки, нашу деревню, в которую я не заезжал больше пятнадцати лет, я получил от посредника приглашение (тогда по всей России, с незабытой доселе медленностью, происходило размежевание чересполосицы) – приглашение прибыть для совещания, с прочими владельцами нашей дачи, в имение помещицы вдовы Анны Слёткиной. Известие о несуществовании более на сем свете матушкина «жиденка» с черносливообразными глазами нисколько, признаюсь, меня не опечалило; но мне было интересно взглянуть на его вдову. Она слыла у нас за отличнейшую хозяйку. И точно: ее имение, и усадьба, и самый дом (я невольно взглянул на крышу, она была железная) – все оказалось в превосходном порядке, все было аккуратно, чисто, прибрано, где нужно – выкрашено, хоть бы у немки. Сама Анна Мартыновна, конечно, постарела; но та особенная, сухая и как бы злая прелесть, которая некогда так меня возбуждала, не совсем ее покинула. Одета она была по-деревенскому, но изящно. Она приняла нас не радушно – это слово к ней не шло, – но вежливо и, увидав меня, свидетеля того страшного происшествия, даже бровью не повела. Ни о моей матушке, ни о своем отце, ни о сестре, ни о муже она даже не заикнулась, точно воды в рот набрала.
Были у ней две дочери, обе прехорошенькие, стройненькие, с милыми личиками, с веселым и ласковым выражением в черных глазах; был и сын, немножко смахивавший на отца, но тоже мальчик хоть куда! Во время прений между владельцами Анна Мартыновна держалась спокойно, с достоинством, не выказывая ни особенного упорства, ни особенного корыстолюбия. Но никто вернее ее не понимал своих выгод и не умел убедительнее выставлять и защищать свои права; все «подходящие» законы, даже министерские циркуляры были ей хорошо известны; говорила она немного и тихим голосом, но каждое слово попадало в цель. Кончилось тем, что мы на все ее требования изъявили согласие и таких понаделали уступок, что оставалось только удивляться. На возвратном пути иные господа помещики даже самих себя выругали; все кряхтели и покачивали головами.
– Экая баба умница! – говорил один.
– Продувная шельма! – вмешался другой, менее деликатный владелец, – мягко стелет, да жестко спать!
– Да и скряга же! – прибавил третий, – рюмка водки и кусочек икры на брата – это что же такое?
– Чего от нее ждать? – брякнул вдруг один, до того безмолвный помещик, – кому же не известно, что она мужа своего отравила?
К удивлению моему, никто не почел нужным опровергнуть такое ужасное, наверное, ни на чем не основанное обвинение! Это тем более меня удивило, что, несмотря на приведенные мною бранчивые выражения, уважение к Анне Мартыновне чувствовали все, не исключая неделикатного владельца. Посредник, тот даже в пафос впал.
– Возведи ее на трон, – воскликнул он, – та же Семирамида или Екатерина Вторая! Повиновение крестьян – образцовое... Воспитание детей – образцовое! Голова! Мозги!
Семирамиду и Екатерину в сторону, – но не было сомнения в том, что Анна Мартыновна вела жизнь весьма счастливую. Довольством внутренним и внешним, приятной тишиной душевного и телесного здоровья так и веяло от нее самой, от ее семьи, от всего ее быта. Насколько она заслуживала это счастье... это другой вопрос. Впрочем, подобные вопросы ставятся только в молодости. Все на свете – и хорошее и дурное – дается человеку не по его заслугам, а вследствие каких-то еще не известных, но логических законов, на которые я даже указать не берусь, хоть иногда мне кажется, что я смутно чувствую их.








