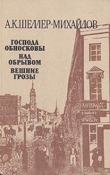Текст книги "Вешние воды (с цв. илл.)"
Автор книги: Иван Тургенев
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
XXIX
Если бы Джемма объявила, что привела с собою холеру или самую смерть, фрау Леноре, должно полагать, не могла бы с большим отчаянием принять это известие. Она немедленно села в угол, лицом к стене, – и залилась слезами, почти заголосила, ни дать ни взять русская крестьянка над гробом мужа или сына. На первых порах Джемма до того смутилась, что даже не подошла к матери – и остановилась, как статуя, посреди комнаты; а Санин совсем потерялся – хоть самому удариться в слезы! Целый час продолжался этот безутешный плач: целый час! Панталеоне почел за лучшее запереть наружную дверь кондитерской, как бы кто чужой не вошел – благо, пора стояла ранняя. Старик сам чувствовал недоумение – и во всяком случае не одобрял поспешности, с которой поступили Джемма и Санин, а, впрочем, осуждать их не решался и готов был оказать им покровительство – в случае нужды: уж очень не любил он Клюбера! Эмиль считал себя посредником между своим другом и сестрой – и чуть не гордился тем, что как это все превосходно удалось! Он никак не в состоянии был понять, чего фрау Леноре так убивается, и в сердце своем он тут же решил, что женщины, даже самые лучшие, страдают отсутствием сообразительной способности! Санину приходилось хуже всех. Фрау Леноре поднимала вопль и отмахивалась руками, как только он приближался к ней, – и напрасно он попытался, стоя в отдалении, несколько раз громко воскликнуть: «Прошу руки вашей дочери!» Фрау Леноре особенно досадовала на себя за то, что «как могла она быть до того слепою – и ничего не видеть!» «Был бы мой Джиован'Баттиста жив, – твердила она сквозь слезы, – ничего бы этого не случилось!» – «Господи, что же это такое? – думал Санин, – ведь это глупо наконец!» Ни сам он не смел взглянуть на Джемму, ни она не решалась поднять на него глаза. Она ограничивалась тем, что терпеливо ухаживала за матерью, которая сначала и ее отталкивала…
Наконец, мало-помалу буря утихла. Фрау Леноре перестала плакать, дозволила Джемме вывести ее из угла, куда она забилась, усадить ее в кресло возле окна и дать ей напиться воды с флердоранжем; дозволила Санину – не приблизиться… о нет! – но по крайней мере остаться в комнате (прежде она все требовала, чтобы он удалился) и не перебивала его, когда он говорил. Санин немедленно воспользовался наступившим штилем – и выказал красноречие изумительное: едва ли бы сумел он с таким жаром и с такой убедительностью изложить свои намерения и свои чувства перед самой Джеммой. Эти чувства были самые искренние, эти намерения – самые чистые, как у Альмавивы в «Севильском цирюльнике».
Он не скрывал ни от фрау Леноры, ни от самого себя невыгодной стороны этих намерений; но эти невыгоды были только кажущиеся! Правда: он чужестранец, с ним недавно познакомились, не знают ничего положительного ни об его личности, ни об его средствах; но он готов привести все нужные доказательства того, что он человек порядочный и не бедный; он сошлется на самые несомненные свидетельства своих соотчичей! Он надеется, что Джемма будет счастлива с ним и что он сумеет усладить ей разлуку с родными!.. Упоминовение разлуки – одно это слово: «разлука» – чуть было не испортило всего дела… Фрау Леноре так и затрепетала вся и заметалась… Санин поспешил заметить, что разлука будет только временная – и что наконец, быть может, ее не будет вовсе!
Красноречие Санина не пропало даром. Фрау Леноре начала взглядывать на него, хотя все еще с горестью и упреком, но уже не с прежним отвращением и гневом; потом она позволила ему подойти и даже сесть возле нее (Джемма сидела по другую сторону); потом она стала упрекать его – не одними взорами, но словами, что уже означало некоторое смягчение ее сердца; она стала жаловаться, и жалобы ее становились все тише и мягче; они чередовались вопросами, обращенными то к дочери, то к Санину; потом она позволила ему взять ее за руку и не тотчас отняла ее… потом она заплакала опять – но уже совсем другими слезами… потом она грустно улыбнулась и пожалела об отсутствии Джиован'Баттиста, но уже в другом смысле, чем прежде… Прошло еще мгновенье – и оба преступника – Санин и Джемма – уже лежали на коленях у ног ее, и она клала им поочередно свои руки на головы; прошло другое мгновенье – и они уже обнимали и целовали ее, и Эмиль, с сияющим от восторга лицом, вбежал в комнату и тоже бросился к тесно сплоченной группе.
Панталеоне глянул в комнату, ухмыльнулся и нахмурился в одно и то же время – и, отправившись в кондитерскую, отпер наружную дверь.
XXX
Переход от отчаяния к грусти, а от нее к «тихой резиньяции» совершился довольно скоро в фрау Леноре; но и эта тихая резиньяция не замедлила превратиться в тайное довольство, которое, однако, всячески скрывалось и сдерживалось ради приличия. Санин с первого дня знакомства пришелся по нутру фрау Леноре; свыкшись с мыслию, что он будет ее зятем, она уже не находила в ней ничего особенно неприятного, хотя и считала долгом сохранять на лице своем несколько обиженное… скорей озабоченное выражение. К тому же все, что произошло в последние дни, было так необычайно… Одно к одному! Как женщина практическая и как мать, фрау Леноре почла также своим долгом подвергнуть Санина разнообразным вопросам, и Санин, который, отправляясь утром на свидание с Джеммой, и в помыслах не имел, что он женится на ней, – правда, он ни о чем тогда не думал, а только отдавался влечению своей страсти, – Санин с полной готовностью и, можно сказать, с азартом вошел в свою роль, роль жениха, и на все расспросы отвечал обстоятельно, подробно, охотно. Удостоверившись, что он настоящий, природный дворянин, и даже несколько удивившись тому, что он не князь, фрау Леноре приняла серьезный вид и – «предупредила его заранее», что будет с ним совершенно бесцеремонно откровенна, потому что к этому принуждает ее священная обязанность матери! – на что Санин отвечал, что он от нее иного не ожидал, и сам ее убедительно просит – не щадить его!
Тогда фрау Леноре заметила ему, что г-н Клюбер (произнесши это имя, она слегка вздохнула и сжала губы и запнулась) – г-н Клюбер, бывший Джеммин жених, уже теперь обладает восемью тысячами гульденов дохода – и с каждым годом эта сумма будет быстро увеличиваться, – а его, г-на Санина, каков доход?
– Восемь тысяч гульденов, – повторил протяжно Санин… – Это на наши деньги – около пятнадцати тысяч рублей ассигнациями… Мой доход гораздо меньше. У меня есть небольшое имение в Тульской губернии… При хорошо устроенном хозяйстве оно может дать – и даже непременно должно дать тысяч пять или шесть… Да если я поступлю на службу – я легко могу получить тысячи две жалованья.
– На службу в России? – воскликнула фрау Леноре. – Я, стало быть, должна расстаться с Джеммой!
– Можно будет определиться по дипломатической части, – подхватил Санин, – у меня есть некоторые связи… Тогда служба происходит за границей. А то вот еще что можно будет сделать – и это гораздо лучше всего: продать имение и употребить вырученный капитал на какое-нибудь выгодное предприятие, например, на усовершенствование вашей кондитерской. – Санин и чувствовал, что говорит нечто несообразное, но им овладела непонятная отвага! Он глянет на Джемму, которая с тех пор, как начался «практический» разговор, то и дело вставала, ходила по комнате, садилась опять, – глянет он на нее – и нет для него препятствий, и готов он устроить все, сейчас, самым лучшим образом, лишь бы она не тревожилась!
– Господин Клюбер тоже хотел дать мне небольшую сумму на поправку кондитерской, – промолвила, после небольшого колебания, фрау Леноре.
– Матушка! ради бога! матушка! – воскликнула Джемма по-итальянски.
– Об этих вещах надо говорить заблаговременно, дочь моя, – отвечала ей фрау Леноре на том же языке.
Она снова обратилась к Санину и стала его расспрашивать о том, какие законы существуют в России насчет браков и нет ли препятствий для вступления в супружество с католичками – как в Пруссии? (В то время, в сороковом году, вся Германия еще помнила ссору прусского правительства с кельнским архиепископом из-за смешанных браков.) Когда же фрау Леноре услыхала, что, выйдя замуж за русского дворянина, ее дочь сама станет дворянкой, – она выказала некоторое удовольствие.
– Но ведь вы должны сперва отправиться в Россию?
– Зачем?
– А как же? Получить позволение от вашего государя?
Санин объяснил ей, что это вовсе не нужно… но что, быть может, ему точно придется перед свадьбой съездить на самое короткое время в Россию (он сказал эти слова – и сердце в нем болезненно сжалось, глядевшая на него Джемма поняла, что оно сжалось, и покраснела и задумалась) – и что он постарается воспользоваться своим пребыванием на родине, чтобы продать имение… во всяком случае, он вывезет оттуда нужные деньги.
– Я бы также попросила вас привезти мне оттуда астраханские хорошие мерлушки на мантилью, – проговорила фрау Леноре. – Они там, по слухам, удивительно хороши и удивительно дешевы!
– Непременно, с величайшим удовольствием привезу и вам, и Джемме! – воскликнул Санин.
– А мне вышитую серебром сафьянную шапочку, – вмешался Эмиль, выставив голову из соседней комнаты.
– Хорошо – привезу и тебе… и Панталеоне туфли.
– Ну к чему это? к чему? – заметила фрау Леноре. – Мы говорим теперь о серьезных вещах. Но вот еще что, – прибавила практическая дама. – Вы говорите: продать имение. Но как же вы это сделаете? Вы, стало быть, и крестьян тоже продадите?
Санина точно что в бок кольнуло. Он вспомнил, что, разговаривая с г-жой Розелли и ее дочерью о крепостном праве, которое, по его словам, возбуждало в нем глубокое негодование, он неоднократно заверял их, что никогда и ни за что своих крестьян продавать не станет, ибо считает подобную продажу безнравственным делом.
– Я постараюсь продать мое имение человеку, которого я буду знать с хорошей стороны, – произнес он не без запинки, – или, быть может, сами крестьяне захотят откупиться.
– Это лучше всего, – согласилась и фрау Леноре. – А то продавать живых людей…
– Barbari![40]40
Варвары! (ит.).
[Закрыть] – проворчал Панталеоне, который, вслед за Эмилем, показался было у дверей, тряхнул тупеем и скрылся.
«Скверно!» – подумал про себя Санин – и украдкой поглядел на Джемму. Она, казалось, не слышала его последних слов. «Ну ничего!» – подумал он опять.
Таким манером продолжался практический разговор почти вплоть до самого обеда. Фрау Леноре совсем укротилась под конец – и называла уже Санина Дмитрием, ласково грозила ему пальцем и обещалась отомстить за его коварство. Много и подробно расспрашивала она об его родне, потому что – «это тоже очень важно»; потребовала также, чтобы он описал ей церемонию брака, как он совершается по обряду русской церкви, – и заранее восхищалась Джеммой в белом платье, с золотой короной на голове.
– Ведь она у меня красива, как королева, – промолвила она с материнской гордостью, – да и королев таких на свете нет!
– Другой Джеммы на свете нет! – подхватил Санин.
– Да; оттого-то она и – Джемма! (Известно, что на итальянском языке Джемма значит: драгоценный камень.)
Джемма бросилась целовать свою мать… Казалось, только теперь она вздохнула свободно – и удручавшая ее тяжесть спала с ее души.
А Санин вдруг почувствовал себя до того счастливым, такою детскою веселостью наполнилось его сердце при мысли, что вот сбылись же, сбылись те грезы, которым он недавно предавался в тех же самых комнатах; все существо его до того взыграло, что он немедленно отправился в кондитерскую; он пожелал непременно, во что бы то ни стало, поторговать за прилавком, как несколько дней тому назад… «Я, мол, имею полное теперь на это право! Я ведь теперь домашний человек!»
И он действительно стал за прилавок и действительно поторговал, то есть продал двум зашедшим девочкам фунт конфект, вместо которого он им отпустил целых два, взявши с них только полцены.
За обедом он официально, как жених, сидел рядом с Джеммой. Фрау Леноре продолжала свои практические соображения. Эмиль то и дело смеялся и приставал к Санину, чтобы тот его взял с собой в Россию. Было решено, что Санин уедет через две недели. Один Панталеоне являл несколько угрюмый вид, так что даже фрау Леноре ему попеняла: «А еще секундантом был!» – Панталеоне взглянул исподлобья.
Джемма молчала почти все время, но никогда ее лицо не было прекраснее и светлее. После обеда она отозвала Санина на минуту в сад и, остановившись около той самой скамейки, где она третьего дня отбирала вишни, сказала ему:
– Димитрий, не сердись на меня; но я еще раз хочу напомнить тебе, что ты не должен почитать себя связанным…
Он не дал ей договорить…
Джемма отклонила свое лицо.
– А насчет того, что мама упомянула – помнишь? – о различии нашей веры, то вот!..
Она схватила гранатовый крестик, висевший у нее на шее на тонком шнурке, сильно дернула и оборвала шнурок – и подала ему крестик.
– Если я твоя, так и вера твоя – моя вера!
Глаза Санина были еще влажны, когда он вместе с Джеммой вернулся в дом.
К вечеру все пришло в обычную колею. Даже в тресетте поиграли.
XXXI
Санин проснулся очень рано на следующий день. Он находился на высшей степени человеческого благополучия; но не это мешало ему спать; вопрос, жизненный, роковой вопрос: каким образом он продаст свое имение как можно скорее и как можно выгоднее – тревожил его покой. В голове его скрещивались различнейшие планы, но ничего пока еще не выяснилось. Он вышел из дому, чтобы проветриться, освежиться. С готовым проектом – не иначе – хотел он предстать перед Джеммой.
Что это за фигура, достаточно грузная и толстоногая, впрочем, прилично одетая, идет перед ним, слегка переваливаясь и ковыляя? Где видел он этот затылок, поросший белобрысыми вихрами, эту голову, как бы насаженную прямо на плечи, эту мягкую, жирную спину, эти пухлые отвислые руки? Неужели это – Полозов, его старинный пансионский товарищ, которого он уже вот пять лет, как потерял из виду? Санин обогнал шедшую перед ним фигуру, обернулся… Широкое, желтоватое лицо, маленькие свиные глазки с белыми ресницами и бровями, короткий, плоский нос, крупные, словно склеенные губы, круглый, безволосый подбородок – и это выражение всего лица, кислое, ленивое и недоверчивое – да точно: это он, это Ипполит Полозов!
«Уже не опять ли моя звезда действует?» – мелькнуло в мыслях Санина.
– Полозов! Ипполит Сидорыч! Это ты?
Фигура остановилась, подняла свои крохотные глаза, подождала немного – и, расклеив, наконец, свои губы, проговорила сиповатой фистулой:
– Дмитрий Санин?
– Он самый и есть! – воскликнул Санин и пожал одну из рук Полозова; облеченные в тесные лайковые перчатки серо-пепельного цвета, они по-прежнему безжизненно висели вдоль его выпуклых ляжек. – Давно ли ты здесь? Откуда приехал? Где остановился?
– Я приехал вчера из Висбадена, – отвечал, не спеша, Полозов, – за покупками для жены – и сегодня же возвращаюсь в Висбаден.
– Ах, да! Ведь ты женат – и, говорят, на такой красавице!
Полозов повел в сторону глазами.
– Да, говорят.
Санин засмеялся.
– Я вижу, ты все такой же… флегматик, каким ты был в пансионе.
– На что я буду меняться?
– И говорят, – прибавил Санин с особым ударением на слово «говорят», – что твоя жена очень богата.
– Говорят и это.
– А тебе самому, Ипполит Сидорыч, разве это неизвестно?
– Я, брат, Дмитрий… Павлович? – да, Павлович! в женины дела не мешаюсь.
– Не мешаешься? Ни в какие дела?
Полозов опять повел глазами.
– Ни в какие, брат. Она – сама по себе… ну и я – сам по себе.
– Куда же ты теперь идешь? – спросил Санин.
– Теперь я никуда не иду; стою на улице и с тобой беседую; а вот как мы с тобой покончим, отправлюсь к себе в гостиницу и буду завтракать.
– Меня в товарищи – хочешь?
– То есть это ты насчет завтрака?
– Да.
– Сделай одолжение, есть вдвоем гораздо веселее. Ты ведь не говорун?
– Не думаю.
– Ну и ладно.
Полозов двинулся вперед, Санин отправился с ним рядом. И думалось Санину – губы Полозова опять склеились, он сопел и переваливался молча, – думалось Санину: каким образом удалось этому чурбану подцепить красивую и богатую жену? Сам он ни богат, ни знатен, ни умен; в пансионе слыл за вялого и тупого мальчика, за соню и обжору – и прозвище носил «слюняя». Чудеса!
«Но если жена его очень богата – сказывают, она дочь какого-то откупщика, – то не купит ли она мое имение? Хотя он и говорит, что ни в какие женины дела не входит, но ведь этому веры дать нельзя! Притом же и цену я назначу сходную, выгодную цену! Отчего не попытаться? Быть может, это все моя звезда действует… Решено! попытаюсь!»
Полозов привел Санина в одну из лучших гостиниц Франкфурта, в которой занимал уже, конечно, лучший номер. На столах и стульях громоздились картоны, ящики, свертки… «Все, брат, покупки для Марьи Николаевны!» (так звали жену Ипполита Сидорыча). Полозов опустился в кресло, простонал: «Эка жара!» – и развязал галстух. Потом позвонил обер-кельнера и тщательно заказал ему обильнейший завтрак. «А в час чтобы карета была готова! Слышите, ровно в час!»
Обер-кельнер подобострастно наклонился – и рабски исчез.
Полозов расстегнул жилет. По одному тому, как он приподнимал брови, отдувался и морщил нос, можно было видеть, что говорить будет для него большою тягостью и что он не без некоторой тревоги ожидал, заставит ли его Санин ворочать языком, или сам возьмет на себя труд вести беседу?
Санин понял настроение своего приятеля и потому не стал обременять его вопросами; ограничился лишь самым необходимым; узнал, что он два года состоял на службе (в уланах! то-то, чай, хорош был в коротком-то мундирчике!), три года тому назад женился – и вот уже второй год находится за границей с женой, «которая теперь от чего-то лечится в Висбадене», – а там отправляется в Париж. С своей стороны, Санин также мало распространялся о своей прошедшей жизни, о своих планах; он прямо приступил к главному – то есть заговорил о своем намерении продать имение.
Полозов слушал его молча, лишь изредка взглядывая на дверь, откуда должен был явиться завтрак. Завтрак явился наконец. Обер-кельнер, в сопровождении двух других слуг, принес несколько блюд под серебряными колпаками.
– Это в Тульской губернии имение? – промолвил Полозов, садясь за стол и затыкая салфетку за ворот рубашки.
– В Тульской.
– Ефремовского уезда… Знаю.
– Ты мою Алексеевну знаешь? – спросил Санин, тоже садясь за стол.
– Знаю, как же. – Полозов запихал себе в рот кусок яичницы с трюфелями. – У Марьи Николаевны – жены моей – по соседству есть имение… Откупорьте эту бутылку, кельнер! Земля порядочная – только мужики у тебя лес вырубили. Ты зачем же продаешь?
– Деньги нужны, брат. Я бы дешево продал. Вот бы тебе купить… Кстати.
Полозов проглотил стакан вина, утерся салфеткой и опять принялся жевать – медленно и шумно.
– Н-да, – проговорил он наконец… – Я имений не покупаю: капиталов нет. Пододвинь-ка масло. Разве вот жена купит. Ты с ней поговори. Коли дорого не запросишь – она этим не брезгает… Экие, однако, эти немцы – ослы! Не умеют рыбу сварить. Чего, кажется, проще? А еще толкуют: фатерланд, мол, объединить следует. Кельнер, примите эту мерзость!
– Неужели же твоя жена сама распоряжается… по хозяйству? – спросил Санин.
– Сама. Вот котлеты – хороши. Рекомендую. Я сказал тебе, Дмитрий Павлович, что ни в какие женины дела я не вхожу, и теперь тебе то же повторяю.
Полозов продолжал чавкать.
– Гм… Но как я с ней переговорить могу, Ипполит Сидорыч?
– А очень просто, Дмитрий Павлович. Отправляйся в Висбаден. Отсюда недалече. Кельнер, нет ли у вас английской горчицы? Нет? Скоты! Только времени не теряй. Мы послезавтра уезжаем. Позволь, я тебе налью рюмку: с букетом вино – не кислятина.
Лицо Полозова оживилось и покраснело; оно и оживлялось только тогда, когда он ел… или пил.
– Право же… я не знаю, как это сделать? – пробормотал Санин.
– Да что тебе так вдруг приспичило?
– То-то и есть, что приспичило, брат.
– И большая сумма нужна?
– Большая. Я… как бы это тебе сказать? я затеял… жениться.
Полозов поставил на стол рюмку, которую поднес было к губам.
– Жениться! – промолвил он хриплым, от изумленья хриплым, голосом и сложил свои пухлые руки на желудке. – Так скоропостижно?
– Да… скоро.
– Невеста – в России, разумеется?
– Нет, не в России.
– Где же?
– Здесь, во Франкфурте.
– И кто она?
– Немка; то есть нет – итальянка. Здешняя жительница.
– С капиталом?
– Без капитала.
– Стало быть, любовь уж очень сильная?
– Какой ты смешной! Да, сильная.
– И для этого тебе деньги нужны?
– Ну да… да, да.
Полозов проглотил вино, выполоскал себе рот и руки вымыл, старательно вытер их о салфетку, достал и закурил сигару. Санин молча глядел на него.
– Одно средство, – промычал наконец Полозов, закидывая назад голову и выпуская дым тонкой струйкой. – Ступай к жене. Она, коли захочет, всю беду твою руками разведет.
– Да как я ее увижу, жену твою? Ты говоришь, вы послезавтра уезжаете?
Полозов закрыл глаза.
– Знаешь, что я тебе скажу, – проговорил он наконец, вертя губами сигару и вздыхая. – Ступай-ка домой, снарядись попроворнее – да приходи сюда. В час я выезжаю, карета у меня просторная – я тебя с собой возьму. Этак всего лучше. А теперь я посплю. Я, брат, как поем, непременно поспать должен. Натура требует – и я не противлюсь. И ты не мешай мне.
Санин подумал, подумал – и внезапно поднял голову: он решился!
– Ну хорошо, согласен – и благодарю тебя. В половине первого я здесь – и мы отправимся вместе в Висбаден. Я надеюсь, жена твоя не рассердится…
Но Полозов уже сопел. Пролепетал: «Не мешай!» – поболтал ногами и заснул, как младенец.
Санин еще раз окинул взором его грузную фигуру, его голову, шею, его высоко поднятый, круглый, как яблоко, подбородок – и, выйдя из гостиницы, проворными шагами направился к кондитерской Розелли. Надо было предварить Джемму.