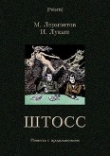Текст книги "Цветы ядовитые (Сборник)"
Автор книги: Иван Лукаш
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Иван Лукаш
ЦВЕТЫ ЯДОВИТЫЕ
Сборник


Я славлю!
Закованные в железо и медь легионы императора Цезаря,
ткань истлевших знамен старой гвардии, артиллерийский снаряд,
свист пуль, дробящих черепа и вырывающих мясо,
я славлю.
Траурный гимн полунощной заутрени, тихий звон шага под сводом собора,
запах ладана от риз парчевых, молитвенно-шумные вздохи органа,
и трепетанье светлых хоругвей с женственным ликом Христа
славлю я.
Нож, с размаха разящий быка в дымном смраде зал скотобойни —
я славлю.
Торреадора, сорвавшего в агонии жемчуговое шитье своей куртки,
груду кровавых, подернутых паром, кишек на арене и чернаго,
с розовой пеной у рта, быка, быка,
несущаго смерть на конце крученаго рога —
я славлю.
Землю, брошенную гигантскими пальцами,
как мяч в голубой провал вселенной и грохот движения круглых планет, —
славлю я.
Милую ласточку, мелькнувшую изящной тенью
под белым и сонным в сумерках озером,
Легкий девичий след на снегу, —
славлю я.
Душное дыханье орхидей и нарциссов,
Пламень ароматных желтых свечей черной мессы,
Воспаленныя губы, укус и сцепленный поток тел сплетенных
я славлю.
Тихую Христову рабыню, приносящую каждое утро
полевыя маргаритки и мирты к престолу Девы Марии, —
я славлю.
Я славлю Галла, жилистым кулаком разбившаго мраморную герму[1]1
…герму — Герма – обычно четырехгранный столб со скульптурной головой бога, героя, философа, государственного деятеля и т. п. Гермы, заимствованные римлянами у древних греков, несли защитную функцию, ставились на перекрестках дорог и улиц, на площадях, у оград, храмов, библиотек, гробниц и пр.
[Закрыть].
Волчью стаю бледных и безумных поджигателей храмов, музеев и фабрик —
я славлю.
Пыльную тишину переулков стараго города,
монету старинную, мертвый шелк бледной робы,
старинную книгу с застежками и с гравюрами
на шаршавой бумаге и пудренную пастораль —
я славлю!

БОЛЬНЫЯ ГРИМАСЫ
1. Сирень в граненом фиале
В то лето мы жили на даче.
Я помню, как тетя Рая, разсказала мне сказку про маленькую царевну.
Ее любил тихий паж, пришелец из стран заморских. В солнечной царевниной стране жил черный колдун. Он унес царевну из ея стеклянных покоев, а паж искал и в саду благоуханно-сиреневом царевна отозвалась пажу…
Жених сестры привез зеленый фиал ко дню ея рожденья. Я помню душистое дыханье сиреневых кудрей в фиале.
Мне было десять лет и я искал царевну.
Никто не отозвался мне из сирени – я разбил и граненый фиал. Лицо сестры изломалось старушечьей гримасой и стало злым. Мне больно было, но я молчал. Мне потому было больно, что никто не отозвался мне.
Я никогда, вероятно, – не встречу эту маленькую царевну. Она приходит ко мне только в тихих сиреневых снах.
2. Полишинель
Он смешной Полишинель – он всегда смеется.
Когда ему пунцово раскрашивали картонныя щеки и подрисовывали уголки тонких губ, – он смеялся. Он смеялся, когда ясноглазыя дети в игре помяли его горб и оторвали бубенцы колпака. Он смеялся за тяжелым комодом, брошенный в густую, серую пыль… Он и теперь смеется… Крысы отгрызли ему румяныя щеки, плеснь чердака разъела шутовской балахон. Один стеклянный глаз выбит, а другой щурится – такой блестящий, веселый. Смотрите! Он сейчас расхохочется этот смешной Полишинель.
3. Кареты
У факельщиков траурные кафтаны пахли нафталином и сыростью.
Черный гроб виделся мутным пятном между фонарей на катафалке. Было много карет. Оне тонули в мутных сумерках улиц, мерцали желтыми огнями сквозь прозрачный крэп. В каретах на твердых плюшевых подушках старухи сидели. У них лица в паутине морщинок и золотые колечки на костлявых пальцах…
Кареты, кареты… Много карет.
Черныя блестящия с электрическими фонарями. Лошади бегут, привычно откидывая разбитыя ноги. Пьяно кричат кучера.
Мелькнул в окне мальчик с образом – томный, в шелковой рубашке.
Кареты, кареты… Много карет.
4. Мыло молодости
Это совсем маленькая история.
Жил один поэт, бедный как церковная мышь. Он отдал свои робкия песни людям. Газеты петитом напечатали заглавие его книжки, а поэт голодал…
Он умер зимою, в своей обледенелой мансарде и только цветы, разцветшие на разузоренных морозом стеклах, пели шопотливыя мессы над ним.
У другого был маленький морщинистый череп и пухлыя красныя руки. Он смешал толченый кирпич с духами и жиром и назвал это – Мылом Молодости. Его рекламы безстыдничали на заборах, сандвичи в торжественной процессии месили уличную грязь[2]2
…сандвичи в торжественной процессии — «Сандвичами» назывались в то время люди, расхаживавшие с надетыми на шею и прикрывавшими грудь и спину рекламными плакатами. Зачастую такие «сандвичи» вышагивали гуськом по центральным улицам.
[Закрыть].
– Мыло Молодости. Мыло Молодости.
Когда он умер, катафалк везли шесть лошадей и у факельщиков были белые цилиндры. – Ах! это хоронят знаменитаго изобретателя «Мыла Молодости», но – почему же нет музыки? – говорили в толпе.
* * *
Может быть жаль, что мы не хотим изобрести какое-нибудь мыло?
5. Девочка с собакой
Шел дождь и прохожие туманились в полосах изменчиваго света. Я заметил перед собою маленькую девочку с собакой. Девочка вела эту ленивую рыжую собаку на блестящей цепочке.
Кто-то толкнул девочку и, звякнув, цепь выпала из ея рук.
Я думал, – собака бросится, сбивая с ног испуганных людей, отбрасывая сильными ногами стальную цепочку.
Я думал, – собака унесется прыжками в туманныя поля и будет бежать, не отдыхая…
Собака ожидала маленькую госпожу, сидя в грязи на задних лапах. Девочка подняла цепь и оне пошли дальше.
6. Шутка смерти
Он оттолкнул покорную, как старая любовница жизнь, – разбив выстрелом свой череп.
«Мне скучно жить и все надоело» – писал он четкими буквами в предсмертной записке.
В мансардах, где живут маленькия модистки, поэты и рабочие, она убила себя. Она, эта веселая наивная девушка, жаждавшая смеха, танцев и солнца… Когда взломали дверь и потушили уголья на удушливо-раскаленной жаровне, девушка была уже мертва. В заледенелых пальчиках нашли записку:
– «Pierre не пошел со мною в театр, потому что я плохо одета. Я очень хочу жить, но у меня нет жакета новаго»…
Звякнула браслетами Смерть и намотала две серыя ниточки в ворох нитей на железных перчатках.
7. Оловянные солдатики
– Папа купи мне солдатиков – сказал ребенок, заглядывая в большое окно магазина игрушек.
За окном висели белые паяцы, румяныя куклы и стояли рядами солдатики в деревянных и оловянных мундирах с медными пуговицами.
Отец виновато зашептал, поправляя грязный шарф.
– Ну, детка – у нас нет хлеба, а тебе нужны солдатики.
И он опять протянул свою тонкую руку и просит однако, пряча глаза от прохожих.
– Подайте на хлеб. Подайте на хлеб.
– Папа, купи солдатиков… ты погляди, – у них красныя руки и румянец во всю щеку. Я оторву их круглыя глупыя головки и мы с тобой сварим горячий суп…
Какой-то господин в больших серых галошах, бросил в протянутую ладонь тусклую копейку.
8. Сентиментальность
Она вырывалась из рук дворников в шубах и те напрягали заскорузлые кулаки, тяжело дышали, натужив злобныя лица. Городовой не прикасается к ней. У городового на руках белыя, вязанныя перчатки и подбородок гладко выбрит. Проститутка кричит тяжелыя безстыдныя слова. Плюет в скуластыя лица, метя в свинцовыя, круглыя глаза…
Щенок вздрагивает ножкой, отрезанной у сгиба. Закатывает мутныя глазки и бьется головой о спокойно-блестящие рельсы.
Она подняла щенка и целовала, как мать, – его сухой, холодный носик. Густая кровь красными полосами бороздила руки, ползла на грязный шелк юбки.
9. На площадке
Острые, морозные щипки теребили уши, пеленал холодной паутиной мороз. Поезд шел полным ходом, выкидывая грязные темные клубы дыма. Я стоял на площадке. Хотелось качаться и вздрагивать в такт поезду и кричать что-нибудь смешливое и громкое бегущим серым полям.
На передней площадке стояла девушка.
Ея маленькая рука в золотисто-коричневой перчатке крепко держалась за обледенелую решетку. Я видел изгиб ея спины и волосы в инее розовом. Желтый башлык бился о чугун, трепетал пушистыми концами.
– Вероятно, у ней радостное молодое лицо, – у этой девушки.
Мелькнул ободок обручальнаго кольца, когда старая дама с красными мятыми цветами на черной шляпе, тронула девушку за рукав пальто. Девушка повернулась и я увидел ея лицо – немое и желтое с дымчатыми очками на глазах. И глаза были мутны, как студень, и, выгибались из под слипшихся век. В разрез пухлых губ обнажились мелкие черноватые зубы…
Старая дама увела ее в вагон – девушку, в золотистокоричневых перчатках.

ЦВЕТЫ ЯДОВИТЫЕ[3]3
Цветы ядовитые – аллюзия на Цветы зла (1857-61, расширенное посмертн. изд. 1868) Ш. Бодлера (1821–1867). Ср. позднее у Северянина «ядоцветы» в стих. Цветы и ядоцветы (1911).
[Закрыть]
Смерть
Кончилась черная месса в замковой часовне.
Колокольные звоны привычно бросали к ночи зовы гулко-звенящие. Тонкой вуалью вился ладан в корридорах стрельчатых и узких. И шли монахи. Монахи безшумные туда шли, где под шелками, в алькове холодном, король Франциск умирал.
В амбразурах окон, у кожаных обоев жалась толпа вассалов и камер-фрейлин. Монахи альков окружили и пели песнопенья, угрюмыя, как дождь осенний. К окнам цветистым льнули колокольные зовы, привычные.
Лицо восковое зажглося словами. Рукой отстраняя руки хирурга, с постели убранной поднимался король Франциск. И говорил он:
«Прочь. Уходите вы – прочь, птицы черныя с головами голубых мертвецов. Мы не хотим ваших гнусавых молитв… И завтра пусть будет повешен под колокольней звонарь. Безпокойный звонарь… Слушайте. Мы – говорим вам»…
И рыцарь поднялся и сел на постели. Теплая кровь змеею сбежала с уголка губ и расползлася в платке.
«Мы говорим вам… Огни зажгите. Море огня. И принесите ядовито-прекрасных цветов, зачавших цвет свой в влажной тьме оранжереи. И расцветите ими наш скорбный альков.
Пусть смеются сладострастно-визгливыя скрипки. Буйно трепещет орган. А вы пляшите, пляшите так же, как вы плясали на нашей свадьбе. Мы бал даем… Последний».
И бал начался. Загорелись призывами страстными скрипки, им вторил насмешливо-угрюмо орган. Орган им вторил раскатами смеха, трепетом мощным.
Звоны глухие, тьму призывавшие, застыли, прервались.
Бал начался. Огнями залитыя, убитыя смехом музыки – сжались тени. Ушли. С ними монахи ушли, бормоча молитвы и заклинания против сатаны.
Танцы дрожали. Горели огни. Серебрянно разсыпался смех. Свистом холодным свистели платья камер-фрейлин, и бряцали шпоры. Бал вырос, хохотом хмельным хохотал…
В алькове, цветами усыпанном – цветами увядшими, труп вытянулся. Скользкий и твердый.
Черноокий вампир
Дождь бился в пляске дикой. Скакал по острым черепичным крышам. Ветер с разбега бил в дрожащия стекла. Мигали насмешливо тьме – огни запоздалые ночи.
Он в дверь постучал.
В дверь, обитую шубою волка, с шкуркою крысы в углу. Засовы скрипели, засовы ржавые. Голос скрипучий ему кричал. Голос скрипучий, как ржавые засовы:
«Бездомник. Что надо от меня?.. Ты – кто?»
«Ведь, знаешь… Ну, – отворяй же!»
Под сводом, низким, в корридоре, смердящем крысами – толкнул он другую дверь…
У камина, где красным золотом пылали раскаленные угли, в кресле костлявом, сидела старуха. Старуха сидела с лицом посинелым, с губами, горевшими кровью. Кот черный, метая искры, терся о плечи. Спокойно смеялись зеленые глаза. Спина изогнулась.
– Ты ко мне? Зачем?
– Послушай… Послушай, старуха. Ночью вчера я увидел коня у мостов. К нему подошел и вскочил. И понесся… Перед дверью твоей – конь сгинул. Я стукнул к тебе. Ты послушай… Когда вечер бредет по болотам в синем пологе я видел ее. Женщину видел. Каждый вечер в саду моем, на мраморной скамье. Серая женщина, в мехе крысином, с телом змеи уползающей. И глаза ея – черныя звезды. Оне пьют мою кровь – черныя звезды. Я боюсь. Послушай, старуха, – боюсь я!..
Кот фыркнул глумливо. Отошел. Тухли, пылали, золотом красным, угли. Дождь плясал на свинцовых переплетах уснувших окон.
Хохотом – визгом крысиным – старуха смеялась:
«Мой милый, жених мой пришел»…
…В саду вечернем, в синем тумане, сидит на мраморной скамье – женщина в мехе крысином…
Он крикнуть хотел – беззвучно шептал он. Уста старушечьи впилися в белую шею его.
У канала
У канала решетки чугунный уползают в зев арки моста. Туман безглазый ползет у канала, когда уходит ночь, и видится разсвет. Клубится гривами туман зловонный.
В тумане я видел трех женщин.
Трех женщин белых на мосту я видел. Отвислыя груди, с сосцами припухшими, и рты гнилые…
Шепчутся оне. Оне слепыя. И шопот их в моей душе качается неслышно.
О трех кладбищах оне шептали. От трех ворот городских вместе с туманом пришли и шептали…
…Кости трушатся в могилах. Узкие черви ворошатся в липком мозгу. Девичьи очи в могилах зияют провалом немым. Мясо смердит и плеснеет… Сердца же людския теплы и вкусом прекрасны – шептали оне. И улыбкой дышали прогнившие рты…
* * *
Не ходите к каналу тому. На разсвете спите. Спите снами юными, вешними, робкими.
Ночь
В ночи я шел безголосыми улицами. Кривыми, узко-извилистыми, тупыми. Улицами, умершими в мраке. Только в просветы между сцепившихся крыш луна бросала холод стали голубой.
Тени двигались у стен домов. Зловеще ждали в воротах темных. Люди давно уснули в жарких альковах, под ватной, красною периной.
Толстые люди – на маленьких ножках.
Дома проснулись. Жили дома, нависшие тяжко. Тысячи глаз следят за шагами моими. За каждым движением следят дома и ненавидят. И раздавить хотят…
Я вышел за город – в поле, пронзенное иглами смерти. Завороженное нитями лунными. Шел и услышал бег за собою. Упорный, мерный и тяжелый. И оглянуться назад уже не мог… Мне страшно. Побежал.
Я знаю… Двинулись мерно дома – большие, тяжелые, легкие. Дыхание слышу – это дышет прерывисто маленький дом. Деревянный стоял он на угрюмом углу улицы грязной. Он стучит, как трещеткой, дребезжащими, старыми досками… Мне страшно.
И чувствую, ближе к луне я поднялся. Над домами, на воздух. Нет, о, нет! Я бегу по земле, а на встречу – луна. Мне на встречу луна крадется старушечьими шагами. Серая она, с глазами рыб сонных. Поцелуйной улыбкой сжались уста. Улыбкой гадкой и развратно-прекрасной…
И в уста изумрудные твердые целовал я ее.
Белый дворец
В саду старинном, над обрывом, в кружевах ветвей сплетенных, горит колоннада – когда горит солнце. Когда горит солнце – горят бриллиантовыя слезы на стеклянных дверях дворца над обрывом. Когда тонкоголосо поют за рекою, когда гонят домой золотыя стада, стада курчавыя в золотисто-розовой пыли – юные входят в дворец над обрывом.
В Белый Дворец – над обрывом.
На длинном столе, убранном скатертью белой – бокалы с вином. Бокалы узкие с вином огнистым и черным, как крик между стен.
Они приходят в зеленых камзолах, в серебряных кудрях душистых париков и пьют вино. Бледнеют молча. И ждут, когда на курантах блестящих, высоких часы будут бить. Куранты стальные бьют только – 12.
В двенадцать часов из двери потайной идет воздушно Девушка чистая. Она танцует. Танцует между узкими бокалами, и сонной пляской ворожит. Без шума танцует Девушка чистая. Только груди трепещут, как белыя птицы…
И юноши, в серебряных душистых париках, шепчут Ей шопотом робким и страстным – Ты для меня. Ко мне.
– Только ко мне.
Чистая Девушка звонко танцует. Груди трепещут. Искрятся голубыя руки. И в танце юноши бледные, в камзолах зеленых, слышат ответ музыкальный:
– Для никого – Я. Для никого – Я.
Невеста
В склепе, цепляясь мохнатыми ножками в щели осклизлых кирпичей, скользили мокрицы – и гробы стояли. Гробы стояли, опутанные паутиной жирной и серой.
И в склеп, под плиты соборныя, гроб опустили еще.
Этот гроб – был гроб невесты. Перед брачною ночью она умерла. Она лежала в фате венчальной с букетом ландышей из воска.
Когда сорвались с острой колокольни звоны усталые и замолчали – те, кто раньше лежали в склепе соборном, подошли к розово-белому гробу…
Старик-скелет, дрожа позвонками, шептал не шепча: «Ладаном пахнет. И свечами горючими. Хорошо как, – ладаном пахнет».
И все зашептались: – «Хорошо как, – ладаном пахнет». А старуха в шелковых перчатках, в истлевших кружевах, лорнет навела и шепнула. Шепнула, могильных червей отряхая с губ липких.
«Но что же она не встает?.. Разбудите»… И разбудили ее. Она молчала, в фате венчальной, с букетом ландышей из воска. И плакала незримыми слезами. И пахло ладаном, нагаром свечей погребальных. Мертвецы, шелестя червями напухлыми, шептали ей не шепча:
«Ты плачешь. Не плачь. Мы найдем для тебя жениха»…
…Во фраке бальном, с засохшей хризантемой в петлице, череп изъеденный ей улыбнулся и протянул костлявохрустящую руку. И жадной улыбкой мертвеца отвечала невеста ему.
И пошли они, гадко прижавшись друг к другу, в тьму, где шуршали мокрицы безцветныя…

CLAMOR HARMONIAE[5]6
О, дай поцеловать мне темные зрачки твои, усталая ломовая лошадь – Ср. с общефутуристическим «хорошим отношением к лошадям» у В. Хлебникова, В. Маяковского, А. Фиолетова, В. Шершеневича и и т. д.
[Закрыть]
Я ласкаю нежныя кисти рук твоих и целую бледные суставы пальцев твоих, о сладчайший.
Я вдыхаю запах хитонов твоих, ароматных от вянущих лавров, влажной земли и роз багряных.
Я молюсь тебе, о, прекрасный, созданный мною.
Душа моя – миллионы изломленных, тревожных зеркал и в гранях зеркальных тускнеет вечность и отражают причудливыя очертания свои миры и вселенныя.
На утренней росе, когда рождается солнце в алом и дымном тумане, я бегу с седыми оленями к снеговым горам севера. И встречаю там богов моих, веселых и радостных. И смеюсь я там с ними и пляшу вместе с ними, розовея и пьянея от холода.
Я люблю их, ибо они, прекрасные, созданы мною.
Вот я иду, подымая ногою ворохи червонеющих листьев. Голодная ящерица уснула в валежнике и я буду ступать осторожно, чтобы не встревожить ее.
И буду целовать упавшее птичье перо и омывать себе руки пахучей росистой травою.
О, как прекрасна холодная зеленоватая плесень на стенах городских каналов и капли дождя на чугунных решетках.
Я подыму в пыли у дороги, придавленный и смятый тяжелым колесом, придорожный цветок и возьму его в грудь мою и он отдаст мне и мертвые лепестки свои и нити голубых и неясных жилок своих.
Бледную девочку с темным и печальным взглядом, встречу я на панелях города и буду венчать ее на призрачный трон белых стран моих, бледную девочку, маленькую королеву мою. И буду целовать ея грязный атласный башмак и золотистыя волосики на затылке.
Все мое и нет ничего кроме меня. Я создал вселенныя и я создам мириады вселенных ибо они во мне.
И вешняя лужа, в которой утонуло все небо с белыми купавами облак, – моя.
Вот я вижу землю и кажется она мне серым зерном, которое я могу сдунуть с ногтя моего, но на драгоценных пергаментах начертаю я тайны: знаки медно звучной поэмы моей о тревожной, увлажненной дымною кровью земле. Ибо я поэт.
Желтыя с синими жилками груди старухи прекрасны, как сосцы юной девушки, нежной, точно лесной снег, уснувший на тяжелых черных ветвях.
О, дай поцеловать мне темные зрачки твои, усталая ломовая лошадь[6]7
И. Северянин. Электрические стихи – Рец. посвящена брошюре И. Северянина Электрические стихи: Четвертая тетрадь 3-го т. стихов. Бр. 30 (СПб., 1911), куда вошли все указанные ниже стихотворения.
[Закрыть].
О, дай поцеловать мне серыя ладони твои печальный негр.
Меднозвучныя и тревожный, как гул набатов, поэмы сложу я тебе, о, человек.
И увидишь ты полыхание зарев и грохот ревущий органов и флейт ты услышишь, о, человек.

БЕЛЫЙ ПАЯЦ
Посвящается «Л»
С ним можно встретиться в глухом переулке предместья. Он в потертом драповом пальто, и его небритое горло обвязано красной фланелью. На сжатыя в больной гримасе губы, свисает острый и тонкий, как клюв коршуна, – нос. И весь он похож на коршуна.
…На море был, вероятно, – шторм. Ветер хлестал мокрым снегом черные заборы и шумно свистел в проволоке обледенелых проводов. Качались голыя ветви, грозя тьме, как чьи-то изогнутые и длинные пальцы. Снег таял на лице и слезился в стеклах фонарей.
Я заметил его в глухом переулке. У фонаря вспыхнула красная фланель его шарфа. Клювом спускался нос над острым подбородком. Метнулись в мою сторону темные глаза.
Ветер носил волны снега. Злые горбатые старики играли в прятки с черными ставнями домов, уносились бешенным хороводом во тьму, протяжно и жалобно стонали где– то за заборами у мертвых голых ветвей…
Он, кажется, пел, а может быть, он плакал – я не знаю.
Мы были одни в уснувших кварталах. Я, как вор, крался за ним по заборам, цепляясь пальцами за скользкия холодныя доски. Осторожно ступал в глубокий рыхлый снег и не отирал талых капель со лба и с губ. Я крался за ним.
Старики наметали ему в спину седыя космы колких и холодных волос. Они хотели подхватить его в бешеный хоровод, бросить в мертвые пустыри, чтобы там во тьме плясать над ним с кошачьим визгом и хохотом.
Мы вышли на набережную, где ветер шумнее свистал и хлестался. Далеко-далеко висел узкий контур моста, и играли пятна сторожевых огней – красныя и зеленыя.
Город притаился и спал безпокойным большим зверем. В угрюмом небе дремали бледныя зарева… Шторм вероятно в море, и жены рыбаков теперь молятся Пречистой Деве, вслушиваясь в глухой угрозовый прибой…
Я крался за ним. Он остановился у темной дощатой стены и нагибался, открывая маленькую дверь. Сгорбился и вошел. За стеной что-то хлопалось и трепетало, как большия крылья темной птицы. Я подполз близко к дверцам и холодными пальцами искал в ней какой-нибудь щели. Золотистая свето-полоска резнула глаза. Я взглянул за дверь… Это уборная балагана. Тусклое зеркало на кривом столе, в углы свалены пестрыя тряпки и мятыя платья с зелеными блестками. Трепетали, точно крылья птицы, мокрыя обледенелыя полотнища у входа в балаган. Еще сегодня днем здесь дребезжали и выли медныя трубы, барабаны грохотали и обмерзшия девушки в платьях с зелеными блестками зазывали толпу. У этих девушек тонкия прозрачныя плечики и губы синеют на бледных больных лицах…
Оплывшая свеча высекала каменным лицо того – похожаго на коршуна, – и его трепетная тень зыблилась на заиндевелых досках стены. Он сбросил свое драповое пальто и стоял весь в белом, – в широких одеждах паяца. Я видел, как он нагибался к свече, оправляя смятыя кружева просвечивающих рукавов, и черная тень росла и ломалась между балок потолка. Он нежданно повернул голову к дверке, за которою притаился я. Выбелено его лицо и алеет излом кровавых губ. Глаза темны, как провалы глухих переулков, где ночью гибнет случайный крик заблудившагося ребенка… Он стоял, как стоят паяцы на балаганных подмостках. И пел, но я не мог разслышать лихорадочных невнятных слов. Он кружился в истомном плавном танце и сжимал свои руки, точно покорное и гибкое женское тело. Раскланивался и хохотал. Хохотал и раскланивался.
Мне казалось, что провалы его глаз стерегут меня, что мне он поет лихорадочныя безумныя песни – белый паяц… Снег холодил грудь и живот. Я отполз от дощатой стены, вскочил и побежал не оглядываясь. И за мною гнался его хохот. А может быть, это хохотали одинокие злые старики, кружась над мертвыми пустырями?
Когда я бежал в занесенных снегом кварталах, – мне вспомнился больной коршун, котораго я видел в зверинце. Был знойный и душный день. Оранжевые прозрачные зонтики женщин пестрели в просветах зелени. Сыпучий желтый песок дорожек чуть-чуть отдавливал следы шагов. Я стоял у клетки больного коршуна. Он вцепился синеватыми когтями в чугунную решетку, и его круглые темные зрачки искали кого-то в знойном небе, – над толпою. Коршун безсильно бился у прутьев решетки, точно хотел взлететь и кинуться в холодные пропасти, разспластав сильныя крылья в свистящем воздухе…