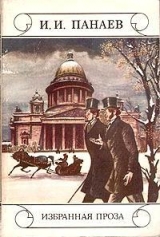
Текст книги "Раздел имения"
Автор книги: Иван Панаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Иван Иванович Панаев
Раздел имения
Отрывок (Из записок благонамеренного человека)
I
…Когда я подъезжал к своей деревне, вечер был ясный и тихий, а воздух растворен благоуханием, точно весною. По мере приближения моего к моему наследию мне все становилось приятнее, и даже лошадки мои стали пободрее: видно, они, сердечные, почуяли близость стойла. Доброй рысцой бежали они по узенькой гладкой проселочной дороге; пристяжные извивались в кольца и мордами задевали наливавшиеся колосья ржи и ячменя. Тот год был отменно урожайный. Любо было смотреть на полосатую степь, засеянную хлебами: рожь сияла, как золото, а подымалась в рост человеческий; ячмени же еще зеленые, но такие тучные, что в иных местах полегли от тяжести колосьев, а между ними красные полосы гречихи, покрытые сверху серебряными цветочками. Овсы были, правда, в тот год немного плоховаты. «Ну, да не все же вдруг, – подумал я, – и за то, что есть, надобно благодарить бога: все мы зависим от его правосудной воли. Он нас награждает, он и лишает нас, а ропот – есть грех…» Вот он, деревянный домик, немного нагнувшийся на одну сторону от ветхости, – место моего рождения; вот роща за этим домиком – место моих детских забав; вот речка Утка. Утка! Утка! в душный летний день я, бывало, купался в водах твоих! по твоей гладкой поверхности спускал кораблики! А этот густой восьмидесятилетний вяз перед домом… Господи! у меня так и забилось сердце, так и закапали слезы. Кибитка остановилась у подъезда, и я перекрестился.
Если бы обладал я самым бойким и красноречивым пером, и тогда не мог бы описать того, что почувствовал, войдя в комнаты, особенно в спальню матушки, где оставалось все, как было при ней. В углу старинный большой киот, и в нем образа в почерневших от копоти старинных ризах с каменьями; и перед каждым образом свеча желтого воска; диван работы домашнего столяра нашего, обитый ситцем с изображением памятника Минину и Пожарскому; шкап со стеклами, в котором стояли никогда не употреблявшиеся парадные чашки; круглое зеркало с голубем наверху…
Воспоминание охватило меня со всех сторон; но к приятности, ощущаемой мною, присоединилась грусть, потому что я в первый раз вполне постигнул невыгоду одиночества и то, что дом без хозяйки все равно, что тело без души. Пыль густым слоем покрывала мебель, а паутина висела около зеркала и киота.
В некотором волнении я вышел из дома прямо в рощу. Здесь каждое дерево, каждый куст были мне знакомы. Эта береза посажена дедушкой, этот клен – батюшкой, а этот куст – матушкой. Под этою сосною батюшка очень строго меня наказывал, за что матушка очень рассердилась на него; за этими кустами барбариса я прятался от своей няньки, которая оглашала всю рощу своими криками, зовя меня к маменьке учиться. «Отчего все прошедшее имеет такую необыкновенную приятность?» – подумал я.
Через два дня соседи мои узнали о моем приезде, а на третий день утром приехал ко мне врач нашего уездного города. Он был человек моих лет, из немцев, впрочем, только по имени и по фамилии, а по манерам и по всему нельзя было отличить его от нашего брата русского; рост имел средний, волосы темно-русые и карие глаза, которых зрачки бегали из стороны в сторону с неимоверною, можно сказать, быстротою, что всегда поражало меня в его физиономии.
О свойствах души его в то время я еще не знал ничего положительного; несмотря на то, мне казалось, что он человек кроткий и услужливый, почему я и принял его с изъявлением непритворного удовольствия. Обменявшись приветствиями, мы сели друг против друга.
– Что новенького, Христиан Францевич, в нашем уезде? – спросил я его.
Он вынул из кармана табакерку и предложил мне понюхать табаку.
– Новенького-с?.. Да. Старичка-то Коробова знавали вы али нет? Добрая был душа покойник! мы все по воскресеньям у него обедывали: я, исправник, судья и все наши. Бывало, тотчас после обедни и шлет за нами…
– Очень знал. Пользовался ихним вниманием. Ну, скажите, бога ради, что наследники-то склонились ли к полюбовному разделу?
– Пополам с грехом приступили к делу, и то за несколько дней до вашего приезда.
Правда, сундуков пять, шесть поразрыли. Комедия, я вам скажу! Меня тоже втянули: один из наследников, человек безответный и благонравный такой, не хотел лично связываться с своею роденькою, говорит: возьми от меня доверенность; делать нечего, думаю, и не хотелось, а взял… Как вы поживаете? Надолго ли к нам?
– Хотелось бы и подольше собственными глазами обозреть все. Но что делать? ведь нельзя: человек служащий, занимаешь пост. Нештатные чиновники совсем другое, и ответственности нет; им ничего, разница большая! А позвольте узнать, многие ли наследники налицо?
– Пять налицо, а три поверенных, в том числе и я. Дом-то небольшой, они там как пиявки в банке; впрочем, общий обеденный стол довольно хороший и вино петербургское. Покойник оставил богатейший погреб. Есть шампанское – рублей по 15 бутылка в Петербурге стоит, такого совсем розового цвета. Очень приятное вино.
– Знаете, Христиан Францевич, вино по комплекции: иное совсем пить не можешь, а другого сам желудок требует.
– Конечно… Наследники-то ни за что не приступили бы к полюбовному разделу, если бы не гражданская палата. Двухгодичный, положенный законами срок истекает: заплатить восемьдесят тысяч штрафа, так и в затылке зачешется; они же все такие, между нами будь сказано, скряги. Ихние дамы все лоскутки так и режут на мелкие части, настоящую лапшу делают. Шаль или английский платок попадется под руки – так и шаль, и платок пополам. Если бы не дамское дело, иной раз лопнул бы со смеха. Мы с Матвеем Ивановичем исподтишка над ними порядочно подтруниваем. Вы, может, изволите быть знакомы с Матвеем Ивановичем Лакаевым?
– В Петербурге я имел удовольствие встречаться с ним в одном доме.
– Он человек очень солидный и рассказывает, что часто награды по службе получает. Петр Петрович – самый меньший из наследников, который всегда живет в Петербурге, свистун, должно быть, какой-нибудь, – просил его приехать вместо себя на раздел и дал ему такую доверенность, что он по ней все может. Тонкий человек Матвей Иванович, хорошо свои дела обрабатывает.
– А Илья Петрович тоже поверенного прислали?
– Он сам и с супругой уже гораздо более двух месяцев здесь, и Марья Дмитриевна, вдова Гаврилы Петровича, Михаила Петрович с супругой, Николай Петрович, Федор Петрович…
– Так Илья Петрович здесь? Более мой, скажите! Мы ребятишками вместе с ним в лапту игрывали! Да и как играл он! Во всех гимнастических упражнениях он был у нас первый! Супруги его не имею удовольствия знать, братцев также не знаю, а его!.. на одной лавке сидели, Христиан Францевич! да ведь какой забавник был; зато и доставалось ему, бывало. Он, кажется, годками четырьмя постарше меня…
Давно не видал его… Что, он все такой же толстый?
– В корпусе толстоват, а лицо средственное, по препорции.
– Илья Петрович! Скажите! Любопытно взглянуть на него.
– Что ж? поедемте сегодня в Плющиху обедать. Несмотря на то, что мне необыкновенно хотелось увидеть Илью Петровича, я задумался при этом предложении.
«Обедать!» Строго соблюдая все приличия в продолжение всей моей жизни и будучи уверен, что от несоблюдения их и от необдуманности происходят по большей части наши различные неприятности и несчастия, после минуты молчания я отвечал:
– Не полагаю, чтобы приличие дозволяло ехать в первый раз обедать, не сделав сначала утреннего визита и не познакомившись предварительно с другими господами наследниками.
– Полноте, что за церемонии в деревне. Мы живем запросто, а вы привыкли к столичному этикету.
Замечание это показалось мне небезосновательным. Подумав немного, я убедился, что в деревне точно не может и не должно существовать такого строгого этикета, как в столице или губернском городе.
II
Плющиха находится в пяти верстах от моей деревни. Мы доехали скоро, тем более, что дорога шла под гору. Христиан Францевич первый вышел из брички и сделал, помнится, остроумное замечание насчет ветхих ступенек лестницы у подъезда дома.
Мы вошли в залу.
Надобно упомянуть, что до сей минуты ни разу еще не случалось мне лично находиться при каком-либо разделе; оттого зрелище, представившееся мне, оставило во мне сильное впечатление.
Зала была средней величины, продолговатая и невысокая, а оштукатуренный потолок и стены немного закопчены от времени; известно, что низкие комнаты всегда скорее коптятся. Во всю длину залы стоял стол простого дерева, на котором навалены были груды разных вещей, как то: старинные камзолы, обшитые позументом, бархатные и шелковые французские кафтаны, милиционные мундиры, панталоны – драдедамовые, плисовые, демикатонные и другие. В числе прочего заметил я несколько кусков холста, роброны, мантильи и прюнелевые башмаки на высоких и узких каблуках.
Кругом стола сидели наследники и наследницы; позади же их стульев стоял целый строй лакеев в длинных сюртуках из зеленого домашнего сукна. Лакеи эти были, как на подбор, все молодцы, плотные и высокого роста.
Раскланявшись на все стороны, я остановился, ища взорами Илью Петровича; но он предупредил меня, вскочил со стула и подбежал ко мне с распростерыми объятиями.
Лет семь не видал я Ильи Петровича. Он, показалось мне, много изменился: волосы на голове с затылка уже начинал зачесывать вверх, что придавало ему вид более степенный; в глазах его не было заметно той живости, которая всегда отличала его от других; по всему должно было заключить, что он был большой хозяин и что недаром прорезались на его лбу три глубокие складки. В корпусе он заметно потучнел, чему я, впрочем, нимало не удивился, убежден будучи несколькими примерами, что люди, оставившие службу и пользующиеся свободою и деревенским воздухом, в короткое время незаметно поправляют свое здоровье.
Три раза поцеловал меня Илья Петрович, не выпуская из своих объятий; потом минуты две молча и пристально смотрел на меня.
– Все такой же, как и был, – произнес он, – и глаза те же, и все, – разве что похудел только немножко. Душевно, братец, рад видеть тебя… Ну, а…
Но в эту минуту зазвенел тоненький, раздражительный голосок и прервал приветствие Ильи Петровича:
– Этот камзол надобно пополам: ведь он обшит не мишурным, а золотым позументом; позумент можно спороть и отдать на выжигу.
– Пополам, пополам, все пополам! – громким голосом закричал Илья Петрович, отвращая свои взоры от меня и обращаясь к столу.
Спинка камзола затрещала.
– Я старый солдат, – говорил Илья Петрович, обращаясь ко мне, – меня в этом не надуешь; я сумею отличить мишуру от золота. Помнишь, братец, как я надувал тебя в школе оладьями: сахаром посыплю, да и продаю по восьми гривен оладью? а?
– При этом Илья Петрович расхохотался. – Имею честь представить вам моего старого товарища и приятеля… Дашенька, ты, я думаю, по моим рассказам заочно знакома с ним?
Илья Петрович произнес мое имя, отчество и фамилию, обозрев своих родственников, сидевших вокруг стола. Дарья Яковлевна, которую он называл Дашенька, была его супруга.
Я, будучи в ту пору еще очень застенчив, молча ответствовал на приветствия и рукопожатия и подошел к ручке Дарьи Яковлевны.
– Позвольте вам рекомендовать себя, – сказала она мне с самою тончайшею светскою вежливостью.
Я поклонился, отошел от нее, взглянул прямо… И – минута важная в моей жизни! – глаза мои встретились, сам не знаю как, с прекрасными темно-карими глазами дамы в отличном чепце с розовыми лентами, сидевшей у стола вместе с прочими.
Нельзя описать, какое приятное ощущение разлилось по всей моей внутренности от одного ее взгляда. Магнетическое ли влияние, или другое что действует в таких случаях, не знаю: скажу только, что этот взгляд, скромный и приятный, видимо принимал участие в моей застенчивости и ободрял меня. Даме этой было на лицо лет около тридцати, – но об ней после.
– Недурно бы закусить, дружище! а у нас есть свежая икорка, – говорил Илья Петрович, – такой икорки и в Петербурге не найдешь. Мы, правда, закусили, да для тебя, пожалуй, закусим и в другой раз, – не беда. Фомка! к водке… Садиська, полюбуйся на наш дележ. В школе-то я деление знал плохо, а здесь немного понаучился.
Я сел. К слову скажу, что запах от залежавшегося в сундуках платья был резкий и неприятный; на меня, как пришедшего прямо с воздуха, этот запах подействовал, и я чихнул.
– Будьте здоровы! – раздался чей-то голос над самым ухом моим, и я почувствовал чью-то руку на моем правом плече. Оглянувшись, увидел я перед собою господина небольшого роста, немного сутуловатого, у которого голова, как я заметил впоследствии, имела изумительное свойство наклоняться и выдаваться вперед, прикасаясь теменем своим к сердцу того, с кем он разговаривал об интересных делах. Искусно сделанный парик, с небольшими завиточками, прикрывал его голову; большие черные глаза и бакенбарды, занимавшие по полущеке, придавали ему нечто мужественное; борода его, хотя тщательно выбритая, резко отделялась своею синевою от щек и лба. К нему очень шла табачного цвета с отливом венгерка, или, лучше сказать, архалук без аграманта и кистей, с крючками на груди; к этому архалуку пришиты были орденские ленточки, на которых висели два ордена средней величины и дворянская медаль. – Это был Матвей Иванович Лакаев.
Услышав приветствие его на мое чиханье, я, соблюдая светские приличия, встал со стула, поклонился и поблагодарил его, а он протянул мне свою руку и с большою приятностью сказал:
– Необыкновенно радостная встреча увидеть вас здесь совершенно неожиданно. Мы с вами в Петербурге имеем общих знакомых и часто, если изволите помнить, видались у его превосходительства Конона Карповича: могу сказать, что он истинный мой благодетель и, сам не знаю за что, любит меня и жалует; жена моя также вхожа к нему в дом; он и ее, и дочь мою ласкает, по доброте своей… А вы здесь, вероятно, изволите находиться по домашним обстоятельствам?
– Да-с, я приехал в отпуск: захотелось на свою деревню взглянуть. У меня матушка скончалась, так надо устроить хозяйство.
– Прекрасное, я вам скажу, дело. Хорошие места в окружности: ведь ваша деревня здесь поблизости? Скажите, пожалуйста, кто бы мог подумать, что мы с вами в такой отдаленности встретимся? Я тоже совсем нечаянно попал сюда. Петр Петрович просил убедительнейше принять доверенность, – я, по деликатности своей натуры, отказать ему в этом посовестился; выгоды же никакой нет, еще свои деньги проездишь…
Он говорил с большим чувством.
– Ах, какая вещица! – воскликнула дама с раздражительным голосом, отрыв в куче жилетов и других вещей веер, на коем довольно мило нарисованы были пастушки. – Хорошенькая вещица! – Говоря это, дама рассматривала веер и повевала им около своего лица.
Уездный лекарь вдруг обратился к ней и сказал ей с весьма неприличною улыбкою:
– А что, сударыня, и веер-то не разломать ли пополам?.. Все подробности этого дня сильно врезались в моей памяти, ибо день этот был решительным в моей жизни.
В эту самую минуту, когда Матвей Иванович, кончив разговор со мною, стал разговаривать с Христианом Францевичем, лакей на большом подносе принес завтрак, а другой за ним шел со штофом водки и с рюмкою. Илья Петрович вслед за водкою потащил меня в другую комнату.
– Вот, братец, жизнь, – говорил мне Илья Петрович, прихлебывая травник, – вот жизнь… а? что это такое? и обедаешь не в пору, и завтракаешь не вовремя. Все от этого раздела навыворот; не будь этого раздела, все шло бы своим чередом.
Черт знает, я сегодня в третий раз завтракаю. Спрашиваю тебя, братец, будешь ли тут обедать? Прежде четырех часов и не думай кончить то, что на столе навалено.
Вот тебе и жизнь!
К исходу четвертого часа стали, однако, постепенно убывать вещи, лежавшие на столе. Раздел был жеребьевый, а в жеребьевом разделе сначала делимые вещи приводятся в ценность, поровну раскладываются в кучи, по числу наследников, потом на каждую кучу кладется билетик с нумером; наконец свертываются соответственные этим билеты с нумерами, другие же с фамилиями наследников, – нумера кладутся в одну посудину, фамилии в другую и вынимаются обыкновенно посторонним лицом. Господин высокого роста, длинный, седой, в синем сюртуке по щиколотку, ловко свернул билеты в трубочки и положил их в попавшиеся ему под руку мою фуражку (при чем он извинился) и в картуз Христиана Францевича. Засим один из лакеев притащил в залу дворового мальчика с волосами цвета поспелой ржи, который, всхлипывая, смотрел исподлобья и утирал нос кулаком. Лакей подвел его к картузу и фуражке.
– Вынимай один билет прежде из картуза, а другой из фуражки, – сказал басом господин в синем сюртуке по щиколотку.
Мальчик заревел, опуская руку в картуз.
Когда все жеребья были вынуты мальчиком и он, немного успокоенный, хотел выйти из комнаты, чтобы скорее присоединиться к своим товарищам, которые с разинутыми ртами ожидали его на господском дворе, Матвей Иванович, вероятно, для доставления удовольствия обществу, подбежал к мальчику, сдернул с себя парик и начал делать перед ним разные гримасы. Все расхохотались, исключая меня и дамы с темно-карими глазами, у которой был чепец с розовыми лентами. Она даже не улыбнулась. Она поняла всю неприличность такого поступка. В самом деле, позволительно ли чиновнику в известных летах, имеющему уже знаки отличия, до такой степени унижать себя: прыгать перед глупым мальчишкой и строить из своего лица такие рожи, что иные маски благовиднее?
В четыре часа ни одной ниточки не оставалось на столе: все имущество, лежавшее в нем, разнесено было в восемь различных углов. Двенадцать лакеев раскладывали на этот стол скатерть, не совсем чистую и несколько дырявую; это мне показалось странным, но я узнал после, что столовое белье было все разделено и никакой общей, кроме этой, скатерти не оставалось. Как сию секунду вижу перед глазами лакея, захватившего несколько тарелок, споткнувшегося о порог буфета залы и уронившего две тарелки, которые разбились вдребезги с страшным шумом. Илья Петрович стоял в эту минуту возле меня и разговаривал со мною об устройстве риги. Рассердясь на неосторожность лакея, он перебил начатый им разговор, плюнул и сказал мне:
– Вот, братец, тебе и наследство: еще до раздела все перебьют, бестии! Что, у тебя где глаза-то, Васька? – закричал он, строго смотря на лакея.
– Во лбу, сударь, глаза… где же? – отвечал Васька. – Ведь я не ваш, а Петра Петровича. Еще от своего барина худого слова не слыхал, а вы… – И он продолжал ворчать, удаляясь в буфет.
– Будь он у меня в эскадроне, – говорил Илья Петрович, – Я бы его! показал бы ему Петра Петровича!.. Такая разнобоярщина, – в ус не дуют, грубияны!.. До обеда, я чай, не успеешь выкупаться, а жара, братец, такая, что черт знает, хоть целый день в воде сиди!
И точно, в тот год с июля месяца сделались необычайные жары, о чем сказано было, впрочем, и в «Брюсовом календаре». От продолжительной засухи все луга выгорели, так что, бывало, идешь по лугу, а нога скользит, как на паркете в комнатах нашего директора. Мух было столько, что боже упаси! от несносных мух мы не знали куда деться. Ничего нет неприятнее на свете этих насекомых. Часто думал я и теперь думаю, к чему служит существование таких гадин, как мухи, блохи и другие им подобные…
Едва сели мы за стол и только что я занес ко рту ложку супа, – глядь, а в супе барахтаются три мухи; едва Илья Петрович успел мне налить рюмку виссанта, вино цвета мутного и вкуса неприятного, – глядь, и в виссанте муха; но что было всего досаднее, я большой охотник до кваса, вот и налил я себе квасу, думая этим несколько освежиться от жара, – а вместе с квасом так и полились проклятые мухи.
Разговор за обедом касался большею частью предметов хозяйственных, толковали, однако, и о литературе немного. Я заговорил о «Благонамеренном». В то время еще Александр Ефимович Измайлов издавал «Благонамеренный» – журнал весьма хороший по-тогдашнему. (Нынче обо всем судят совершенно иначе и все старое почитают дурным.) Самое название журнала зарекомендовало публику в его пользу и ясно показывало намерение почтенного издателя. Во всех сочинениях прозаических или стихотворных, помещенных в «Благонамеренном», строго соблюдаема была моральная цель. Младшие писатели всегда имели глубокое почтение к старшим и без советов их и наставлений не печатали ни одного своего произведения. Горько каждому благомыслящему человеку, горько смотреть, что делается в наше время в литературе! мораль не уважают, и молодые писатели, пробующие еще только перо, с оскорбительными насмешками отзываются о почетных наших стихотворцах и прозаиках, тогда как достоинство их несомненно, ибо признано не только публикою, но и многими учеными обществами, в которых они состоят членами. Не стыжусь быть старовером и откровенно скажу, что новейшие стихотворения невозможно читать: в них нет никакой мысли и в выражении чувствований ни малейшей нежности, – все только одни картины, ни к чему не ведущие, из которых, как ни бейся, не извлечешь никакого поучения. Долго ли все это продолжится – не знаю; я не сочинитель, следовательно, в чужие дела вмешиваться не буду… Так я заговорил о «Благонамеренном» и к слову прочел оттуда стихи, всегда особенно нравившиеся мне, под заглавием: В альбом к запутанному в сети Амуру:
Под сению любви я проводил свой век,
Плененный красотой твоей, моя Пленира,
И дни мои Борей свирепый не пресек
Затем, что о тебе моя гремела лира.
И ныне вижу я, царица красоты,
Что сам Амур в тебя влюбился
И очутился
У ног твоих, неся в руке цветы!
Едва лишь на тебя малютка загляделся,
Своею сетью сам оделся
И уж с тех пор на миг тебя не покидал,
Твоим рабом божок крылатый стал,
Следя повсюду за тобою,
В деревне, в городе, – с колчаном и стрелою!
Чтец я был недурной, по уверению многих, и в этот раз во время декламации моей видел одобрение на многих лицах, особенно на лице той дамы, у которой были темно-карие глаза и чепец с розовыми лентами. Она с чувством ловила каждое слово стихотворения, и лицо ее с каждым стихом принимало более и более нежное выражение. По какому-то неясному движению сердца при стихе:
Твоим рабом божок крылатый стал – я обратился невольно к ней. Она закраснелась, потупила глаза в тарелку, поспешно взяла ножик и вилку и начала разрезать говядину под красным соусом.
– Какое милое эротическое стихотворение! – сказала она минуты через две, взглянув на меня с тою привлекательною застенчивостью, которая служит верным признаком хорошего воспитания.
Тонкое замечание дамы с темно-карими глазами заронилось мне в душу. «Каким изящным вкусом наделена она!» – подумал я.
После обеда я подошел к ней.
– Вы изволите быть охотницей до чтения? – спросил я ее.
– Это моя страсть, – отвечала она, – хозяйство и книги; я уж так была приучена с малолетства.
– Это похвально-с. («Она должна быть превосходной хозяйкой, это сейчас видно», – подумал я.) Ржаные хлеба что-то нынешний год совсем не удались, – произнес я после минуты молчания, – вот на яровые так нельзя пожаловаться.
– Уж ржаного хлеба нынче ни зерна не будет. Поверите ли, в Бакеевке, что мне теперь досталась, хоть шаром покати.
– Неужели Бакеевка вам досталась? – спросил я с радостным изумлением. – Моя Орловка только в четырех верстах от Бакеевки. Я должен благодарить судьбу за доставление мне такого соседства.
Она покраснела.
– Очень приятно, – сказала она, и каким голосом произнесено было «очень приятно»! – А вы на житье сюда или на время?
Зная, что по истечении отпуска я должен был отправиться в Петербург, я отвечал, сам не зная отчего, трепещущим голосом:
– Не знаю.
– После столичных увеселений и развлечений, – продолжала она, – наша деревенская жизнь покажется не такою деликатною. Это я знаю по собственному опыту, потому что прежде жила в столице. Провинция уж все провинция, как ни говорите.
– Деревня имеет свои приятности; воздух здесь совсем другой. Я так чувствую себя гораздо лучше на свежем воздухе, особенно когда можно отдохнуть после занятий по службе; к тому же уединение…
– В самом деле. Вы, верно, меланхолического расположения?
Меланхолического! это слово мне никогда не приходило в голову. Ведь именно я всегда был меланхолического расположения! Она угадала мой характер. Робость, которую я ощущал в присутствии женщины, в первый раз смешивалась во мне с какимто приятным ощущением, когда я был с нею: продолжить разговор я не мог, а мне хотелось постоять возле нее, послушать ее.
В эту минуту Илья Петрович ударил меня по плечу.
– Что, брат, уж ты познакомился с Марьей Дмитриевной? Вот счастливица-то у нас на разделе, стоит только задумать ей: хочу этого – и вернее смерти достанется это. Рекомендую вам его, Марья Дмитриевна. (Я поклонился и покраснел, она улыбнулась.) Ей-богу, славный малый, да и к тому же сосед вам. А скромник какой!
Бывало, я…
Есть люди, совершенно не умеющие вести себя при дамах и позволяющие себе говорить вещи, которые, по моему мнению, неприличны даже и в мужской компании.
Илья Петрович принадлежит к таким людям. Чтобы удержать в этот раз его нескромность, я кашлянул. Он заикнулся. К счастью, очень вовремя подошел к нему Христиан Францевич. Глаза доктора, по обыкновению, двигались из стороны в сторону, и правый глаз он прищуривал самым странным образом.
– А что, Илья Петрович, матрас в диванной на кушетке, обитый желтым ситцем, не нужен вам? Уступите-ка мне его без раздела, для тарантаса. Другие наследники все согласны. И Марья Дмитриевна, верно, согласится?
– С большим удовольствием, – отвечала она.
– Ну, уж я, черт возьми, не постою: уступать так уступать! – воскликнул Илья Петрович.
Доктор, кажется, был доволен.
Матвей Иванович подскользнул к нему. Он приветно погрозил ему пальцем.
– Умеете, Христиан Францевич, – заметил он, – и словцо ввернуть вовремя. Я так прошу-прошу Илью Петровича, чтобы согласился уступить мне кусок синей бомбы с цветами. Я, пожалуй, от денег не прочь, хоть сейчас выложу на стол. Оно не то чтобы какая-нибудь завидная материя, – старина, из моды вышла; дорогого купить не могу, а жене нужно гостинца купить. На что вам эта материя?
– Об этом мы с вами поговорим после. – Илья Петрович, сказав это, подмигнул мне.
– После, то-то после, Илья Петрович! – Он вынул из кармана, поморщиваясь, табакерку. – Не хотите ли табачку? Я всегда покупаю у Головкина, этот табак идет и в иностранные земли.
Возвратясь домой часу в десятом, я разделся и лег в постель, но долго не мог заснуть. Мне было как-то неловко, я с бока на бок ворочался беспрестанно. «За тридцать лет холостая жизнь – настоящее бремя! – подумал я, поправляя подушку.
– И приласкать некому!..»








